 |
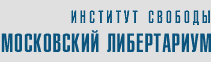 |
|
||
Контрреволюция науки (Этюды о злоупотреблениях разумом)Издание подготовлено к 100-летию Ф.Хайека и представляет интерес для экономистов, социологов, специалистов по теории и истории науки, а также всех тех, кто хотел бы лучше понять принципы организации и пути эволюции современного сложного общества. Переводчик: Е.И.Николаенко
© The University of Chicago Press Оглавление
Предисловие к немецкому изданию1959 Очерки, собранные в этом томе, написаны как часть более обширной работы, в которой (если только она когда-нибудь будет завершена) должна прослеживаться относящаяся к новому времени история злоупотреблений разумом и его упадка. Два первых очерка я написал в Лондоне, используя относительный досуг, предоставленный мне первыми годами прошедшей войны. Работая над ними, я полностью погрузился в эти весьма отвлеченные материи, что было реакцией на мое бессилие перед то и дело возобновлявшимися бомбардировками. Первые два очерка публиковались в журнале "Economica" на протяжений 1941--1944 гг. Третий, написанный позднее по подготовительным материалам к тогда же прочитанной лекции, был опубликован в июльском номере журнала "Measure" за 1951 г. Я благодарю редакторов обоих этих журналов, а также Лондонскую школу экономики и издательство "Генри Регнери" (Чикаго) за разрешение переиздать их практически без изменений. Мои труды над первоначальным планом были прерваны другими исследованиями, прямо к нему не относившимися, хотя и близкими тематически. Потом я почувствовал настоятельную необходимость обнародовать самое существенное из тех моих изысканий, из которых должна была составиться основная цепь доказательств во второй части задуманной мною более крупной работы об упадке разума. При этом мне становилось все яснее и яснее, что удовлетворительное выполнение моего первоначального плана потребует обширно философские .........., которым в те годы я и посвящал значительную часть времени. Так что когда мой американский издатель дружески предложил мне перепечатать настоящие очерки, я охотно согласился -- как потому, что они возбудили интерес публики, так и потому, что время, когда мне удалось бы осуществить надежду на публикацию задуманной работы целиком, так и не стало сколько-нибудь ближе. Ход рассуждений при таком фрагментарном изложении, само собой, зависит от более широкого контекста, которому они принадлежат. И потому читатель, надо полагать, одобрит краткое разъяснение, касающееся целей моего более обширного замысла. Публикуемым очеркам должно бы предшествовать исследование индивидуалистических теорий XVIII века. Некоторые его предварительные результаты были, между тем, представлены в первой главе моей книги "Индивидуализм и экономический порядок" (Individualism and Economic Order. Vhicago, Universityof Chicago Press, 1948). В первой части настоящей книги выявляются интеллектуальные истоки враждебности к такого рода индивидуализму. Историю развития этих взглядов, представляющуюся мне историей злоупотребления разумом, предполагалось затем проследить еще в четырех разделах. Вторая часть настоящей книги, посвященная ранней французской фазе рассматриваемого процесса, должна была стать первым из этих разделов, а третья -- началом второго раздела, посвященного дальнейшему развитию того же движения в Германии. Далее, соответственно, должен был следовать раздел об отступлении либерализма, имевшем место в Англии в конце XIX в. и происходившем преимущественно под французским и немецким интеллектуальным влиянием. И, наконец, предполагался раздел о ходе того же процесса в Соединенных Штатах. Эта общая картина все усиливающегося злоупотребления разумом, или же -- шествия социализма, должна была завершаться разговором о полном закате разума в условиях тоталитарного строя, будь то фашизм или коммунизм. Основные идеи из этой части предполагавшейся крупной работы были предварительно изложены в популярной форме в моей книге "Дорога к рабству" ("The Road to Serfdom. Chicago: Chicago University Press, 1944). Возможно, при переиздании этих очерков отдельной книгой мне не следовало придерживаться первоначально задуманного порядка их расположения. Представляя собой обстоятельное теоретическое введение, очерк "Сциентизм и изучение общества", пожалуй, лучше подходит для систематического исследования, а не для этого небольшого тома, в котором он может оказаться ненужным препятствием на пути к гораздо более простым историческим сюжетам, идущим вслед за ним. Поэтому читатель, не питающий особого пристрастия к абстрактным рассуждениям, поступит правильно, обратившись сначала ко второй части книги -- "Контрреволюция науки". После этого ему будет проще вникнуть в смысл абстрактных рассуждений о тех же самых проблемах в первой части. Мне остается добавить, что работа, частью которой является настоящая книга, не будет продолжена по первоначальному плану. Сейчас я надеюсь представить ту же систему идей в другой книге -- менее исторического и более теоретического характера. ... системы, всецело обязанные своим происхождением трудам тех усердных сочинителей, которые были искусны в одном способе объяснения, но ничего не смыслили в других; которые, следовательно, неизведанное в изучаемых явлениях объясняли через привычное; которые, по этой причине воспринимали метод методологий, дающий другим авторам основания лишь для немногих остроумных сближений как великую ось, вокруг которой вращается все. Ф. А. Хайек Предисловие к американскому изданию1952 Все очерки, собранные в настоящей книге, ранее уже публиковались по отдельности, причем нередко выходили с разрывом в несколько лет. Тем не менее все они образуют часть единого продуманного плана. Правда, при переиздании пришлось внести некоторые изменения в текст, дополнить его, где это было необходимо, но общая линия рассуждений осталась прежней. Расположение статей теперь упорядочено логикой развертывания нашей аргументации, тогда как при первой публикации порядок их следования был, скорее, случайным. Книгу открывает теоретическое обсуждение общих проблем, а затем показывается, какова была историческая роль рассматриваемых нами идей. Подобный порядок продиктован не педантизмом или желанием устранить излишние повторы, просто он, как мне кажется, необходим, чтобы можно было оценить подлинное значение той или иной идеи. Вполне понятно, что из-за этого книга начинается с самых сложных разделов и что было бы тактичнее и удобней, если бы разговор начинался с вещей более конкретных. Но мне хочется верить, что большинство читателей, интересующихся такого рода предметами, все же найдут предложенный порядок более уместным. А тому, кто не склонен к абстрактным рассуждениям, я советую начинать непосредственно со второй части, которая и дала название всей книге. И тогда, я надеюсь, общие рассуждения по тем же самым вопросам, содержащиеся в первой части, покажутся ему более интересными. Работы, составившие два первых и самых крупных раздела настоящей книги, публиковались по частям в журнале "Economica" в 1941--1944 гг. Третья часть, написанная как доклад в более позднее время, впервые появилась в журнале "Measure" (июнь, 1951), но подготовлена она по материалам, вобранным тогда же, когда шла работа над первыми двумя разделами. Я выражаю благодарность редакторам обоих журналов, а также Лондонской школе экономических и политических наук и Компании Генри Регнери (Чикаго) -- первым публикаторам статей, составивших настоящий сборник, -- за разрешение переиздать вышедшие у них работы. Ф. А. Хайек Часть первая. Сциентизм и изучение общества1. Влияние естественных наук на науки общественные В восемнадцатом и в начале девятнадцатого века изучение экономических и социальных явлений шло медленно и выбор методов диктовался прежде всего самой природой встающих перед исследователями проблем. [Это, впрочем, не вполне верно. Отдельные попытки "научного" истолкования общественных явлений, получившие столь большое распространение во второй половине XIX в., предпринимались и в XVIII в. По крайней мере, в работах Монтескье и физиократов явственно ощутимы элементы сциентизма. Однако ученых, внесших особенно весомый вклад в развитие общественных наук: Кантильона и Юма, Тюрго и Адама Смита -- это совершенно не затронуло.] Приемы, подходящие для изучения этих проблем, совершенствовались постепенно, без особой рефлексии по поводу характера применяемых методов и их соотношения с методами других дисциплин. Занимавшиеся политической экономией могли описывать ее как отрасль либо науки, либо нравственной или социальной философии, нимало не заботясь о том, является ли их предмет научным или философским. Термину "наука" еще не придавали такого узкого значения, как сегодня [Самый ранний пример современного узкого понимания термина "наука" встречается в толковом "Новом словаре английского языка" Мюррея, вышедшем в 1897 (Murray. New English Dictionary. 1897). Но, возможно, прав Т. Мерц (Т. Mertz. History of European Thought in the Nineteenth Century. l896, vol. 1. p. 89), утверждающий, что слово "наука" приобрело свое современное значение уже к моменту создания Британской ассоциации по развитию науки (1831 г.).]; не существовало и того различия, благодаря которому выделились и удостоились особенной чести естественные, или физические науки. Посвящая себя этим отраслям, исследователи, когда им приходилось касаться более общих аспектов изучаемых проблем, охотно определяли свой предмет как "философский" [см., например: J. Dalton. New System of Chemical Phylosophy. 1808; Lamarck. Phylosophie Zoologique. 1809; Fourcroy. Phylosophie chimique. 1806];3 a иногда мы даже встречаем словосочетание "естественная философия" в противопоставлении "моральным наукам". Новое отношение к науке начинает складываться в первой половине девятнадцатого века. Все чаще и чаще стали употреблять термин "наука", имея в виду только физические и биологические дисциплины, и в это же время они, как особо точные и достоверные, начали претендовать на место, выделяющее их среди всех остальных. Успехи этих дисциплин были таковы, что вскоре их исключительное обаяние подействовало на тех, кто, работая в других областях, начали быстро перенимать их доктрины и терминологию. Тогда-то и началась тирания Научных [слова "Наука", "Научный" мы будем писать с большой буквы везде, где нужно подчеркнуть, что они употребляются в своем "узком", современном значении], в узком смысле слова, методов и приемов над прочими дисциплинами. Последние принялись усиленно отстаивать свое равноправие, демонстрируя, что у них такие же методы, как и у их блестящих преуспевающих сестер, вместо того, чтобы постепенно вырабатывать методы, отвечающие специфике их собственных проблем. И, хотя стремление слепо подражать Научным методам, а не следовать духу Науки, господствует в общественных дисциплинах вот уже около ста двадцати лет, нельзя сказать, что оно сколько-нибудь помогло нам разобраться в общественных явлениях, -- ведь оно до сих пор способствует путанице и дискредитации работ по изучению общества, да к тому же требования продолжать подобного рода попытки и теперь еще преподносятся как самое последнее революционное новшество, способное, если будет принято, быстро повести к невообразимому прогрессу. Следует, впрочем, сразу же сказать, что те из требовавших, чьи голоса звучали громче всего, крайне редко оказывались людьми, внесшими заметный вклад в развитие Науки. Начиная с Френсиса Бэкона, лорд-канцлера, который навсегда останется классическим примером "демагога от науки", как его справедливо назвали и кончая Огюстом Контом и "физикалистами" наших дней, об исключительных достоинствах специальных методов, используемых естествознанием, заявляют по большей части те, чье право говорить от имени ученых совсем не бесспорно -- то есть люди на деле много раз проявлявшие в вопросах, касающихся естественных Наук, такую же фанатическую приверженность предрассудкам, как и в других областях. Догматизм, помешавший Френсису Бэкону принять коперниковскую астрономию [см.: М. R. Cohen. The Myth about Bacon and the Inductive Method. "Scientific Monthly", 1926, vol. 23, p. 505] и заставивший Конта, утверждать, что всякие попытки слишком скрупулезного исследования явлений с помощью таких инструментов, как микроскоп, пагубны и должны пресекаться духовной властью позитивно организованного общества как способные опрокинуть законы позитивной науки, настолько часто подводил людей подобного склада в их собственных областях, что у нас не должно быть причин для очень уж большого почтения к их взглядам на проблемы, весьма далекие от сфер, их вдохновлявших. Существует еще одно обстоятельство, которое читателю нельзя упускать из вида в ходе последующего обсуждения. Методы, которые ученые или те, кто очарованы естественными науками, так часто пытались навязать наукам общественным, далеко не всегда были теми, какими естествоиспытатели на самом деле пользовались в собственной области -- часто они лишь представлялись им таковыми. Это совсем не обязательно одно и то же. Ученый, теоретизирующий о применяемых им процедурах и пытающийся их осмыслить, -- не всегда надежный проводник. На протяжении жизни последних нескольких поколений взгляды на Научный метод неоднократно менялись под влиянием интеллектуальной моды, хотя нельзя не признать, что методы, которые использовались на деле, остались по существу теми же. Но, поскольку на общественные науки влияло именно то, какие представления о своей деятельности имели ученые, и даже то, каких взглядов они придерживались когда-то в прошлом, наши последующие соображения, касающиеся методов естествознания, также необязательно будут содержать точную оценку того, что фактически делается учеными; речь скорее пойдет о господствовавших в последнее время взглядах на природу научного метода. История этого влияния, каналы его распространения направление придавало социальным изменениям -- все это будет предметом для серии наших исторических этюдов, введением к которой призван послужить настоящий очерк. Прежде чем проследить, как исторически складывалось это влияние и какие имело последствия, мы попытаемся дать здесь его общую характеристику и раскрыть природу проблем, порожденных злополучным и неправным распространением способов мышления, сложившихся в физике и биологии. Существует ряд характерных элементов такой позиции; с ними мы будем сталкиваться то и дело, и из-за их prima facie* <prima facie (лат.) -- на первый взгляд (здесь и далее сноски, отмеченные звездочками, сделаны переводчиком или редактором)>для убедительности следует рассмотреть их с особым вниманием. На отдельных исторических примерах не всегда удается проследить, как связаны с естественнонаучным образом мышления или чем обязаны ему типичные представления такого рода, тогда как систематическое обозрение облегчает подобную задачу. Вряд ли нужно подчеркивать, что мы не намерены говорить ничего направленного против применения Научных методов в собственно Научной сфере и не хотели бы возбудить ни малейшего сомнения в их ценности. Тем не менее, чтобы предотвратить какие бы то ни было недоразумения, всякий раз, когда речь будет идти не о духе беспристрастного исследования как тактовым, а о рабском подражании языку и методам Науки, мы будем говорить о сциентизме и о сциентистских предрассудках. Слова "сциентизм" и "сциентистский" уже достаточно привычны для английского языка [В "Новом словаре английского языка" Мюррея есть и "сциентизм", и "сциентистский"; первый объясняется как "манера выражаться, свойственная ученым", второй -- как "обладающий внешними признаками научности (имеет пренебрежительный оттенок)". Термины "натуралистический" и "механистический", часто употребляемые в аналогичном смысле, подходят меньше, поскольку наводят на ложные противопоставления.], однако на самом деле они заимствованы из французского, причем в последние годы они начали все больше приобретать в нем примерно тот же смысл, который будем придавать им и мы [см., например: J. Fiolle. Scientisme et science. Paris, 1936; A. Lalande. Vocabulaire technique et. critique de la philosophie. 4th ed., vol. 2, p. 740]. Нужно подчеркнуть, что мы будем употреблять эти термины для обозначения позиции, в буквальном смысле слова, конечно же, ненаучной, подразумевающей механический и некритичный перенос определенного образа мышления, сложившегося в одной области, в совершенно другие. В отличие от научного, сциентистский взгляд не является непредубежденным, напротив, это очень предубежденный подход, который еще до рассмотрения своего предмета претендует на точное знание того, каким способом его исследовать. [Возможно, следующее высказывание выдающегося физика поможет показать, как сильно страдают сами ученые-естествоиспытатели от тех же установок, из-за которых их влияние на другие науки приобрело столь губительный характер: "Трудно представить себе что-нибудь, более пронизанное научным фанатизмом, чем постулат, будто весь возможный опыт должен непременно укладываться в уже привычные рамки и вытекающее из этого требование, чтобы все объяснялось исключительно с помощью известных нам из повседневного опыта элементов. Подобная установка указывает на отсутствие воображения, тупость и умственную лень, и, если исходя из прагматических соображений ее и можно признать правомерной, то только для низших форм умственной деятельности (Р. W. Bridman. The Logic of Modern Physics. 1928, p. 46).] Было бы удобно иметь столь же подходящий термин для обозначения мыслительной установки, характерной для профессиональных инженеров, которая, будучи во многом весьма сродни сциентизму, все-таки отличается от него. Но мы собираемся рассматривать ее здесь в связи со сциентистской и, не имея в своем распоряжении одного столь же выразительного слова, будем вынуждены называть этот второй столь характерный для мышления XIX--XX веков элемент "инженерным складом ума". 2. Предмет и метод естественных наук Прежде чем мы сможем понять причины вторжения сциентизма в сферу общественных наук, нам следует попытаться понять, какую борьбу самой Науке пришлось вести против представлений и идей, так же мешавших ее прогрессу, как теперь угрожают помешать прогрессу общественных наук, сциентистские предрассудки. Хотя сегодня мы живем в атмосфере, при которой Научное мышление весьма заметно влияет на обыденные представления и на привычный ход мысли, нужно помнить, что в начале своего пути Науки должны были пробивать себе дорогу в мире, где основной для наших представлений служили по большей части наши отношения с другими людьми и истолкование их поступков. Вполне естественно, что в процессе этой борьбы, Наука, развив скорость, могла проскочить через рубеж и создать нынешнюю ситуацию, когда опасным стало, наоборот, господство сциентизма, мешающего прогрессу в познании общества. [О значении этого "закона инерции" в научной области и его последствиях для общественных дисциплин см.: Н. Munsterberg. Grundzuge der Psycliologie. 1909, vol. I, p. 137; E. Bernheim. Lehrbuch der historischen Methode und Geschichtsphilosophie, 5th ed. 1908, p. 144; L. v. Mises. Nationalokonomie. 1940, p. 24. Тот факт, что мы, как правило, стараемся объяснить с помощью нового принципа слишком многое, возможно, более нагляден в случае с отдельными научными доктринами, чем с Наукой как таковой. Закон всемирного тяготения и эволюция, принцип относительности и психоанализ -- все переживало периоды явного злоупотребления, распространяясь на те области, к которым эти открытия не имеют отношения. В свете всего этого опыта неудивительно, что вся Наука претерпевала подобное явление даже дольше и что его последствия имели еще большее значение.] Но даже при том, что ныне маятник совершенно явно откачнулся в обратную сторону, мы только запутаемся, если не сможем разобраться с теми факторами, из-за которых создалось такое положение и которые делают его правомерным в собственно Научной сфере. На пути становления современной Науки было три главных препятствия, с которыми она боролась с самого своего рождения в эпоху Ренессанса, и почти вся история ее развития есть последовательное преодоление ею этих трудностей. Первая, хотя и не самая главная, из них заключалась в том, что по ряду причин в ученой среде укоренилось обыкновение посвящать самую значительную часть усилий анализу чужих взглядов -- и не только потому, что в самых развитых тогда дисциплинах, таких как богословие и юриспруденция, это и было предметом исследования, но больше даже потому, что во времена упадка Науки в Средние века, пожалуй, и не существовало лучшего способа постижения природы, чем изучение работ великих людей прошлого. Более важным было другое -- вера, что "идеи" вещей обладают некой трансцедентальной реальностью и что, анализируя идеи, мы можем кое-что, если не все, узнать о свойствах реальных вещей. Третья и, возможно, главная трудность -- это то, что человек начал составлять себе понятие обо всех событиях внешнего мира, исходя из собственного образа, как если бы все было наделено душою и умом, подобными его собственным, и что естественные науки из-за этого постоянно сталкивались с объяснениями, построенными по аналогии с работой человеческого ума, с "антропоморфными", или "анимистическими", теориями, везде искавшими следы целенаправленного замысла и удовлетворявшимися обнаружением доказательств работы творящего разума. Новая Наука, сопротивляясь всему этому, упорно хотела заниматься "объективными фактами", прекратив изучение того, что думают о природе люди, и освободившись от отношения к уже имеющимся представлениям как к истинным образам реального мира и считала своим первейшим долгом опровергать любые теории, которые претендовали на объяснение явлений, приписывая их действию направляющего разума, похожего на наш собственный. Вместо этого главной ее задачей стало пересмотреть возникающие из нашего повседневного опыта представления и сформировать их заново на основе систематической проверки явлений -- чтобы уметь лучше видеть в частном случае проявленное или иной общей закономерности. Этот процесс привел к замене не только той предварительной классификации, которая основывалась на обыденных представлениях, но даже и тех первичных разграничений между различными объектами, которые фиксируются нашими органами восприятия, совершенно иным, новым способом упорядочения, или классификации, событий внешнего мира. Как самое крайнее проявление тенденции к отказу от всех антропоморфных элементов, когда речь идет о внешнем мире, возникло даже мнение, что требование "объяснения" само по себе основано на антропоморфной интерпретации событий и что единственная, к чему должна стремиться Наука -- это описание природы. [Насколько мне известно, такая точка зрения была впервые четко сформулирована немецким физиком Г. Киршхофом в его "Лекциях по математической физике; механика" (G. Kirchhoff. Vorlesungen uber die mathematische Physik; Mechanik. 1874, p. 1), а позже получила большую известность благодаря философии Эрнста Маха.] Как мы увидим, в первой части этого утверждения есть доля истины: ведь мы можем понимать и объяснять человеческую деятельность так, как было бы невозможно в случае с физическими явлениями, и поэтому термин "объяснять" продолжает нести смысловую нагрузку, недопустимую, когда речь идет о физических явлениях. [Слово "объяснять" -- это лишь один из многих важных примеров, когда естественные науки принуждены были использовать понятия, первоначально возникшие при описании гуманитарных явлений. "Закон" и "причина", "функция" и "порядок", "организм" и "организация" -- вот другие, столь же важные, примеры того, как Наука более или менее преуспела в освобождении слов от антропоморфных коннотаций; в тоже время другие примеры (в частности, случай с "целенаправленностью") покажут нам, что она, хотя и не может отказаться от некоторых терминов, все же не в состоянии очистить их полностью и потому не без оснований опасается ими пользоваться.] Действия других людей стали, по-видимому, тем опытом, который заставил впервые задать вопрос "почему?", и, хотя у человека было много времени для поисков ответа, он до сих пор не вполне понял [см.: Т. Percy Nunn. Antropomorphism and Physics. "Proceedings of the British Academy". 1922, vol. 13], что явлениям, не связанным с человеческими действиями, нельзя давать "объяснений" того же рода, как те, которыми он может удовлетворяться, когда речь идет о человеческих поступках. Хорошо известно, что обыденные представления не обеспечивают адекватной классификации окружающих нас вещей, из-за чего мы не имеем возможности установить общие правила их поведения при различных обстоятельствах, -- подобная задача требует замены таких представлений иной классификацией событий. Удивительной, однако, может показаться при этом мысль, что то, что справедливо для такого рода предварительных абстракций, в равной мере справедливо и для тех самых ощущений, которые многие из нас склонны считать конечной реальностью. Но, хоть и непривычно видеть Науку разрушающей и меняющей систему классификации, составленную с помощью наших ощущений, она занимается как раз этим. Наука начинается с уяснения того, что вещи, с нашей точки зрения одинаковые, не всегда ведут себя сходным образом, а поведение вещей, с виду разных, во всех прочих отношениях оказывается иногда одинаковым. Исходя из этого опыта, Наука упраздняет классификацию, опирающуюся на наши ощущения, и предлагает новую, которая группирует вместе не то, что выглядит похоже, а то, что ведет себя одинаково в сходных условиях. Хотя наивному уму свойственно предполагать, что внешние события, которые регистрируются нашими чувствами как одинаковые либо как разные, должны быть похожими либо различающимися не только тем, как они воздействуют на наши чувства, но и многим другим, систематическая Научная проверка показывает, что это далеко не всегда так. Наука то и дело показывает: "факты" не равнозначны "внешним проявлениям". Мы научаемся считать одинаковым или отличающимся не просто то, что одинаково или отличается по виду, запаху, на ощупь и т. д., но то, что регулярно встречается в одном и том же пространственном и временном контексте. И мы узнаем, что причиной одного и того же сочетания одновременно возникающих перцептов могут служить разные "факты" и что за разными комбинациями ощущений может стоять один и тот же "факт". Белый порошок, обладающий определенным весом и "фактурой", не имеющий ни вкуса, ни запаха, может оказаться чем угодно из целого ряда различных веществ -- в зависимости от того при каких условиях или в результате какой цепи событий он получается или что возникает при его взаимодействии с другими веществами. Словом, систематическое наблюдение за поведением объектов в разных условиях часто показывает, что вещи, представлявшиеся нашим чувствам разными, могут вести себя одинаково или, по меньшей мере, весьма похоже. Мы не только можем обнаружить, что при некоем освещении или после приема некоего препарата предмет, при других обстоятельствах казавшийся зеленым, выглядит, скажем, как голубой, либо увидеть овальную форму того, что под другим углом зрения казалось круглым, но обнаруживаем также и что явления, с виду столь же разные, как вода и лед, "на самом деле" представляют собой одну и ту же "вещь". Вот этот процесс переклассификации "объектов", уже как-то классифицированных нашими чувствами, эта замена системы "вторичных" качеств, основанной на сигналах, получаемых нашими чувствами извне, на новую классификацию, опирающуюся на сознательно устанавливаемые отношения между классами изучаемых явлений, возможно, и есть самый характерный аспект естественнонаучного метода. Вся история новой Науки -- это свидетельство прогресса в деле освобождения от естественной для нас классификации внешних сигналов вплоть до полного упразднения последних: "нынешняя стадия развития естественных наук такова, что стало невозможным говорить о наблюдаемом на языке, подходящем для чувственно воспринимаемого. Единственно подходящий для них язык -- это язык математики" [L. S. Stebbing. Thinking to Some Purpose. Pelican Books, 1939, p. 107. См. также: В. Russel. The Scientific Outlook. 1931, p. 85] -- то есть дисциплины, созданной, чтобы описывать комплексы отношений между элементами, ....... каких бы то ни было атрибутов, за исключением самих этих отношений. Если на первых порах новые элементы, с помощью которых "анализировался" физический мир, еще обладали "качествами", то есть мыслились как принципиально видимые или осязаемые, то ни электроны, ни волны, ни атомная структура, ни электромагнитные поля уже не могут быть адекватно представлены с помощью механических моделей. Новый мир, создаваемый в человеческом уме, состоящий исключительно из сущностей, недоступных нашему чувственному восприятию, тем не менее определенным образом связан с миром наших чувств. На деле он нужен, чтобы объяснять мир наших чувств. Мир Науки мог бы считаться чем-то вроде свода правил, позволяющих нам обнаруживать связи между различными комплексами чувственных восприятий. Но получалось, что попытки установить закономерности, управляющие воспринимаемыми нами явлениями, оставались неудачными до тех пор, пока мы принимали за воспринимаемые нами одновременно устойчивые комплексы чувственных качеств. Вместо них Наука создает новые сущности, "конструкты", которые могут быть определены только в терминах чувственных восприятий, получаемых от "того же" объекта при других обстоятельствах и в другое время, -- процедура, опирающаяся на постулат, что данный объект остается в определенном смысле тем же самым даже при изменении всех его чувственно воспринимаемых признаков. Иными словами, хотя естественнонаучные теории на теперешней стадии своего развития уже не могут формулироваться в терминах чувственных качеств, их значимость связана с тем, что мы получаем "ключ", правила, позволяющие нам переводить их на язык поддающихся восприятию явлений. Соотношение между современной естественнонаучной теорией и миром наших ощущений можно было бы сравнить с тем, как соотносятся между собой разные стадии "постижения" мертвого языка, существующего лишь в виде надписей, выполненных особыми значками. Сочетания различных символов, из которых состоят эти надписи и которые являются единственной формой бытия такого языка, подобны различным комбинациям чувственных качеств. Постигая язык, мы постепенно узнаем, что разные сочетания символов могут значить одно и то же и что в разных контекстах одна и та же группа символов может иметь разное значение. [Сравнение будет более точным, если предположить, что одновременно мы можем видеть лишь небольшие группы символов, скажем, отдельные слова, при том, что сами эти группы (слова или фразы) появляются перед нами в определенной временной последовательности -- так, как это действительно происходит при чтении.] Научаясь распознавать эти новые сущности, мы проникаем в новый мир, в котором элементарными единицами являются не буквы, и взаимоотношения между этими единицами подчиняются определенным законам, не выводимым из порядка чередования отдельных букв. Мы можем описать законы, которым подчиняются эти новые единицы, -- законы грамматики и все, что может быть выражено сочетаниями слов по этим законам ни разу не сославшись при этом на отдельные буквы или на принцип их соединения в знаки, то есть в целые слова. Можно, к примеру, знать все о грамматике китайского или греческого языка, знать значения всех слов в этих языках, не зная ни греческих букв, ни китайских иероглифов (или того, как произносятся греческие или китайские слова). Однако, если бы китайский (или греческий) язык существовал исключительно в записи соответствующими символами, все эти сведения были бы так же мало полезны, как и сведения о законах природы в терминах абстрактных сущностей, или конструктов, без знания правил перевода последних в высказывания о явлениях, доступных нашим чувствам. Как при нашем описании языковых структур нет необходимости в описании того, как те или иные сочетания букв (или звуков) складываются в различные единицы, так и в нашем теоретическом описании физического мира отсутствуют различные чувственные качества, через которые мы воспринимаем этот мир. Мы перестаем считать эти качества частью объекта и начинаем рассматривать их просто как способ спонтанного восприятия, или спонтанной классификации, внешних сигналов. [Давней загадки, каким чудом качества, прикрепленные, как предполагается, к объектам, пересылаются в мозг в виде неразличимых нервных импульсов разница состоит только в том, на какой орган они воздействуют), а затем преобразуются в мозгу обратно в первичные качества, попросту и не существует. У нас нет свидетельств в пользу предположения, что объекты внешнего мира соотносятся между собой именно так, как сообщают нам наши чувства. На деле мы часто получаем свидетельства об обратном.] Вопрос, почему человек классифицирует внешние сигналы именно этим, основанным на чувственно воспринимаемых качествах способом, нас здесь не интересует. [Можно, впрочем, заметить, что эта классификация, по-видимому, опирается на предсознательные сведения о тех отношениях во внешнем мире, которые имеют особое значение для существования человеческого организма в той среде, в какой происходило его развитие, и что она тесно связана с бесчисленными "условными рефлексами", приобретенными человеком в ходе его эволюции. Не исключено, что наша центральная нервная система классифицирует раздражители весьма "прагматично" в том смысле, что учитываются не все наблюдаемые отношения между внешними объектами, а выделяются только те отношения между внешним миром (в узком смысле) и нашим телом, которые в ходе эволюции оказались существенными для выживания человека как вида. Человеческий мозг, скажем, классифицирует внешние сигналы преимущественно по ассоциации с сигналами, поступающими при рефлекторной деятельности из различных частей человеческого тела, вызываемой этими же внешними раздражителями, но протекающей без участия головного мозга.] Есть только два связанных с этим момента, о которых надо кратко упомянуть теперь и к которым мы должны будем вернуться ниже. Во-первых, раз уж мы усвоили, что единообразие во взаимодействии объектов внешнего мира обнаруживается только, если сгруппировать их не так, как они предстают перед нашими органами чувств, то возникает настоящая проблема: почему они кажутся нам именно такими, а не иными, и особенно -- почему они кажутся одинаковыми разным людям? [Утверждая, будто разные люди классифицируют внешние сигналы "одинаково", мы имеем в виду не то, что отдельные чувственные качества одинаковы для разных людей (подобное заявление было бы бессмысленным), а то, что системы чувственных качеств у разных людей имеют общую структуру (являются гомеоморфными системами отношений).] Во-вторых, тот факт, что разными людьми разные вещи воспринимаются все-таки сходным, но не соответствующим никакому известному соотношению между этими вещами во внешнем мире, образом, должен рассматриваться как данный в опыте и весьма существенный: именно от него мы должны отталкиваться при всяком объяснении человеческого поведения. Нас не будут интересовать методы Науки сами по себе, и мы не можем углубляться в этот предмет. Нам хотелось подчеркнуть главное: то, что люди знают или думают либо о внешнем мире, либо о себе, их представления и даже субъективные особенности их чувственного восприятия, для Науки никогда не являются конечной реальностью, данными, из которых ей надлежит исходить. Науку занимает не то, что думают люди о мире и не то, как они в связи с этим себя ведут, а то, что они должны бы думать. Представления, которыми люди руководствуются в практической жизни, их понимание природы -- для ученого не более, чем предварительная ступень, и его задача -- изменить эту картину мира, изменить обиходные представления так, чтобы наши утверждения о новых классах событий могли стать более четкими и определенными. Об одном проистекающем отсюда следствии необходимо сказать несколько слов, учитывая его важность для дальнейшего обсуждения. Речь о том особом значении, которое имеют для естественных наук числовые выражения и количественные измерения. Многим представляется, что главный смысл этой количественной природы большинства естественных наук состоит в их большей точности. Это не так. Дело не только в том, чтобы повысить точность процедур (что возможно и без использования математической формы выражения), дело в самой сути процесса расщепления наших непосредственных чувственных данных и в замене описания в терминах чувственных качеств на описание в терминах элементов, не обладающих никакими иными атрибутами помимо отношений между самими этими элементами. Это -- неотъемлемая составная часть общего стремления отойти от имеющейся сегодня у человека картины мира, заменить классификацию событий, основанную на наших ощущениях, на другую, опирающуюся на отношения, устанавливаемые в результате систематических проверок и экспериментов. Вернемся теперь к нашему более общему выводу: мир, интересующий Науку, не есть мир наших представлений или даже чувств. Цель Науки -- по-новому организовать весь наш опыт взаимодействия с внешним миром, и для этого она должна не только перемоделировать наши представления, но также отказаться от чувственных качеств и заменить их иной классификацией событий. Картина мира, составленная человеком на практике и позволяющая ему достаточно хорошо ориентироваться в повседневной жизни, его представления и понятия являются для Науки не предметом изучения, а несовершенным инструментом, который предстоит улучшить. Науку как таковую не интересуют ни отношения человека с внешним миром, ни то, к каким действиям побуждает человека сложившийся у него взгляд на мир. Скорее, она и есть такое отношение, или, точнее, непрерывный процесс изменения такого отношения. Когда ученый подчеркивает, что он исследует объективные факты, это означает, что он пытается исследовать явления независимо от мыслей или действий людей по их поводу. В любом случае воззрение людей на внешний мир это для него стадия, которую надлежит преодолевать. Но что следует из того факта, что люди воспринимают мир и друг друга через ощущения и представления, организованные в ментальную структуру, общую для них всех? Что можно сказать о системе всей человеческой деятельности в ходе которой люди руководствуются доступными им знаниями, причем в любой момент времени весьма значительная часть этих знаний оказывается общей для большинства людей? Хотя Наука постоянно занята пересмотром имеющейся у человека картины внешнего мира и хотя с ее точки зрения эта картина не может не быть всего лишь предварительной, тот факт, что у человека есть отчетливая картина мира и что она в известном смысле одна и та же у всех, кого мы считаем разумными существами и кого в состоянии понять, имеет огромное значение и влечет за собой определенные следствия. Пока Наука не завершит (в буквальном смысле) свою работу и не объяснит все до единого протекающие в человеке интеллектуальные процессы, происходящее в нашем уме должно оставаться не только данность, ждущей объяснения, но также и данностью, на которую должно опираться объяснение человеческой деятельности, направляемой этими ментальными феноменами. Отсюда берет начало новый пучок проблем, которыми представители Науки непосредственно не занимаются. И вряд ли можно надеяться, что привычные для них специфические методы подойдут для решения этих проблем. Вопрос здесь не в том, насколько похожа на правду созданная человеком картина внешнего мира, а в том, как человек, действуя в соответствии со своими воззрениями и понятиями, выстраивает другой мир, частью которого он сам становится. При этом под "человеческими воззрениями и понятиями" мы подразумеваем не только знания об окружающем мире. Мы подразумеваем все знания и представления людей о самих себе, о других людях и о внешнем мире, короче -- все то, чем обусловлена их деятельность, в том числе и сама наука. Это та область, к которой обращаются социальные исследования, или "моральные науки". 3. Субъективный характер данных, с которыми имеют дело общественные науки Прежде чем мы перейдем к вопросу о влиянии сциентизма на изучение общества, имеет смысл сказать несколько слов о своеобразии предмета и методов социальных исследований. Исследования эти имеют дело не с отношениями между вещами, но с отношениями между людьми и вещами или людьми между собой. Они занимаются человеческой деятельностью, и ' их цель -- объяснять непреднамеренные, или непредумышленные результаты действий множества людей. Правда, не все отрасли знаний, интересующиеся жизнью людей в группах, поднимают проблемы, которые в сколько-нибудь существенной степени отличаются от проблематики естественных наук. По всей очевидности, распространение заразных болезней является проблемой, тесно связанной с жизнью человека в обществе, однако ее изучение не имеет той специфики, которая отличает социальные науки в более узком смысле слова. Так же и подход к изучению наследственности либо питания или к исследованию численности либо возрастного состава населения не слишком отличается от подхода к аналогичным исследованиям животных. [Впрочем, при попытке решить большую часть проблем из этой, последней, группы мы обнаруживаем, что это все-таки проблемы, характерные именно для социальных наук.] То же самое относится и к определенным разделам антропологи или этнографии -- в той мере, в какой они занимаются изучением физических свойств человек. Иными словами, существуют естественные науки о человеке, проблемы которых необязательно не поддаются решению с помощью естественнонаучных методов. Всякий раз, когда мы имеем дело с бессознательными рефлексами или процессами, протекающими в человеческом организме, ничто не мешает нам толковать и исследовать их "механистически", то есть видеть их причины в необъективно наблюдаемых внешних событиях, которые происходят независимо от того, заинтересован в них человек или нет и изменить которые человек не в силах. К тому же условия, при которых они происходят, можно установить с помощью наблюдения, обходясь без предположения, что наблюдаемый классифицирует внешние сигналы каким-то иным способом, чем описание в чисто физических терминах. Социальные -- в узком смысле слова, -- или "моральные", как их было принято называть когда-то, науки [в английском языке для обозначения социальных наук в том специфическом узком смысле, который интересует нас, теперь иногда употребляют немецкий термин Geisteswissenschaften (науки о духе); однако этот термин был предложен переводчиком "Логики" Дж. С. Милля с английского на немецкий для обозначения "моральных наук", и вряд ли стоит употреблять эту кальку, имея в своем распоряжении английский оригинал] занимаются сознательной (или же рефлективной) деятельностью человека, то есть его поступками, являющимися результатом выбора одной из нескольких возможных линий поведения, и здесь ситуация принципиально иная. Внешние сигналы, которые можно считать причинами или подводами для подобных действий, конечно же, тоже поддаются описанию в чисто физических терминах. Но если бы мы взялись таким же образом объяснять человеческую деятельность, это было бы самоограничением, поскольку мы задействовали бы далеко не все наши знания о ситуации. Мы предполагаем, что не потому что две вещи ведут себя одинаково по отношению к другим вещам, а потому, что они кажутся одинаковыми нам, вещи эти покажутся одинаковыми другим людям. Мы знаем, что люди могут одинаково реагировать на разные и согласно всем объективным тестам -- внешние сигналы, и возможно также, что их реакция на идентичные -- с физической точки зрения сигналы будет совершенно разной в зависимости от условий, при которых или момента, когда они подвергались этому воздействию. Иными словами, нам известно, что, принимая осознанные решения, человек классифицирует внешние сигналы таким способом, который известен нам исключительно из нашего собственного субъективного опыта подобной классификации. Мы считаем само собой разумеющимся, что вещи, представляющиеся нам одинаковыми или разными, представляются таковыми и другим, хотя эта уверенность не опирается ни на данные объективных проверок, ни на знание того, как эти вещи соотносятся с другими во внешнем мире. Наш подход основан на опыте, говорящем, что другие люди, как правило (хоть и не всегда -- но мы не ведем речи о дальтониках или сумасшедших), классифицируют свои чувственные впечатления так же, как мы. Но мы не просто знаем это. Было бы невозможно объяснить или понять человеческую деятельность, не пользуясь этим знанием. Ведь не потому люди ведут себя одинаково по отношению к некоторым вещам, что эти вещи тождественны в физическом смысле, а потому, что научились классифицировать их как относящиеся к одной группе, потому, что могут извлечь из них одинаковую пользу или ожидать от их использования эквивалентных результатов. Действительно, объекты социальной, или человеческой, деятельности, чаще всего не представляют собой "объективных фактов" в том специфическом, узком смысле, в каком этот термин используется Наукой, противопоставляющей "объективные факты" и "мнения", и вообще не могут быть описаны в физических терминах. Постольку, поскольку речь идет о человеческих действиях, вещи являют такими, какими считает их действующий человек. Лучше всего показать это на каком-либо примере. Подходит практически любой объект человеческой деятельности. Возьмем представление об "орудии", или "инструменте", причем все равно каком -- допустим, о молоте или о барометре. Эти представления, как легко заметить, нельзя счесть относящимися к "объективным фактам", то есть к вещам, не зависящим от того, что думают о них люди. Тщательный логический анализ этих представлений покажет, что любое из них отражает соотношение между несколькими (по крайней мере, тремя) условиями, одно из которых предусматривает наличие действующего или думающего человека, другое -- это желаемый или воображаемый результат, а третье -- это вещь в обычном смысле слова. Если читатель попробует дать определение, он быстро увидит, что тут невозможно обойтись без оборотов вроде "служащий для", "используемый для" или каких-то других выражений, указывающих на предназначение этого предмета. [По этой причине неоднократно предлагалось называть экономическую теорию и другие теоретические науки об обществе "телеологическими". Однако этот термин неточен, поскольку подводит к предположению, что не только действия отдельных людей, но также и создаваемые ими социальные структуры сознательно спроектированы кем-то ради какой-то цели. Отсюда прямая дорога либо к "объяснению" социальных явлений в терминах целей, установленных некой верховной силой, либо к противоположной и не менее пагубной ошибке, когда все социальные явления считаются результатом сознательного человеческого замысла, -- к "прагматическому" толкованию, которое вообще исключает реальное понимание этих явлений. Некоторые авторы, в частности О. Шпанн, использовали термин "телеологический", чтобы оправдать свои в высшей степени туманные метафизические спекуляции. Другие, например, К. Энглис, применяли его обоснованно, проводя четкое различие между телеологическими и нормативными науками (см., в частности, толковое обсуждение этой проблемы в: K. Englis. Teleologische Theorie der Wirtschaft. Brunn, 1930). И все же этот термин неудачен. Если уж название необходимо, то самым подходящим представляется термин "праксеологические" науки, предложенный А. Эсапинасом, принятый Т. Котарбиньским и Е. Слуцким, а в настоящее время широко применяемый окончательно разъяснившим его Л. фон Мизесом (l. v. Mises. Nationalokonomie. Geneva. 1940).] К тому же в определении, охватывающем все частные случаи данного класса предметов, не будет ссылок ни на материал, ни на форму, ни на какой бы то ни было другой физический признак. У обычного молота и парового молота или у барометра-анероида и ртутного барометра нет ничего общего, кроме цели,4 для которой предназначает их человек. [Несмотря на то, что подавляющее большинство объекту или событий, от которых зависит человеческая деятельность и которые поэтому следует определять, исходя не из их физических характеристик, а из отношения к ним людей, составляют средства для достижения каких-либо целей, это не значит, что их целенаправленный или "телеологический" характер всегда является самым существенным моментом в их определении. Цели человека, которым служат разные вещи, это самый важный, но все же не единственный вид человеческих установок, из которых составляется основа для классификации этих объектов. Призраки или дурные либо добрые предзнаменования точно так же относятся к классу событий, определяющих человеческую деятельность, хотя в них нет ничего физического и они никак не могут считаться инструментами человеческой деятельности.] Несомненно, что все это лишь отдельные примеры абстракций, которые, ничем не отличаясь от абстракций, принятых в естественных науках, подводят нас к обобщающим понятиям. Важно то, что они являются результатом абстрагирования от всех физических свойств, имеющихся у определяемых вещей и что определения должны строиться исключительно в терминах осознанного отношения человека к этим вещам. Существенная разница между двумя подходами станет ясной, если поразмыслить, скажем, о проблеме, стоящей перед археологом, который пытается установить, является ли то, что выглядит, как каменное орудие, действительно "артефактом", продуктом человеческого труда, или это просто результат игры стихийных сил. Решить это можно только одним способом: попытаться понять, как мыслил первобытный человек, попробовать представить себе, как он стал бы делать такое орудие. Если мы не всегда отдаем себе отчет в том, что именно так мы и поступаем в подобных случаях, неизбежно полагаясь при этом на наши собственные знания о том, как мыслит человек, то это происходит главным образом из-за невозможности представить наблюдателя, не наделенного человеческим умом и не интерпретирующего все увиденное в терминах своей собственной мыслительной деятельности. Мы не знаем лучшего способа выразить эту разницу в подходах естественных и социальных наук, чем назвать первые "объективными", а вторые -- "субъективными". Правда, эти термины неоднозначны и без приводимых ниже разъяснений могут быть неправильно поняты. В то время как для естествоиспытателей нет ничего проще, чем провести различие между объективными фактами и субъективными мнениями, в общественных науках сделать то же самое не так-то просто. Причина в том, что объекты, или "факты", социальных наук -- это и мнения тоже (конечно, не мнения ученых, занимающихся общественными явлениями, а мнения тех, чьими действиями и создается сам объект социальных исследований). И, стало быть, факты ученого-обществоведа в каком-то смысле не более "субъективны", чем факты естествознания, поскольку они не зависят от данного наблюдателя: то, что он изучает, не обусловлено его капризом или воображением, но так же, как в естественных науках, может наблюдаться разными людьми. Но в другом смысле -- в котором мы отделяем факты от мнений, факты социальных наук - это не что иное как мнения, взгляды людей, чьи действия мы изучаем. Они отличаются от фактов естественных наук тем, что представляют собой убеждения или мнения конкретных людей, убеждения, которые как раз и являются нашими данными, независимо от того, истинны они или ошибочны, и которые мы к тому же не можем наблюдать непосредственно в умах людей, но можем узнавать, исходя из их поступков и речей, просто потому, что наш ум похож на их. В том смысле, в каком противопоставление субъективного подхода социальных наук объективному подходу естественных проводится здесь, оно означает практически то же самое, что обычно подразумевают, говоря, что первые имеют дело прежде всего с явлениями, возникающими в отдельных умах, иначе говоря -- с мыслительными явлениями, а не непосредственно с явлениями материального мира. Они имеют дело с явлениями, которые могут быть поняты только потому, что предмет нашего исследования обладает умом, структурированным так же, как наш собственный. Что это именно так -- факт не менее эмпирический, чем наше знание о внешнем мире. Это видно не только из того, что мы способны общаться с другими людьми, -- мы действуем, исходя из этого знания, всякий раз, когда говорим или пишем; это подтверждают сами результаты наших исследований внешнего мира. До тех пор, пока существовало наивное предположение, что все чувственные качества (или их отношения), одинаковые для разных людей, свойственны внешнему миру, можно было утверждать, что наше знание о происходящем в других умах -- это не более, чем наше общее знание внешнего мира. Но, коль скоро мы поняли, что вещи, одинаковые или разные для наших чувств, кажутся нам таковыми не потому, что таково их соотношение в действительности, а только потому, что они так либо иначе воздействуют на наши чувства, тот факт, что человек классифицирует внешние сигналы именно таким, а не иным образом, становится существенным фактом нашего опыта. Пусть качества уходят из научной картины внешнего мира, они должны оставаться частью нашей научной картины человеческого разума. В самом деле, устранение качеств из нашей картины внешнего мира не означает, что их не "существует", это значит, что, когда мы изучаем качества, мы изучаем не физический мир, а человеческий ум. В некоторых случаях, например, когда мы отделяем "объективные" свойства вещей, которые проявляются в их отношениях между собой, от свойств, лишь атрибутируемых им человеком, возможно, будет предпочтительнее говорить не об "объективном" и "субъективном", поскольку слово "субъективный" звучит двусмысленно, а об "объективном" и "атрибутированном". Хотя, и слово "атрибутированный " подходит не всегда. Важная причина, по которой для интересующего нас противопоставления все-таки лучше оставить термины "объективный" и "субъективный", невзирая на их недостаточную точность, заключается в том, что большинство других имеющихся у нас терминов (скажем, "ментальный" и "материальный") еще сильнее, отягощено бременем метафизических ассоциаций и что, по крайней мере, в экономической науке [а также, насколько мне известно, в работах по физиологии] термин "субъективный" уже давно используется именно в том смысле, в каком мы применяем его здесь. Еще большее значение имеет то, что термин "субъективный" указывает на другой существенный факт, к которому нам еще предстоит обратиться: что знания и убеждения разных людей, хотя и имеют общую структуру, позволяющую им общаться, во многих отношениях все же неодинаковы, а часто и противоположны. Если бы мы могли допустить, что все знания и убеждения разных людей совпадают, или если бы предметом нашего изучения был некий единый разум, не имело бы никакого значения, как мы называли бы это: "объективным" фактом или же субъективным явлением. Но конкретное знание, которым руководствуется в своих действиях любая группа людей, никогда не существует как внутреннее противоречивое и согласованное целое. Оно существует только в рассеянном, неполном и несогласованном виде, в котором оно и пребывает во многих индивидуальных умах, и от рассеянности и несовершенства всякого знания как от двух основополагающих фактов должны отталкиваться социальные науки. То, от чего философы и логики часто с презрением отворачиваются как от "простого" несовершенства человеческого ума, для социальных наук делается решающим, центральным фактом. Позже мы увидим, что противоположная "абсолютистская" точка зрения -- будто знания, и прежде всего конкретные знания особенных обстоятельств, даны нам "объективно", то есть как бы одинаковы для всех людей, -- является в социальных науках источником постоянных ошибок. К "орудию" (или "инструменту"), использованному нами в качестве иллюстрации в разговоре об объектах человеческой деятельности, можно добавить аналогичные примеры из любой другой отрасли социальных исследований. "Слово" или "предложение", "преступление" или "наказание" [Социологи, убежденные, что "преступление" можно считать объективным фактом, если оно определяется как действия, за которыми следует наказание, явно пребывают в плену иллюзии. Подобное определение лишь отодвигает элемент субъективности на шаг назад, но не устраняет его. Наказание остается штукой субъективной, не поддающейся определению в объективных терминах. Если, например, мы видим, что всякий раз, когда кто-нибудь совершает определенный поступок, ему на шею вешают цепь, еще неизвестно, награждают его или наказывают.], -- это, разумеется, не объективные факты, если под последними понимается то, что можно определить, не обращаясь к нашему знанию о намерениях людей по отношению к ним. Это же утверждение справедливо для всех случаев, когда нужно объяснять человеческое поведение по отношению к вещам; эти вещи следует тогда определять не в терминах того, что мы бы выяснить о них, пользуясь объективными методами науки, но в терминах того, что думает о них человек действующий. Лекарство, скажем, или косметическое средство с точки зрения социального исследования -- это не то, что лечит недуг или помогает улучшить внешность, но то, что, по мнению людей, будет иметь такой эффект. От любых знаний об истинной природе материального предмета, обладателями которых можем оказаться мы, но которыми не обладают те люди, чьи действия мы хотим объяснить, будет не больше проку, чем от нашего личного неверия в силу магического заклинания в случае, если мы пытаемся понять поведение верящего в нее дикаря. Если при изучении современного общества окажется, что "законы природы", которые мы должны принимать за данность (поскольку представление о них влияет на действия людей), примерно совпадают с теми, что фигурируют в естественнонаучных трудах, мы, помня о разном характере этих законов в двух областях знания, должны рассматривать подобное обстоятельство как случайность. С точки зрения социальных исследований не имеет значения, истины или нет эти законы природы в объективном смысле, важно другое и только другое: считают ли их люди, исходят они из этого в своих действиях. Если в изучаемом нами обществе "научный" багаж включает убеждение, что земля не будет плодоносить до тех пор, пока не будут исполнены определенные обряды или произнесены определенные заклинания, нам следует считать это столь же важным, как и любой закон природы, который мы в настоящий момент считаем верным. И все "физические законы производства", которые мы встречаем, например, в экономической науке, не являются физическими законами в естественнонаучном смысле, а отражают представления людей о том, что им можно делать. Будучи справедливым для тех случаев, когда речь идет об отношении людей к вещам, это, конечно, еще более справедливо, когда мы говорим об отношениях людей между собой, отношениях, которые в рамках социальных исследований не могут быть описаны с помощью объективных терминов естественных наук, а могут описываться только в терминах человеческих представлений. Даже такое кажущееся чисто биологическим отношение, как отношение родителей к ребенку, при социальном исследовании не определяется, да и не может быть определено в физических терминах: поступки людей не зависят от того, ошибаются ли они, думая, что данный ребенок является их собственным отпрыском, или нет. Все это особенно наглядно проявляется на примере той из социальных наук, у которой имеется наиболее разработанный теоретический фундамент, а именно, на примере экономики. И, наверное, не будет преувеличением, если мы скажем, что на протяжении последних ста лет каждое серьезное открытие в экономической теории было шагом вперед в последовательном приложении субъективизма. [Возможно, наиболее последовательным в этом был Людвиг фон Мизес, и я считаю, что в большинстве своем особенности его воззрений, поначалу поражающие многих читателей своею странностью и кажущиеся неприемлемыми, могут быть объяснены тем, что в последовательной приверженности к субъективистскому подходу он намного опередил своих современников. Возможно, все характерные черты его теорий, начиная от теории денег (трудно поверить, что она создана в 1912 г.!) и кончая тем, что он сам назвал своим априоризмом, его воззрения на математическую экономику вообще и на измерение экономических явлений, в частности, как и его критика планирования, прямо (хотя, может быть, и не всегда с одинаковой неизбежностью) вытекают из этого центрального положения. См., в частности, его работы: Grundprobleme der Nationalokonomie. Jena, 1933 и Human Action. 1949.] Совершенно очевидно, что объекты экономической деятельности не поддаются определению в объективных терминах, что их можно определить, только ссылаясь на человеческие цели. Ни "товар", ни "экономическое благо", ни "продукты питания", ни "деньги" нельзя определить в физических терминах, а можно -- только в терминах человеческих представлений о вещах. Экономической теории нечего сказать о маленьких металлических кружочках, как можно было бы попытаться определить деньги с объективистской, или материалистической, точки зрения. Ей нечего сообщить о железе и стали, о лесе или нефти, о пшенице или яйцах как таковых. На самом деле история любого конкретного товара показывает, как в соответствии с переменами в человеческих знаниях одна и та же материальная вещь могла переходить из одной экономической категории в совсем другую. И никакая физика не поможет нам разобраться, чем заняты два человека: меняются ли они и торгуются, или же играют в какую-то игру или выполняют некий религиозный ритуал. Покуда мы не поймем, какой смысл вкладывают люди в свои действия, всякая попытка объяснить последних, то есть подвести их под правила, связывающие сходные ситуации со сходными действиями, обречена на провал. [Это было очень хорошо понятно некоторым ранним экономистам (но позднее попытки сделать экономическую теорию "объективной" по образцу естественных наук замутили это понимание). Фердинандо Галиани в своей работе "О деньгах" (F. Galiani. Della Moneta. 1751) подчеркивал, что "равными являются те вещи, которые дают равное удовлетворение тому, для кого они отказываются эквивалентны. Кто, следуя другим принципам, ищет равенства не в этом и ожидает обнаружить его в равенстве веса или во внешнем сходстве, тот, видно, мало что понимает в сути человеческой жизни. В качестве денежного эквивалента часто выступает листок бумаги, который отличается от металлических денег как по весу, так и по внешнему виду; с другой стороны, две монеты, равные по весу и составу и внешне похожие, часто оказываются неравноценными" (цитируется по: А. Е. Monroe. Early Economic Thought. 1930, p. 303).] Этот принципиально субъективный характер всей экономической теории, который выражен в ней гораздо более четко, чем в большинстве других общественных дисциплин [За исключением разве лингвистики, которая не без оснований может претендовать на то, что "она имеет стратегическую важность для развития методологии социальных наук" (Edward Sapir. Selected Writings. University of California Press, 1949, p. 166). Сапир, с работами которого в момент написания настоящего очерка я еще не был знаком, подчеркивает многие.... моменты, выделяемые и мною. Ср., например, "В человеческом опыте ни одна из сущностей не может быть адекватно определена как механическая сумма или как производное от физических свойств". Или: "Таким образом, все значимые сущности, известные из опыта, проходя через фильтр функционального или реляционного осмысления, подвергаются пересмотру и перестают выступать как физические данные" (ibid., p. 46).], но который, как я полагаю, свойствен всем социальным -- в узком смысле слова -- лучше всего показать, обратившись к любой из простейших экономических теорем, например, к так называемому закону ренты. В своей первоначальной форме это было некое утверждение об изменениях в ценности вещи, определенной в физических терминах, а именно -- земли. Утверждалось, собственно, что изменения в ценности товаров, производимых при использовании земли, приводит к значительно большим изменениям в ценности земли, чем в ценности других факторов, необходимых при производстве этих товаров. [В крайней рикардианской скорме этого закона утверждается, как известно, что изменение ценности продукта влияет только на ценность земли и никак не сказывается на ценности труда, участвующего в его создании. Эту форму (связанную с "объективной" теорией ценности Рикардо) можно рассматривать как частный случай более общего положения, сформулированного в тексте.] В такой формулировке закон представляет собой эмпирическое обобщение, в котором не говорится ни о том, почему, ни о том, при каких условиях это справедливо. В современной экономической науке ему на смену пришли два четких утверждения иного характера, которые вместе приводят к тому же выводу. Первое относится к области чистой экономической теории и гласит, что, если для производства какого-либо товара необходимо в тех или иных пропорциях тратить те или иные (ограниченные) ресурсы и один из этих ресурсов может использоваться при производстве только данного товара (или сравнительно малого количества товаров), а применимость прочих намного шире, то изменение в ценности продукта будет сказываться на ценности первого ресурса больше, чем на ценности остальных. Второе утверждение -- эмпирического характера, и состоит оно в том, что земля, как правило, относится к ресурсам первого типа и что, иными словами, людям гораздо проще найти новое применение своему труду, чем тому или иному участку земли. Первое из этих утверждений, как и все, высказываемые чистой экономической теорией, исходит из определенных установок людей по отношению к вещам и как таковое с необходимостью является истинным независимо от времени и места. Суть второго в том, что условия, постулируемые в первом утверждении, являются преобладающими для данного момента времени применительно к данному участку земли, сколь скоро люди, эту землю обрабатывающие, придерживаются определенных убеждений о ее полезности и о полезности других вещей, требующихся для ее возделывания. Будучи эмпирическим обобщением, это, конечно, может быть опровергнуто и будет часто опровергаться. Если, например, участок земли используется для выращивания неких специфических плодов, для чего требуются какие-то редкие навыки, то падение спроса на эти плоды может сказаться исключительно на заработной плате людей, обладающих этим специальным умением, а ценность земли останется практически неизменной. В такой ситуации "закон ренты" действует применительно к труду. Но когда мы задаемся вопросом насколько применим закон ренты к тому или иному случаю и почему никакая информация о физических свойствах земли, рабочей силы или продукта не поможет нам найти ответ. Он зависит от субъективных факторов, фигурирующих в теоретическом законе ренты, и предсказать, каким образом изменение в цене продукта скажется на ценах участвующих в его производстве ресурсов, можно только в том случае, если мы сумеем выяснить, каковы знания и убеждения людей, которых все это затрагивает. То, что справедливо по отношению к теории ренты, справедливо и для теории цены вообще: из нее мы ничего не узнаем о том, как ведут себя цены на железо или шерсть, или на вещи с такими-то и такими-то физическими свойствами, ибо она толкует только о вещах, к которым люди определенным образом относятся и которые определенным образом хотят использовать. И, стало быть, сколько бы новых знаний об интересующем нас благе мы (наблюдатели) ни получили, они не помогут нам разобраться с феноменом конкретной цены -- цены этого самого блага. Здесь могут пригодиться только дополнительные знания о том, что думают о нем люди, имеющие с ним дело. У нас нет возможности так же подробно обсуждать здесь более сложные явления, которыми занимается экономическая теория и прогресс в изучении которых, заметный в последние годы, был особенно тесно связан с утверждением субъективизма. Мы можем только указать на новые проблемы, которые при таком ходе развития становятся чуть ли не центральными. В их числе проблема совместимости намерений и ожиданий у разных людей пли же разделения знаний между ними, а также вопрос о том, каким образом приобретаются нужные знания и как формируются ожидания. [Подробнее об этих проблемах см. в: F. A. Hayek. Economics and Knowledge. "Economica", 1937 , February; повторная публикация в: F. A. Hayek. Individualism and Economic Order. Chicago, University of Chicago Press, 1948 <см. перевод Р. Капелюшникова "Экономическая теория и знание">.] Однако сейчас нас занимают не специфические проблемы экономической теории, а характерные особенности всех дисциплин, изучающих результаты сознательной человеческой деятельности. Мы хотим подчеркнуть два момента. Во-первых, все попытки объяснить эту деятельность должны отталкиваться от того, что люди думают и что они намереваются делать, то есть приниматься за отправную точку тот факт, что люди, образующие общество, руководствуются в своих действиях классификацией вещей или событий исходя из имеющей общую для всех них структуру системы чувственных качеств и представлений, причем эта система известна и нам, поскольку мы тоже люди. Во-вторых, конкретные знания, которыми располагают разные люди, могут очень существенно различаться. Не только действия людей по отношению к внешним объектам, но также все отношения между людьми и всеми социальными институтами могут быть поняты, только если исходить из того, что думают о них люди. Можно сказать, что общество, каким мы его знаем, построено на представлениях и идеях людей, и социальные явления могут быть поняты нами и иметь для нас значение только в отраженном человеческими умами виде. Структура человеческого ума, общий для всех людей принцип классификации внешних событий, позволяет нам обнаружить повторяющиеся элементы, из которых строятся различные социальные структуры и в терминах которых только и можно описать и объяснить последние. [У Ланглуа и Сеньобо (С. V. Langlois, C. Seignobos. Introduction to the Study of History, trans. G. G. Berry. London, 1898, p. 218) читаем: "И действия, и слова обладают тем свойством, что каждое было действием или словом отдельного человека; наше воображение может представить себе только индивидуальные действия, копии тех, которые мы непосредственно наблюдаем. Поскольку это действия людей, живущих в обществе, большинство из них осуществляется одновременно несколькими людьми или совершается ради некой общей цели. Это коллективные действия; но в воображении, равно как и при непосредственном наблюдении, они всегда сводятся к сумме индивидуальных поступков. "Социальный факт", как понимают его некоторые социологи, есть философская конструкция, а не факт истории".] Хотя поднятия и идеи могут существовать, конечно же, только в индивидуальных умах (и, в частности, разные идеи могут подействовать одна на другую только в уме отдельного человека), все же не совокупность индивидуальных во всей сложности, а формирующиеся у людей мнения и индивидуальные мнения и представления друг о друге и вещах являют собой подлинные элементы социальной структуры. Если социальная структура остается неизменной, в то время как разные люди сменяют друг друга на том или ином месте, происходит это не потому, что сменяющие друг друга индивидуумы совершенно одинаковы, а потому, что новые, сменяя прежних, вступают в те же взаимосвязи, занимают то же определенное, положение по отношению к другим людям и сами становятся объектами определенного отношения с их стороны. Индивидуум -- это "узелок" человеческих взаимосвязей в переплетении того же, а повторяющиеся, узнаваемые и хорошо знакомые нам элементы социальной структуры суть именно разнообразные отношения индивидуумов друг к другу (или их сходные либо различные отношения к физическим объектам). Если один полицейский сменяет другого на определенном посту, это не значит, что новый будет во всем похож на своего предшественника, просто, сменяя его, новый полисмен оказывается в том же положении по отношению к окружающим и становится объектом тоже отношения с их стороны, прямосвязанного с исполнением им функций полицейского. Но этого оказывается достаточно для сохранения некоего постоянного структурного элементу который можно выделить и изучать изолированно. Хотя единственной причиной нашего умения распознавать эти элементы человеческих отношений является наше знание того, как работает наш собственный ум, смысл их соединения в ту или иную модель взаимосвязей между разными индивидуумами необязательно понятен нам с первого взгляда. Только благодаря систематическому и терпеливому проникновению в то, что стоит за определенными воззрениями множества людей, мы научаемся понимать, а то и всего лишь замечать, непреднамеренные и зачастую неосознаваемые результаты обособленных и, тем не менее, взаимосоотнесенных действий людей в обществе. Чтобы реконструировать эти разнообразные модели общественных отношений, мы должны не соотносить деятельность индивидуумов с объективными качествами тех лиц и тех вещей, на которые она направлена, а считать данностью представления о человеке и физическом мире тех людей, чьи действия мы пытаемся объяснять. Это следует из факта, что мотивом сознательной деятельности людей может быть только то, что они знают или во что верят. 4. Индивидуалистический, или "композитивный", метод общественных наук Здесь необходимо сделать небольшое отступление от основной линии рассуждений, чтобы предупредить возможность неправильных выводов из вышесказанного. Сделанный нами упор на тот факт, что в социальных науках сами наши данные, или "факты", -- это идеи и представления, не должен, разумеется, подниматься так, что это характерно для всех понятий, с какими приходится иметь дело социальным наукам. Если бы это было так, не было бы никакой возможности заниматься научной работой; социальные науки не отстают от естественных в стремлении к пересмотру сформировавшихся у людей обыденных представлений об объектах своего изучения и к замене этих представлений на более соответствующие. Специфические трудности и путаница во всем, что касается природы социальных наук, обусловлены именно тем, что идеи представляют здесь как бы в двух обличиях: и как то, что является частью изучаемого объекта, и как идеи об этом объекте. В то время как в естественных науках разница между объектом нашего изучения и нашим объяснением представляет собою различие между объективными фактами и идеями, в социальных науках необходимо различать идеи, конституирующие те явления, которые мы хотим объяснять, и идеи об этих явлениях, складывающиеся либо у нас самих, либо у тех самых людей, действия которых и подлежат объяснению, -- идеи, являющиеся не причиной образования социальных структур, но их теоретическим описанием. Эта специфическая для социальных наук трудность связана не только с тем, что приходится различать людские мнения (то есть предмет нашего изучения) и наши мнения о них, но также и с тем, что люди, которых мы изучаем не просто руководствуются идеями, но еще и формируют идеи о непреднамеренных результатах своих действий -- так возникают те обыденные теории о всевозможных социальных структурах, или формациях, которые разделяем и мы и которые мы, будучи исследователями, призваны пересматривать и совершенствовать. Опасность принять "понятия" (или "теории") за "факты" в социальных науках ничуть не меньше, чем в естественных, и неумение избежать ее приводило и те, и другие к одинаково тяжелым последствиям. [Замечательные рассуждения о влиянии концептуального реализма (Begriffsrealismes) на экономическую теорию читатель найдет в: W. Euckeii. The Foundations of Economics. London, 1950, p. 51 et seq.] Однако в социальных науках она лежит в иной плоскости, и в этом случае речь идет не просто о противопоставлении "идей" и "фактов". По существу противопоставляются идеи, которые, сложившись в головах людей, становятся причиной каких-то социальных явлений, и идеи, формируемые людьми для объяснения этих явлений. Нетрудно показать, что эти классы идей отличаются друг от друга (хотя в разных контекстах границ между ними, возможно, придется проводить по-разному. [Может оказаться, что в определенных контекстах понятия, в которых другие социальные науки видят не что иное, как теории, подлежащие пересмотру и совершенствованию, надо будет рассматривать как данные. Представим, например, некую "науку о политике", показывающую, к какого рода политическим действиям приводит распространение в массах тех или иных представлений о природе общества. Для такой науки представления людей выступали бы как данные. Но, хоть мы и должны, рассматривая поступки человека по отношению к социальным явлениям (иными словами, объясняя его политические действия), принимать его представления о том, как устроено общество, за данность, на другом уровне анализа мы можем задаться вопросом об их правильности или неправильности. Если некое общество убеждено, что его институты обязаны своим возникновением божественному промыслу, мы, объясняя политику такого общества, должны будем рассматривать это как факт; но это не вынуждает нас воздерживаться от попыток доказать, что подобное представление, по всей видимости, ошибочно.] Перемена мнения людей о том или ином товаре, которую мы считаем причиной изменения его цены, явно относится не к тому классу идей, к какому относятся идеи о причинах изменения цены или о "природе феномена ценности" вообще, могущие сложиться у этих же людей. Точно также мнения и представления, побуждающие многих регулярно повторять некоторые действия, скажем, производить, продавать или покупать некоторое количество товаров, не имеют ничего общего с идеями этих людей об "обществе" в целом, о той "экономической системе", в условиях которой они живут и которая есть результат сложения всех их действий. Мнения и представления первого типа составляют необходимое условие существования подобных "целостностей"; как мы уже говорили, эти идеи и мнения являются "конституирующими", неотъемлемыми элементами; существование того феномена, который люди именуют "обществом", или "экономической системой", без них невозможно, и в то же время он может существовать вне всякой зависимости от понятий о таких целостностях, складывающихся у люден. Это очень важно -- со всей тщательностью различать мотивирующие, или конституирующие, убеждения, с одной стороны, и спекулятивные, или объясняющие, представления людей о таких целостностях, с другой; путаница в таком вопросе есть источник постоянной опасности. Исследователь общества должен ясно понимать, что представления обывательского ума о таких "коллективностях", как общество или экономическая система, капитализм или империализм и тому подобные собирательные сущности, -- это не более чем пред-теории, и не должен принимать эти обыденные абстракции за факты. Последовательность, с какой он воздерживается от толкования подобных псевдосущностей как "фактов", и систематичность, с какой отталкивается только от тех представлений, которыми индивидуумы руководствуются в своих действиях, а не от тех, которые возникают в результате их теоретизирования по поводу собственных действий, являются характерными чертами методологического индивидуализма, тесно связанного с субъективизмом социальных наук. Сциентистский подход, напротив, боясь оттолкнуться от субъективных представлений, определяющих действия индивидуумов, постоянно, как мы вскоре увидим, впадает в ту самую ошибку, которой стремится избежать, то есть принимает за факты те коллективности, которые суть не более, чем обыденные обобщения. Стараясь не использовать в качестве данных представления сложившиеся у индивидуумов, в тех случаях, когда эти представления легко распознаются и кажутся именно тем, чем действительно являются, воспитанные в духе сциентизма люди часто и наивно принимают общеупотребительные отвлеченные понятия за непреложные факты того рода, который для них привычен. В одном из последующих разделов мы более подробно поговорим о природе этого коллективистского предрассудка, присущего сциентистскому подходу. Следует сделать еще несколько замечаний о том своеобразии теоретического метода социальных наук, которое обусловленное последовательным субъективизмом и индивидуализмом. Из факта, что нам дано неопосредованно знание именно о разделяемых индивидуумами представлениях и взглядах и что именно они образуют те элементы, из которых мы должны, так сказать, выстраивать более сложные явления, вытекает еще одно важное различие между методами общественных дисциплин и естественных наук. Когда речь идет об обществе, хорошо известными нам элементами являются именно установки индивидуумов и, комбинируя эти элементы, мы пытаемся воспроизводить сложные феномены -- результаты индивидуальных действий, о которых знаем гораздо меньше (процедура, нередко приводящая к открытию тех принципиальных структурных связей в сложных феноменах, которые путем прямого наблюдения не выявляются и не исключено, что и не могут быть выявлены). А физические науки вынуждены начинать со сложных явлений природы и движутся в обратном направлении с целью выделить составляющие элементы. Место человека в мироздании таково, что, обращая свою пытливость в одну сторону, он встречается со сравнительно сложными явлениями, которые анализирует, направляясь же в другую сторону, он получает в качестве данных лишь элементы, из которых состоят настолько сложные явления, что он не может наблюдать последние как целое. [В работе: L. Robbins. An Essay on the Nature and Singnificance of Economic Science. 1935, 2nd ed., p. 105, читаем: "В экономической теории ... конечные составные части наших фундаментальных обобщений знакомы нам непосредственно. В естественных науках мы их можем только вывести". Возможно, лучше понять приведенное в тексте утверждение поможет следующая цитата из моей собственной более ранней работы (Collectivist Economic Planning. 1935, p. 11): "Из-за промежуточного положения человека на границе между естественными и социальными явлениями (так что по отношению к одним он есть следствие, а для других -- причина) основополагающими исходными данными, необходимыми нам для объяснения социальных явлений, оказывается нечто, составляющее часть нашего повседневного опыта, часть самой ткани нашего обыденного мышления. Не подлежит сомнению, что в социальных науках достоверно наше знание именно об элементах сложных явлений. В естественных науках о них в лучшем случае можно строить предположения". См. также: С. Menger. Untersuchungen uber die Methoden der Sozialwissenschaften. 1883, p. 157 n: "Die letzten Eleinente, aeu welche die exacte theoretische Interpretation der Naturphanomene zuruckgehen muss, sind "Atome" und "Krafte". Beide sind untinpirischer Natur. Wir verinogen uns "Atome" uberhaupt nicht, und die Naturkragte nur unter einem Bilde vorzusstellen, und verstehen wir in Wabrheit unter den letzteren lediglich die uns unbekannten Ursachen realer Bewegungen. Hieraus ergeben sich fur die exacte Interpretation deu Naterphanomene in letzter Linie ganz ausserordentliche Schwierigkeiten? Anders in den ezacten Socialwissenschaften. Hier sind die menschlicgen Individuen und ihre Bestrebungen, die letzten elemente unserer Analyse, empirischer Natur und die exacten theoretischen Socialwissernschaften somit in grossem Vortheil gegenuber den exacten Naterwissenschaften. Die "Grenzen des Naturerkennens" und die hieraus fur das gheoretische Verstandnis der Naturpganomen sich ergebeyden Schwierigkeiten bestehen in Wahrheit nicht fur die exacte Forschung auf dem Gbiete der Socialerscheinengen. Wenn A. Comte die "Gesellschaften" als reale Organismen, und zwar als Organismen komplicirterer Art. denn die naturlichen, auffasst und ihre theoretische Interpretation als das unvergleichlich kompliceirtere und schwierigere wissenschaftliche Problem bezeichnet, so findet er sich somit in einem schweren Irrthume. Seine Theorie ware nur gegenuber Socialforschern richtig, welche den, mit Recksicht auf den heutigen Zustand der theoretischen Naturwissenschaften, geradezu wahnwitzigen Gedanken fassen wurden, die Gesellschaftsphanomene nicht in specifisch socialwissenwchaftlich, sondern in naturwissenschaftlich-atornistischer Weise interpretirn zu wollen." ("Предельные элементы, до которых обязана добраться точная теоретическая интерпретация природных явлений, -- это атомы и силы. И те, и другие -- не эмпирического характера. Атомов мы не в состоянии представить себе вообще, а силы представляем только образно и на самом деле понимаем под ними лишь неизвестные нам причины реального движения. В конечном счете это и является источником чрезвычайных трудностей строгой интерпретации природных явлений. Иначе обстоит дело в точном обществоведении. Здесь предельными элементами нашего анализа являются человеческие индивидуумы и их стремления. Они носят эмпирический характер, и потому точные науки об обществе имеют большое преимущество перед точными науками о природе. "Границы познания" и вытекающие отсюда трудности теоретического осмысления природных феноменов на деле не имеют отношения к точным исследованиям социальных явлений. Когда О. Конт представляет "общества" как реальные организмы, причем как организмы особо сложного рода, и характеризует их теоретическое объяснение как научную проблему, не имеющую равных по сложности и тяжести, он глубоко ошибается. Его теория справедлива только для социальных исследователей, которые, оглядываясь на сегодняшнее состояние теоретических наук о природе, развивают прямо-таки безрассудные идеи об интерпретации социальных феноменов не специфическим общественно-научным, а природоведчески-атомистическим образом.")] Если метод естественных наук является в этом смысле аналитическим, то метод социальных наук лучше назвать композитивным, или синтетическим. [Термин "композитивный" я заимствовал у Карла Менгера, который, делая заметки на полях рецензии Шмоллера, посвященной менгеровскому "Исследованию о методах социальных наук" ("Jahrbuch fur Gessetzeheng", etc., 1883, n. f. 7, p. 42), написал это слово над словом "дедуктивный", употребленным Шмоллером. После того, как настоящая работа уже была готова, я обнаружил, что Эрнст Кассирер в своей "Философии просвещения" (Е. Cassirer. Philosophie der Aufklarung. l932, pp. 12, 25, 341) использует термин "композитивный", чтобы подчеркнуть (и я с ним согласен), что " естественнонаучная процедура предполагает применение сначала "резолютивной" (расщепляющей), а затем "композитивной" техники. Это полезное замечание, и оно хорошо согласуется с тем, что, поскольку в социальных науках элементы известны нам непосредственно, мы можем начинать с композитивной процедуры.] Только в результате систематического складывания воедино элементов, свойства которых нам хорошо известны, мы узнаем, как выделять из совокупности наблюдаемых явлений так называемые целостности, то есть структурно связанные группы элементов, и выстраиваем, или реконструируем, их, исходя из этих известных нам свойств элементов. Важно заметить, что все эти разнообразные типы индивидуальных убеждений или же установок сами не являются объектом, требующим наших объяснений, а выступают просто как элементы, из которых мы строим структуру возможных отношений между индивидуумами. В случаях, когда социальным наукам все же приходится анализировать индивидуальное мышление, задача состоит не в том, чтобы эти мысли объяснить, а только в том, чтобы выделить возможные типы элементов, с которыми мы должны будем считаться при конструировании тех или иных моделей (patterus) общественных отношений. Полагать, что задачей социальных наук является объяснение осознанных действий, -- ошибка, к которой зачастую приводят неосмотрительные высказывания ученых-обществоведов. Это -- если это возможно вообще -- является задачей другой дисциплины -- психологии. [Как справедливо замечает Роббинс (L. Robbins. Ор. cit, р. 86), экономисты (и особенно они) рассматривают "как данные для своих собственных дедукций те вещи, которые психология стремится объяснить".] Для социальных наук типы осознанных действий суть исходные данные все, что они должны с этими данными сделать, -- это упорядочить их так, чтобы можно было эффективно использовать их для решения своих задач. [Тот факт, что на решение подобной задачи экономисты тратят значительную часть своей энергии, не может заставить нас усомниться в том, что сама по себе эта "чистая логика выбора" (или "экономическое исчисление") никаким объяснением фактов не занимается или, по крайней мере, занята этим не более, чем математика. Подробное рассмотрение отношений между чистой теорией экономического исчисления и ее использованием при изучении социальных явлений содержится в моей уже упоминавшейся статье "Экономика и знания" (Economics and Knowledge. "Economica". 1937, February). Стоит, пожалуй, добавить, что, хотя экономическая теория могла бы очень помочь руководителю полностью планируемой системы понять, как ему следовало бы действовать, чтобы достичь своих целей, она не поможет нам объяснить его действия -- за исключением разве что тех, в которых он и в самом деле руководствовался бы этой теорией.] Проблемы, которые пытаются решить социальные науки, встают перед ними лишь постольку, поскольку сознательные действия множества людей приводят к непреднамеренным результатам, постольку, поскольку обнаруживаются закономерности, не являющиеся результатом чьего-то умысла. Если бы в социальных явлениях не обнаруживалось никакой иной упорядоченности, кроме той, что является результатом сознательного планирования, для теоретических наук об обществе действительнее не оставалось бы места, а остались бы, как утверждают многие, только проблемы психологии. Проблема, требующая теоретического объяснения, встает перед нами лишь постольку, поскольку возникает известный порядок, складывающийся из индивидуальных действий, но ни одним отдельно взятым человеком не замышлявшийся. Но, хотя люди, пребывающие в плену у сциентистских предрассудков, часто склонны отрицать существование подобного порядка (а тем самым -- и объекта теоретических наук об обществе), мало найдется (если вообще найдутся) таких, которые решатся быть последовательными в этом отрицании: ведь едва ли можно ставить под сомнение хотя бы то, что четкий порядок, не являющийся результатом ничьего сознательного замысла, существует, скажем, в языке. Причина той трудности, с какой сталкиваются ученые-естествоиспытатели при рассмотрении вопроса о существовании подобного порядка среди социальных явлений, заключается в следующем: такого рода упорядоченности не могут быть выражены в физических терминах и, если их элементы определять в физических терминах, никакого такого порядка обнаружить нельзя, да к тому же единичные явления, отличающиеся структурной упорядоченностью, могут не иметь (во всяком случае, это необязательно) никаких общих физических свойств (разве что люди реагируют на эти явления "одинаково" -- хотя "одинаковость" реакций разных людей опять-таки, как правило, не поддается определению в физических терминах). Это порядок, при котором вещи ведут себя одинаково потому, что они означают одно и то же для людей. Если бы мы считали сходным или несходным не то, что представляется таковым действующему человеку, а то, сходство или несходство чего подтверждается Наукой, нам, по-видимому, вообще не удалось бы выявить какую-нибудь упорядоченность в социальных явлениях, -- по крайней мере, до тех пор, пока естественные науки не завершат свою работу по разложению всех естественных явлений на предельные составляющие, а психология, двигаясь в обратную сторону, не доберется до своей цели - со всеми подробностями объяснить, как именно предельные с точки зрения физических наук единицы складываются в видимую для человека картину, иными словами, как действует механизм классификации, основанный на наших чувствах. Показать быстро и без использования каких-либо сложных техник, как независимые действия индивидуумов приводят к появлению порядка, о котором никто заранее не заботился, можно только на простейших примерах, причем объяснение в этих случаях, как правило, бывает столь очевидно, что мы никогда и не задаемся вопросом о том, какого рода рассуждения нас к нему приводят. Подходящий пример -- образование тропинок в дикой пересеченной местности. Поначалу каждый пытается выбрать самый удобный путь. Но факт, что таким-то путем кто-то уже прошел, делает его более проходимым и, стало быть, увеличивает вероятность, что его выберут снова. Так постепенно след делается все четче и четче, и в конце концов этот путь становится единственным из всех возможных. Передвижения людей в этом регионе начинают укладываться в строго определенную схему, которая, будучи результатом сознательных решений множества людей, тем не менее не была никем задумана заранее. Такое объяснение происходящего есть элементарная "теория", и ее можно было бы применить к сотням отдельных исторических случаев. Своей убедительностью это объяснение обязано не наблюдению за тем, как протаптывалась какая-нибудь реальная тропинка и, тем более, не наблюдению многих таких примеров, а нашим общим представлениям о том, как ведут себя люди (в том числе и мы сами), оказываясь в ситуации, когда нужно выбрать дорогу, и как, благодаря кумулятивному эффекту их действий, образуется тропа. Элементы сложной картины происходящего хорошо знакомы нам по нашему повседневному опыту, но закономерные результаты соединения разрозненных действий множества людей становятся понятны нам только благодаря сознательно направленным усилиям мысли. Мы "понимаем", как получается наблюдаемый результат, даже если ни разу не имели случая проследить этот процесс от начала до конца или предсказать его точный ход и конечный итог. С точки зрения теперешней нашей задачи не имеет значения, растягивается ли этот процесс на продолжительный период времени, как в случае с возникновением и совершенствованием денежного обращения или с формированием языка, или же это процесс, каждый раз повторяющийся заново, как в случаях, когда речь идет о ценообразовании или управлении производством в условиях конкуренции. Первые два -- это примеры теоретических (то есть, общих) проблем (в отличие от специфически исторических проблем -- в строгом смысле, который будет уточнен нами позже); по существу они аналогичны проблемам, порождаемым такими повторяющимися процессами, как установление цен. Хотя при изучении любого частного примера эволюции какого-нибудь "института", вроде языка или денег, теоретическую проблему часто заслоняет рассмотрение тех или иных подробностей (являющееся собственно исторической задачей), это не отменяет того факта, что всякое объяснение исторического процесса включает предположения о типичных обстоятельствах, могущих приводить к определенного типа последствиям, -- предположения, которые, если мы имеем дело не с непосредственными результатами проявления чьей-то воли, могут быть высказаны единственно в форме общей схемы, иными словами -- теории. Физик, желающий разобраться в проблематике социальных наук при помощи аналогии с собственной областью, должен вообразить мир, в котором он благодаря непосредственному наблюдению получил бы представление о внутреннем строении атомов, но не имел бы ни возможности экспериментировать с частицами материи, ни условий для наблюдения чего-либо, кроме взаимодействия между сравнительно небольшим количеством атомов в течение ограниченного периода. Опираясь на свои знания о разных видах атомов, он мог бы строить модели каких угодно способов их соединения в более крупные образования и, постепенно совершенствуя эти модели, все точнее и точнее воспроизводить все, что свойственно более сложным явлениям, немногочисленные примеры которых ему удавалось бы наблюдать. Но у законов макрокосма, выводимых им из знания микрокосма, неизбежно был бы "дедуктивный" характер; из-за ограниченности имеющихся в его распоряжении данных о сложных явлениях эти законы вряд ли когда-нибудь позволили бы ему точно предсказать исход той или иной ситуации, и он никогда не смог бы добиться их подтверждения, произведя контрольный эксперимент, -- при том, что они могли бы быть опровергнуты, если ему довелось наблюдать события, которые никоим образом не согласовывались бы с его теорией. В некотором смысле определенные проблемы теоретической астрономии имеют больше общего с проблемами социальных наук, чем с проблемами наук экспериментальных. Правда, остаются и существенные различия. Если задача астронома -- открыть все элементы, из которых состоит его универсум, то исследователь общества не может надеяться на открытие чего-то большего, чем типы элементов, образующих его универсум. Маловероятно даже, что он откроет все составляющие его универсум элементы, и уж совсем невероятно, что он когда-нибудь откроет все существенные свойства каждого из них. Неизбежное несовершенство человеческого ума тут не только выступает как важнейшая характеристика объекта исследования, но, поскольку это в такой же степени относится и к наблюдателю, оно еще кладет некий предел надеждам последнего на то, что его попытки объяснить наблюдаемое увенчаются полным успехом. Число всевозможных переменных, которые определяют результат любого процесса, происходящего в обществе, как правило, настолько велико, что никакой человеческий ум просто не в состоянии охватить их и эффективно ими манипулировать. [Ср.: M. R. Cohen. Reason and Nature, p. 356: "Итак, если общественные явления зависят от большого количества факторов, что нам не под силу ими манипулировать, тогда даже учение о всеобщей детерминированности не может послужить гарантией того, что нам удастся сформулировать законы, управляющие определенными явлениями общественной жизни. Общественные явления, даже будучи детерминированными, конечному разуму, наблюдающему их в течение ограниченного промежутка времени, могут представляться не подчиняющимися вообще никаким закономерностям".] Получается, что знание принципов, которые возникают те или иные явления, очень редко будет (если вообще будет) позволять нам предсказывать точный результат какой-нибудь конкретной ситуации. При том, что мы можем объяснить, по какому принципу возникают некоторые явления, и благодаря этому исключить возможность некоторых результатов, например, стечения некоторых обстоятельств, в каком-то смысле наше знание будет только негативным, то есть оно просто позволит нам исключить некоторые результаты, но не позволит так уменьшить количество возможностей, чтобы осталась только одна. Разграничение между объяснением всего лишь принципа, лежащего в основе явления, и объяснением, позволяющим точно предсказать результат, имеет очень большое значение для понимания теоретических методов социальных наук. Я полагаю, оно так же существенно и для ряда других дисциплин, например, биологии и, несомненно, психологии. Однако это нечто неизученное, и я не знаю работ, где этому давалось бы адекватное объяснение. В области социальных наук лучшей иллюстрацией является, пожалуй, общая теория цен в том виде, в каком она представлена, например, в системах уравнений, предложенных Вальрасом или Парето. Эти системы помогают выявить только принцип взаимосогласования цен на различные группы товаров, образующих систему; без знания числовых значений всех входящих в нее констант (а их никто и не может знать!), мы не в состоянии предсказать точные результаты, к которым приведет какое-нибудь конкретное изменение. [Сам Парето прекрасно это понимал. Установив природу факторов, определяющих цены в его системе уравнений, он добавляет (Manuel d'economie politiquel. 1927, 2d. ed., p. 233--234): "Здесь можно заметить, что целью этих уравнений ни в коей мере не является численное определение уровня цен. Введем самые благоприятные допущения для такого расчета; допустим, что нам удалось преодолеть все трудности, связанные со сбором необходимых данных, и что нам известны все ............. [желаемости; слово "желаемость" --неологизм, изобретенный В. Парето для обозначения полезности. (Прим. науч. ред.)] различных товаров для каждого индивидуума, все условия производства каждого товара и т. д. Полагать, что это выполнимо -- уже бессмыслица. Однако и этого недостаточно, чтобы сделать проблему разрешимой. Мы уже видели, что система уравнений для 100 человек и 700 товаров имеет 70699 неизвестных (на самом деле их гораздо больше, поскольку мы не учли еще многих факторов), следовательно, нам предстоит решить систему из 70699 уравнений. На практике и это неосуществимо, так как выходит за пределы возможностей алгебраического анализа, а ведь для населения в 40 миллионов человек и для многих тысяч товаров уравнений понадобится уже немыслимое количество. В подобном случае роли должны меняться: не математике следует помогать политической экономии, но политическая экономия должна помогать математике. Иными словами, если бы даже мы знали все эти уравнения, единственный доступный человеку способ справиться с ними -- это посмотреть, какое практическое решение дает рынок. "Ср. также: A. Cournot. Researches into the Mathematical Principles of the Theory of Wealth (1838), trans. by N. T. Bacon. New York, 1927, p. 127, где автор говорит, что если бы наши уравнения охватили всю экономическую систему, задача "оказалась бы непосильной для математического анализа и для наших практических вычислительных методов, даже если допустить, что все константы в этой задаче получили бы числовые значения".] Не исключено, что не только этот частный случай, а вообще всякий ряд уравнений, показывающий просто форму системы взаимосвязей, но не дающий значений входящим в нее константам, представляет собой прекрасную иллюстрацию объяснений, раскрывающих всего лишь принцип, который лежит в основе какого-либо явления. Этого должно быть достаточно, чтобы получить внятное представление о характерных проблемах социальных наук. Картина станет более ясной, когда в последующих разделах мы сопоставим специфический метод социальных наук с тем, что наиболее характерно для попыток давать их предмету трактовку по образцу наук естественных. 5. Объективизм сциентистского подхода Из-за огромной, разницы между методами, характерными для физических наук и наук социальных, ученый естествоиспытатель, обратившийся к тому, что делают профессиональные исследователи общественных явлений, зачастую обнаруживает, что попал в компанию людей, привыкших совершить все смертные грехи, которых он изо всех сил старается избежать, и что науки об обществе, соответствующей его стандартам, до сих пор не существует. От этого до попытки создать новую науку об обществе, которая отвечала бы его пониманию Науки, всего один шаг. На протяжении последних четырех поколений такого рода попытки предпринимались постоянно, и хотя они так и не принесли ожидаемых результатов и даже не создали традиции преемственности, показательной для всех жизнеспособных дисциплин, те, кто все еще надеются революционизировать общественную мысль, повторяют такие попытки чуть ли не каждый месяц. Пусть эти усилия чаще всего никак не связаны, в них все же заметна определенная регулярность, и теперь нам следует рассмотреть ряд их особенностей. Условимся называть эти методологические особенности "объективизмом", "коллективизмом" и "историцизмом", противопоставляя им "субъективизм", "индивидуализм" и теоретический характер сложившихся общественных дисциплин. То, что за неимением лучшего термина, мы будем называть "объективизмом" сциентистского подхода к изучению человека и общества, находит самое характерное отражение в разного рода попытках обойтись без наших субъективных знаний о работе человеческого ума, попытках, которые в той или иной форме воздействовали на почти все направления социальных исследований. Начиная с Огюста Конта, отрицавшего возможность интроспекции, через всевозможные попытки создать "объективную психологию" и кончая бихевиоризмом Дж. Уотсона и "физикализмом" О. Нейрата, многие и многие авторы пытались обходиться без привлечения знаний "интроспективного" характера. Однако любые попытки избежать использования имеющегося у нас знания обречены на неудачу, и показать это совсем нетрудно. Чтобы быть последовательным, бихевиорист или физикалист не должен исходить из наблюдений за реакциями людей на объекты, которые наши чувства определяют как одинаковые; ему следовало бы ограничиться изучением реакций на сигналы, тождественные в строго физическом смысле. Например, ему бы следовало изучать не реакции людей, которым видится красный кружок или слышится определенный звук, а исключительно действие световой волны, имеющей определенную частоту, на тот или иной участок сетчатки человеческого глаза и т. д., и т. п. Однако ни один бихевиорист об этом всерьез не помышляет. Все они наивно считают само собой разумеющимся, что то, что кажется одинаковым им самим, будет казаться одинаковым и другим людям. Они, хоть их ничто и не заставляет так поступать, постоянно используют осуществляемую нашими чувствами и нашим умом классификацию внешних сигналов на одинаковые и неодинаковые, то есть классификацию, которая известна нам только из нашего личного опыта и не обоснована никакими объективными тестами, подтверждающими, что эти вещи ведут себя одинаково по отношению друг к другу тоже. Это относится не только к тому, что мы привыкли считать простыми чувственными качествами, то есть к цвету, высоте звука, запаху и т. п., но и к нашему восприятию конфигураций (Gestalten), которые помогают нам классифицировать весьма разные в физическом смысле вещи как обладающие общей "формой", будь то круг или определенный тембр. Бихевиористу или физикалисту факт, что мы опознаем эти вещи как подобные, не представляется проблемой. Между тем, развитие самой физической науки, как мы уже знаем, не дает ни малейших оснований для такого наивного подхода. Мы уже видели ранее, что одним из главных результатов этого развития явилось понимание: вещи, кажущиеся нам одинаковыми, в объективном смысле могут вовсе не быть таковыми, то есть могут не иметь ничего общего, кроме свойства казаться нам одинаковыми. Раз уж мы должны были признать, что вещи, неодинаково действующие на наши чувства, не обязательно будут в точности таким же неодинаковым образом вести себя по отношению друг к другу, у нас не остается права считать само собой разумеющимся, что все, кажущееся разным или одинаковым нам, будет казаться таким же и другим. То, что, как правило, бывает именно так, есть важный эмпирический факт, который, с одной стороны, нуждается в объяснении (это задача психологии), а с другой стороны, должен приниматься как исходная данность при изучении человеческого поведения. То, что разные объекты для разных людей значат одно и то же и что разные люди, совершая различные действия, имеют в виду одно и то же, остается важным фактом, хотя физика может показать, что эти объекты или действия не имеют никаких других общих свойств. Мы не знаем о происходящем в умах других людей ничего, кроме известного нам через чувственное восприятие, то есть через наблюдение физических фактов, -- это, конечно, правда. Но из этого не следует, что мы не знаем ничего, кроме физических фактов. С какого рода фактами должна иметь дело та или иная дисциплина, обусловлено не всеми свойствами изучаемых ею объектов, а только теми, по которым объекты классифицируются с точки зрения задач данной дисциплины. Сошлемся на пример из физики: все рычаги и маятники, какие мы только можем представить, имеют химические и оптические свойства; но, говоря о рычагах и маятниках, мы не говорим о химических или оптических фактах. Некий набор отдельных явлений превращается в подборку фактов одного рода благодаря тому, что мы выделяем признаки, в соответствии с которыми и рассматриваем эти явления как принадлежащие к одному классу. Так же, хотя все общественные явления, которыми могут заняться социальные науки, наделены физическими свойствами, это не знаний, что с точки зрения наших задач они должны рассматриваться как физические явления. Существенный момент, касающийся объектов человеческой деятельности, рассматриваемых социальными науками, и самой этой деятельности, заключается к том, что, интерпретируя человеческие действия, мы спонтанно и неосознанно относим к одному классу объектов или действий многие физические факты, у которых может не быть никаких общих физических свойств. Мы знаем, что другие люди, подобно нам самим, считают какой-нибудь из множества физически различных объектов: a, b, c, d и т. д. -- принадлежащим к такому-то классу, и знаем это потому, что другие люди, подобно нам самим, реагируют на какую-нибудь из этих вещей каким-нибудь из действий: .............., -- у которых опять-таки может не быть никаких общих физических характеристик. Тем не менее это знание, постоянно опираясь на которое мы действуем и которое обязательно предшествует (и является условием) всякой коммуникации с другими людьми, не есть сознательное знание -- ведь мы не можем составить исчерпывающий список тех различных физических явлений, которые мы без колебаний относим к одному классу: мы не знаем, в каких из множества возможных комбинаций физических свойств мы будем распознавать то или иное слово, "приветливую улыбку" или "угрожающий жест". По-видимому, в экспериментальных исследованиях еще ни разу не удалось точно определить круг различных явлений, которые для всех людей безусловно означают одно и то же; тем не менее мы постоянно и успешно действуем, исходя из предположения, что мы классифицируем эти вещи точно так же, как другие люди. Мы не в состоянии -- и, может быть, никогда не будем в состоянии - заменить ментальные категории, помогающие нам истолковывать действия других людей, объектами, специфицированными в физических терминах. [Частые попытки обойти эту трудность с помощью чисто иллюстративного перечисления некоторых физических признаков, по которым мы относим объект к той или иной ментальной категории, только заслоняют суть. Объяснение, что под "сердитым человеком" мы понимаем человека, обнаруживающего определенные физические симптомы, мало что дает, если мы не можем составить исчерпывающий список всех симптомов, по которым мы узнаем и присутствие которых всегда означает, что человек, обнаруживающий их, сердит. Только если бы мы сумели это сделать, у нас появилось бы право сказать, что употребляя такое словосочетание, мы подразумеваем не более чем определенные физические явления.] Если мы все же это делаем, то упоминаемые нами физические факты имеют для нас значение не как физические факты, то есть не как члены одного класса с определенными общими физическими свойствами, но как члены класса, в который могут входить вещи, физически совершенно разные, но для нас "означающие" одно и то же. Здесь необходимо в явном виде сформулировать соображение, неявно присутствовавшее во всех наших рассуждениях на эту тему, соображение, которое, хотя оно вроде бы вытекает из современного представления о природе физического исследования, все же до сих пор является чем-то непривычным. Вот оно: не только те ментальные сущности, которые принято считать "абстракциями" (такие, как "представления" или "идеи"), но все феномены сознания -- чувственные восприятия и образы, также как более абстрактные "представления" и "идеи", -- следует считать актами выполняемой мозгом классификации. [Это также может служить оправданием той якобы небрежности, с какой мы, перечисляя в иллюстративных целях ментальные сущности, все время сваливаем в одну кучу такие понятия, как "ощущения", "восприятия", "представления" и "идеи". Ведь все эти ментальные сущности, пусть и разных типов, имеют то общее, что они суть классификации различных внешних сигналов (или комплексов таких сигналов). Сегодня подобное заявление, возможно, покажется менее странным, чем оно выглядело бы лет 50 назад, поскольку теперь нам известно, какое звено находится между прежними "элементарными" чувственными качествами и понятиями, -- это конфигурации, или Gestalt-качества. Можно, однако, добавить, что в таком свете далеко идущие онтологические выводы, которые делают из своих интересных наблюдений многие представители школы Gestalt-психологии, выглядят совершенно неоправданными; нет причины полагать, что воспринимаемые нами "целостности" -- это действительные свойства внешнего мира, а не просто приемы, с помощью которых наш мозг классифицирует комплексы сигналов; как и другие абстракции, отношения между частями, выделенными с помощью такого приема, могут оказаться существенными, а могут и нет.] Это, конечно, не более, чем иной способ сказать, что воспринимаемые нами признаки не являются свойствами объектов, а представляют собой способы, которыми мы (каждый индивидуум или весь род) научились группировать, или классифицировать, внешние сигналы. Воспринять значит отнести к известной категории (или категориям): мы не могли бы воспринять нечто, совершенно непохожее ни на один из доселе воспринимавшихся объектов. Это, однако, не означает, что все вещи, которые мы фактически относим к одному классу, должны иметь какие-то общие свойства помимо того, что мы реагируем на эти вещи одинаково. Это вполне обычная, но опасная ошибка -- считать, будто те вещи, которые наши чувства или наш ум относят к одному и тому же классу, должны иметь между собой еще что-то общее кроме того, что они одинаковым образом регистрируются нашим сознанием. Хотя у нас, как правило, бывают определенные основания считать некоторые вещи подобными, это не является необходимым условием. Но, если при изучении природы классификации, не основанные на каком-либо сходстве в поведении объектов по отношению друг к другу, следует считать "обманчивыми" и стараться освободиться от этой обманчивости, то для наших попыток понять человеческие действия они имеют положительное значение. Важное различие в статусе ментальных категорий в двух этих сферах заключается в следующем. Когда мы изучаем то, что происходит в природе, наши ощущения и мысли не являются звеньями в цепи наблюдаемых событий -- это лишь ощущения и мысли по поводу событий. А в общественном механизме они образуют необходимое звено; в обществе силы действуют через эти непосредственно известные нам ментальные сущности: если предметы внешнего мира не ведут себя одинаково или по-разному лишь потому, что они представляются одинаковыми пли разными нам, то уж мы-то ведем себя сходным или различным образом потому, что вещи представляются нам одинаковыми или разными. Возможно, здесь следует также упомянуть о том, что у нас нет причины считать ценности единственным примером чисто ментальных категорий, отсутствующим в нашей картине физического мира. Хотя ценности по праву занимают центральное место во всяком обсуждении целенаправленных действий, они определенно не являются единственным типом чисто ментальных категорий, которые нам приходится задействовать при интерпретации человеческой деятельности: есть по меньшей мере еще один очень важный для нас пример таких чисто ментальных категорий. Это -- различение истинного и ложного. См. ниже сноску 7 в главе 7, где речь идет о связанной с этим проблеме, а именно о том, что останавливая при изучении социальной жизни свой выбор на тех или иных ее аспектах, мы необязательно руководствуемся ценностными соображениями. Бихевиорист или физикалист, который при изучении поведения человека действительно хотел бы избежать использования категорий, обнаруживающихся в готовом виде в нашем уме, и который пожелал бы ограничиться изучением исключительно реакций человека на объекты, специфицированные в физических терминах, должен, чтобы быть последовательным, воздерживаться от любых высказываний по поводу человеческих действий до тех пор пока экспериментально не установит, каким образом наши чувства и наш ум делят внешние сигналы на одинаковые и неодинаковые. Ему пришлось бы начать с вопросов, какие физические объекты и почему кажутся нам одинаковыми, какие и почему -- нет, и только после этого всерьез браться за изучение человеческого поведения по отношению к этим вещам. Важно заметить, что мы не заявляем, будто такая попытка объяснить принцип, согласно которому наш ум, или наш мозг, трансформирует физические факты в ментальные сущности, безнадежна. Коль скоро мы признаем, что имеет место процесс классификации, нет причин, почему бы нам не научиться понимать ее принцип. В конце концов, классификация -- это механический процесс, его может выполнять и машина, "сортируя" и группируя объекты соответственно определенным их свойствам. [И это, как мы уже видели, вовсе не означает, что машина всегда будет относить к одному классу только те элементы, которые имеют общие свойства.] Речь, скорее, о том, что, во-первых, с точки зрения задачи социальных наук подобное объяснение формирования ментальных сущностей и их соотнесенности с физическими фактами необязательно и оно ничуть не приблизило бы нас к нашей цели; и, во-вторых, что, хотя такое объяснение представимо, мы не только не имеем его в настоящий момент и, вероятно, не будем иметь еще очень долго, но маловероятно также и что оно когда-нибудь станет чем-то большим, чем "объяснение принципа", на котором строится работа этого классификационного аппарата. Судя по всему, всякий аппарат классификации должен всегда быть намного более сложным, чем любой из множества объектов, которые он классифицирует; и, если это так, значит наш мозг никогда не сможет дать полное объяснение (в отличие от объяснения просто принципа) отдельных приемов, с помощью которых он сам классифицирует внешние сигналы. Позже нам предстоит рассмотреть связанный с этим парадокс: для того, чтобы "объяснить" наши собственные знания нам следовало бы знать больше, чем мы уже знаем, -- что, конечно, является внутреннее противоречивым утверждением. Но давайте на минуту предположим, что нам удалось полностью свести все феномены сознания к физическим процессам. Предположим, что мы постигли механизм, благодаря которому наша центральная нервная система относит какой-нибудь из множества внешних сигналов (элементарных или сложных): a, b, c, ... или l, m, n, ..., или r, s, t, ... -- к тому или иному четко определенному классу, причем выбор обусловлен тем фактом, что такой-то элемент из некоего класса вызывает у нас такую-то реакцию, относящуюся к соответствующему классу : ......... ... или ...... или ......... -- Такое предположение подразумевает: первое, что эта система знакома нам не просто потому, что именно так действует наш собственный ум, но и потому, что для нас стали явными все отношения, которыми она определяется, и, второе, что нам известен также и механизм практического осуществления этой классификации. В таком случае мы смогли бы установить строгое соответствие между ментальными сущностями и четко ограниченными группами физических фактов. И тогда y нас появилась бы "единая" наука, что, впрочем, не помогло бы нам подойти к решению специфической задачи социальных наук ближе, чем теперь. Мы все равно должны были бы использовать прежние категории, хоть и умели бы объяснять, как они формируются, и знали бы, какие за ними стоят физические факты. Мы знали бы, что для объяснения внешних событий больше подходит другой способ систематизации физических фактов, однако, интерпретируя человеческие действия, все равно принуждены были бы пользоваться классификацией, располагающей эти факты соответственно тому, как они представляются умам действующих людей. Дело, стало быть, не в том, что нам, возможно, придется бесконечно долго ждать, пока мы сможем заменить ментальные категории на физические факты; даже если бы это наконец произошло, мы не оказались бы лучше подготовленными к решению задач, стоящих перед социальными науками. Следовательно, идея, подразумеваемая как иерархией наук Конта,6 так и многими похожими рассуждениями, что социальные науки должны в некотором смысле "опираться" на науки естественные и что надежды на успех в этой области следует отложить до той поры, когда физические науки продвинутся достаточно, чтобы мы смогли описывать социальные явления в физических терминах, "языком физики", совершенно ошибочна. Проблема объяснения ментальных процессов через физические не имеет никакого отношения к проблемам социальных наук. Это проблема физиологической психологии. Но независимо от того, удастся ее решить или нет, социальные науки должны отталкиваться от имеющихся ментальных сущностей -- объяснено их формирование или нет. Мы не можем обсуждать здесь все другие формы, в которых проявлялся характерный "объективизм" сциентистского подхода, сделавшийся причиной стольких ошибок в социальных науках. В ходе нашего исторического экскурса мы еще будем сталкиваться с тенденцией искать "реальные" атрибуты объектов человеческой деятельности, скрывающиеся за представлениями человека о них, -- тенденцией, выступающей во множестве разных областей. Здесь же может быть предпринята только попытка краткого обзора. Почти так же, как всевозможные формы бихевиоризма, важна и тесно связана с ними распространенная тенденция при изучении социальных явлений не обращать внимания ни на какие "просто" качественные моменты и, следуя примеру естественных наук, сосредоточиваться на количественных аспектах, на том, что поддается измерению. Ранее мы уже видели, что в естественных науках такая тенденция есть необходимое следствия, вытекающее из их специфической задачи заменить картину мироздания, составленную в терминах чувственных качеств, на такую, в которой составляющие ее единицы определялись бы исключительно их эксплицитными связями. Успех этого метода в естественнонаучной области привел к тому, что теперь его принято считать обязательным признаком всякой подлинно научной процедуры. Однако его raison d'etre <raison d'etre -- смысл>, сама необходимость заменять классификацию событий, составляемую для нас нашими чувствами и умом, на более соответствующую, отсутствует, если мы пытаемся понять другие человеческие существа и если это понимание возможно благодаря тому, что наш ум такой же, как у них, и что мы можем реконструировать интересующие нас социальные комплексы, исходя из наших общих с ними ментальных категорий. Слепой перенос тяги к количественным измepeниям в область, где отсутствуют те специфические условия, которые придают исключительную важность измерениям в естественных науках, есть результат ни на чем не основанного предрассудка.[Следует, вероятно, подчеркнуть, что использование математики в социальных науках необязательно сводится к попыткам измерения социальных явлений -- как склонны думать некоторые люди, знакомые только с элементарной математикой. Математика (вероятно, и в экономической теории тоже) бывает совершенно необходима для описания определенных типов сложных структурных отношений, хотя у нас, может быть, и нет шанса когда-либо узнать числовые значения конкретных величин (неудачно именуемых "константами"), фигурирующих в формулах, которые эти структуры описывают.] Не исключено, что как раз из-за него стали возможны те чудовищные аберрации и те нелепости, которые сциентизм привнес в социальные науки. Он часто заставляет не только останавливать выбор на наименее существенных сторонах изучаемого, потому что в этом случае возможны измерения, но также осуществлять "измерения" или находить числовые значения, не имеющие ровно никакого смысла. То, что недавно написано выдающимся философом о психологии, будет ничуть не менее справедливым и по отношению к социальным наукам: это чрезвычайно просто -- "устремиться в измерение всякой всячины, без рассуждений о том, что именно мы измеряем или для чего эти измерения нужны. Что касается некоторых недавних измерений, то своей логикой они очень напоминают логику Платона с его вычислением, что справедливый правитель в 729 раз счастливее несправедливого" [M. R. Cohen. Reason and Nature, p. 305]. С тенденцией трактовать объекты человеческой деятельности не так, как они представляются действующим людям, а в терминах их "реальных" атрибутов, тесно связан образ некоего сверхразумного исследователя общества, обладающего чуть ли не абсолютным знанием, что освобождает его от необходимости опираться на знания тех людей, чьи действия он изучает. К наиболее характерным проявлениям этой тенденции относятся всевозможные формы социальной "энергетики", которая, начиная с ранних попыток Эрнста Сольвея, Вильгельма Оствальда и Ф. Содди и вплоть до наших дней, 10 постоянно возрождалась в среде ученых и инженеров, как только они обращались к проблемам социальной организации. Идея, лежащая в основе этих теорий, такова: все можно свести к сгусткам энергии, человек, строящий планы, должен не рассматривать всевозможные вещи с точки зрения их конкретной полезности для его целей (для которых он знает, как их использовать), а считать их взаимозаменяемыми порциями абстрактной энергии, каковыми они "реально" и являются. У Хогбена (L. Hogben. ...........Hogben's Dangerous Thoughts. l939, p. 99) читаем: "Изобилие высвобождаемое -- это энергия превышает измеренную в калориях совокупную энергию, затрачиваемую людьми на удовлетворение всех человеческих потребностей. Другой пример такой тенденции -- пожалуй, не менее нелепый и даже более распространенный -- это концепция "объективных" возможностей производства, то есть количественной меры общественного продукта, которая, как полагают, обусловлена физическими возможностями, - идея, которая часто находит выражение в количественных оценках предполагаемого "производственного потенциала" общества в целом. Эти оценки, как правило, относятся не к тому, что может произвести человек при тех или иных сложившихся организационных формах, а к тому, что в некотором неопределенном "объективном" смысле "могло бы" быть произведено из наличных ресурсов. Подобные притязания по большей части лишены всякого смысла. Они не утверждают, что x или y, или, вообще, какая-либо организация людей могла бы произвести то-то и то-то. Все сводится к тому, что, если бы всем знанием, рассеянным среди многих людей, мог овладеть один-единственный разум, и что, если бы этот сверхразум мог побудить всех людей поступать всякий раз так, как он пожелает, то можно было бы достичь таких-то результатов, правда, каких именно, никто, кроме этого сверхразума, знать бы, конечно, не мог. Пожалуй, нет необходимости указывать на то, что всякие рассуждения о "возможностях", для осуществления которых необходимы такие условия, не имеют никакого отношения к реальности. Никакой абстрактной производительной способности общества -- как бы ни было оно организовано -- не может быть. Единственный факт, который можно считать данностью, -- это что есть отдельные люди, владеющие определенными знаниями о том, как использовать те или иные вещи в определенных целях. Эти знания не мог существовать в виде интегрированного целого или умещаться в одной голове, и единственное знание, о котором можно в каком-то смысле сказать, что оно действительно существует -- это те самые отдельные, часто не согласующиеся друг с другом, а порой и противоречащие друг другу представления разных людей. Известны и весьма похожие по своему характеру частые заявления об "объективных" потребностях людей, в которых слово "объективный" просто обозначает чье-то мнение о том, чего должны хотеть люди. Нам еще предстоит рассматривать проявления такого "объективизма" в конце этой части, когда от собственно сциентизма мы перейдем к рассмотрению точки зрения, характерной для инженеров, представления которых об "эффективности" стали одной из самых внушительных сил, способствовавших распространению сциентистского подхода на общественные проблемы. 6. Коллективизм сциентистского подхода С "объективизмом" сциентистского подхода тесно связан его методологический коллективизм, его тенденция обращаться с целостностями, вроде "общества", "экономики", "капитализма" (как некоторой данной исторической "фазы") или отдельной "отрасли", "класса", "страны", так, будто они являются четко очерченными данными объектами, законы функционирования которых можно открыть, наблюдая, как они ведут себя в качестве целостных образований. Если специфический для социальных наук субъективистский подход отталкивается, как мы видели, от нашего знания о внутренней стороне таких социальных комплексов, то есть знания индивидуальных установок, выступающих как их структурообразующие элементы, то объективизм естественных наук пытается обозревать их извне [Описание этой разницы как разницы между взглядом "изнутри" и взглядом "снаружи", конечно, метафорично, но все же не столь обманчиво, сколь обманчивы бывают многие подобные метафоры, и, возможно, является лучшим способом коротко охарактеризовать суть вопроса. Оно подчеркивает, что в социальных комплексах нам непосредственно даны только части, а целое недоступно непосредственному восприятию и может быть лишь реконструировано усилием нашего воображения.]; он толкует социальные явления не как то, по отношению к чему человеческий ум -- это не более, чем часть, и то, принципы организации чего мы можем воссоздать на основе известных нам элементов, а так, будто эти явления суть объекты, непосредственно воспринимаемые нами как целое. Есть несколько причин тому, что подобную тенденцию столь часто обнаруживают представители естественных наук. Они привыкли в относительно сложных явлениях, непосредственно доступных наблюдению, искать прежде всего эмпирические закономерности и только по обнаружении этих закономерностей пытаться представить их как продукт некой комбинации иных, порой чисто гипотетических элементов (конструктов), которые предположительно ведут себя в соответствии с более простыми и более общими законами. Поэтому они и в социальной области склонны прежде всего искать в поведении комплексов эмпирические закономерности, не видя которых, не видят и необходимости в теоретическом объяснении. Такая тенденция еще более усиливается благодаря опыту, подсказывающему, что лишь немногие закономерности в поведении индивидуумов могут быть установлены строго объективно; поэтому они обращаются к изучению целостностей в надежде, что тут искомые закономерности обнаружатся. И, наконец, имеет место некая довольно смутная идея, что, если уж изучать "социальные явления", то очевидно, что начинать надо с их непосредственного наблюдения, причем само употребление в обыденной речи таких терминов, как "общество" или "экономика", наивно воспринимается как свидетельство существования соответствующих им вполне определенных "объектов". Сам факт, что все говорят о "нации" или "капитализме", приводит к убежденности, что взявшийся за изучение этих феноменов должен первым делом пойти и посмотреть, что они собой представляют, -- как будто речь идет о каком-то минерале или животном. [Было бы, конечно, неправильно уверять, будто исследователю общественных явлений, чуждо такое первое побуждение, как "пойти и посмотреть". Вовсе не нежелание видеть очевидное, а большой опыт научил его, что непосредственный поиск целостностей, существование которых предполагается обыденным языком, ведет никуда. И недаром первой заповедью, которую усваивает (или должен бы усваивать) исследующий общественные явления, стало: никогда не говори, что "общество" или "страна" действует или ведет себя так-то и так-то, но думай всегда как о действующих об индивидуумах и только о них.] Ошибка такого коллективистского подхода в том, что он принимает за факты всего лишь предварительные теории, модели, с помощью которых обыденное сознание объясняет себе связи между некоторыми наблюдаемыми разрозненными явлениями. И это парадоксально: ведь, как мы уже видели, те, кого сциентистские предрассудки заставляют подходить к общественным явлениям с подобных позиций, как раз из-за своих стараний исключить все чисто субъективные элементы и ограничиться "объективными фактами" совершают ту самую ошибку, которой так стараются избежать, а именно -- обращаются как с фактами с тем, что на деле представляет собой не более чем расплывчатые обыденные теории. Таким образом, не подозревая об этом, они становятся жертвами заблуждения, характерного для "концептуального реализма" (что А. Уайтхед называл "ошибкой дурной конкретности"). Наивный реализм, некритично допускающий, что, где есть употребительные понятия, там должны быть и вполне определенные "данные" вещи, которые этим понятиям соответствуют, так основательно укоренился в общепринятом подходе к социальным явлениям, что требуется специальное усилие воли, чтобы избавиться от подобного преставления. Что в этой области существуют особенные трудности, связанные с распознаванием определенных целостностей, поскольку у нас перед глазами нет и не может быть достаточного количества образцов одного вида, и поэтому нам не так просто провести грань между их постоянными и случайными признаками, -- с этим наверняка согласится большинство людей; в то же время лишь немногие отдают себе отчет в том, что существует и куда более фундаментальное препятствие: целостности как таковые вообще недоступны для наблюдения и все без исключения представляют собой конструкции нашего ума. Они не относятся к числу "данностей" -- объективных фактов одного и того же рода, которые мы благодаря общности их физических характеристик спонтанно распознаем как сходные. Их вообще нельзя воспринимать иначе, как в рамках ментальной схемы, показывающей связь между некоторыми из множества наблюдаемых нами отдельных фактов. Имея дело с подобными социальными целостностями, мы не можем (как это делается в естественных науках) начать с наблюдения некоторого количества случаев, спонтанно распознаваемых нами благодаря их общим чувственно воспринимаемым признакам как примеры "обществ" или "экономик", "капитализма" или "наций", "языка" или "законодательных систем" -- и приступать к выявлению общих законов, которым они подчиняются, лишь после того, как накопим достаточное количество таких примеров. Социальные целостности не даны нам в виде, так сказать, "естественных единиц", распознаваемых нашими чувствами как сходные, подобно тому, как это происходит с цветами или бабочками, минералами или световыми лучами, и даже лесами или муравейниками. Они не даны нам в виде вещей, сходство которых бывает очевидно даже раньше, чем мы задаемся вопросом: ведет ли себя одинаково то, что одинаково выглядит? Охотно используемые нами собирательные понятия не обозначают никаких определенных вещей (в смысле устойчивых наборов чувственных признаков), которые мы распознаем как одинаковые благодаря наблюдению; они отсылают к определенным структурам отношений между некоторыми из множества вещей, доступных нашему наблюдению в данных пространственно-временных пределах и избираемых нами потому, что, как мы полагаем, нам видны связи между ними, -- связи, которые могут (а могут и не) существовать в действительности. То, что мы объединяем в одну группу как примеры одной и той же целостности или коллективной общности, суть различные комплексы индивидуальных событий, сами по себе, может быть, совсем непохожие, но, как мы считаем, связанные друг с другом сходным образом; они представляют собой подборки определенных элементов, выделенных из сложной картины мира на основании некоей теории об их взаимосвязи. За ними не стоят ни реальные вещи, ни классы вещей (если понимать "вещь" как нечто материальное, конкретное); они обозначают устойчивую структуру, порядок, в котором разные вещи могут быть соотнесены друг с другом, -- причем порядок не пространственный или временной, а такой, который может быть определен только в терминах умопостигаемых человеческих отношений, или установок. Такой порядок, или устойчивая структура, столь же мало поддается наблюдению в физическом смысле, как и сами эти отношения, и изучать его можно, лишь осмысливая то, что стоит за каждой конкретной комбинацией отношений. Иными словами, целостности, о которых мы говорим, существуют лишь постольку, поскольку верна сформировавшаяся у нас теория о неявной связи между предполагаемыми их частями, связи, которую в явном виде можно показать лишь на модели, воспроизводящей эти отношения [см.: F. Kaufmann. Soziale Kollectiva. " Zeitschrift fur Nationalokonomie". 1930, vol. 1]. Таким образом, социальные науки не имеют дела с "данными" целостностями; но их задача состоит в том, чтобы выстраивать (constitute) эти целостности, конструируя модели из известных элементов, -- модели, воспроизводящие структуру отношений между некоторыми из множества явлений, в реальной жизни наблюдаемых, всегда одновременно. В равной мере это относится и к обыденным представлениям о социальных целостностях, выраженным в повседневном языке общепринятыми терминами; эти представления также подразумевают ментальные модели, правда, они не дают точного описания, являясь лишь смутными, неясными намеками на то, как связаны между собой те или иные явления. Бывает, что целостности, воссозданные теоретическими социальными науками, приблизительно совпадают с распространенными представлениями о них, поскольку обыденному мышлению удалось правильно или почти правильно отделить существенное от случайного; бывает и так, что целостности, выстраиваемые теорией, отражают совершенно новые структурные взаимосвязи, о которых до начала систематического исследования мы ничего не знали и для которых в обыденном языке даже нет названия. Если взять такие распространенные понятия, как "рынок" или "капитал", то обиходное значение этих слов, по крайней мере, до некоторой степени совпадает со значением соответствующих понятий, сформированных для научного описания явлений, хотя даже в таких случаях обиходное значение этих слов слишком уж расплывчато, чтобы их можно было использовать без уточнения смысла. Если в теоретической работе их все же удается переосмыслить, то это происходит потому, что в данном случае даже обыденные понятия давно уже не соответствуют никаким конкретным объектам, определяемым в физических терминах, а охватывают огромное множество разных объектов, которые мы относим к одному и тому же классу только потому, что распознаем сходство в структуре отношений между людьми и этими объектами. Слово "рынок", например, давно перестало обозначать исключительно место периодических сборищ людей, куда они приносят свой товар, чтобы торговать им с временных деревянных прилавков. Теперь под ним подразумеваются любые способы, обеспечивающие регулярные контакты между потенциальными покупателями и продавцами любой вещи, какая только может быть продана: будь это личные встречи или контакты по телефону, телеграфу, через рекламу, и т. д., и т. п. [Надо отметить, что хотя наблюдение и помогает нам лучше понять значение употребляемых людьми слов, оно никогда не подскажет нам, что реально представляют собой "рынок", "капитал" и т. п., то есть, каковы те существенные отношения, которые было бы полезно выделить и включить в модель.] Однако когда мы говорим, например, о поведении "системы цен" в целом и рассуждаем о комплексе взаимосвязанных изменений, могущих при определенных условиях вызываться падением ставки банковского процента, мы не занимаемся некой выставленной на всеобщее обозрение целостностью или чем-то однажды определенно данным; мы можем только реконструировать это, проследив за реакцией многих индивидуумов на первичное изменение и его ближайшие последствия. Того, что в подобных случаях определенные изменения "увязаны в узел", иными словами -- что среди прочих многочисленных изменений в какой-то конкретной ситуации происходящих одновременное теми, что составляют часть интересующего нас комплекса и нередко загораживающих их от нас), некоторые соединяются более тесными, формирующими комплекс связями -- мы не выведем из наблюдения, что эти -- такие-то и такие-то -- изменения каждый раз происходят все вместе. Это и должно быть невозможно, поскольку ни по каким физическим признакам вещей нельзя определить: что считать тем же самым набором 1 изменений в иных обстоятельствах; это можно сделать только, если выделить какие-то существенные аспекты того, как люди к вещам относятся, что в свою очередь достигается только при помощи построенных нами моделей. Ошибка, состоящая в том, что целостности, представляющие собой лишь конструкции и не могущие иметь никаких свойств, кроме тех, что задаются способом их конструирования из определенных элементов, принимаются за четко очерченные объекты, чаще всего, по-видимому, встречается в разного рода теориях "общественного" или "коллективного" разума с нею связано возникновение всевозможных псевдопроблем. [По этому вопросу см. работу М. Гинзберга "Психология общества" (M. Ginsberg. The Psychology of Society. 1921, chap. 4). Сказанное в тексте, конечно, не исключает возможности, что наше изучение способа взаимодействия между индивидуальными умами подведет нас к открытию некой структуры, действующей в каких-то отношениях аналогично индивидуальному уму. И, вероятно, термин "коллективный разум" окажется наилучшим для описания подобной структуры -- однако в высшей степени неправдоподобно, что достоинства этого термина когда-нибудь перевесят его недостатки. Но даже если бы это случилось, было бы ошибкой считать, что за термином "коллективный разум" стоит некий объект, который можно наблюдать и изучать непосредственно.] Та же идея часто, но не слишком удачно прячется за попытками приписывать обществу атрибуты личности или индивидуальности. Какими бы ни были названия, подобные термины всегда означают, что вместо того, чтобы конструировать целое из непосредственно известных нам отношений между индивидуальными умами, туманно понимаемое целое трактуется как нечто, близкое к индивидуальному разуму. Неправомерное применение именно такой формы антропоморфных понятий в социальных науках причинило им тот же вред, что и естественным. Здесь самое удивительное -- опять-таки что именно эмпиризм позитивистов, ведущих непримиримую борьбу против использования антропоморфных понятий даже там, где они уместны, так часто побуждает их постулировать существование подобных метафизических сущностей и трактовать человечество (как это делает, к примеру, Конт) как единое "социальное существо", как своего рода сверхличность. Но, поскольку возможностей только две: либо составлять целое из совокупности индивидуальных умов, либо постулировать некий сверхразум по образу индивидуального разума -- и поскольку первую из этих альтернатив позитивисты отвергают, они неизбежно приходят ко второй. Именно в этом -- ключ к пониманию любопытного альянса между позитивизмом XIX века и гегельянством, и мы еще будем об этом говорить. Нечасто коллективистский подход к общественным явлениям провозглашался так решительно, как в заявлении основателя социологии Огюста Конта о том, что в науках об обществе, как и в биологии, "объект в целом, несомненно, значительно лучше знаком и более доступен непосредственному наблюдению" [см.: Cours de philosophie positive. 4th ed., vol. 4, p. 258], чем образующие его элементы. Такая точка зрения оказала сильное влияние на сциентистский подход к изучению общества, подход, создание которого было целью его усилий. Однако этого особенного сходства между объектами биологии и социологии, которое столь удачно вписывалось бы в придуманную Контом иерархию наук, на самом деле не существует. В биологии мы действительно прежде всего воспринимаем как однотипные те созданные природой единицы, которые наделены устойчивым набором чувственных качеств и многие образцы которых мы спонтанно распознаем как одинаковые. И это дает нам основания начать с вопроса, почему такие вполне определенные наборы признаков регулярно встречаются вместе. Но, когда нам приходится иметь дело с социальными целостностями или структурами, то вовсе не наблюдение упорядоченного сосуществования известных физических фактов подводит нас к выводу, что они взаимосогласованы и составляют нечто целое. Нельзя сказать, что сначала мы с помощью наблюдений устанавливаем, что некоторые события всегда случаются вместе, а потом задаемся вопросом: что же их соединяет? Нет, мы потому только можем увидеть в некоторых элементах бесконечно сложного окружающего нас мира части взаимосвязанного целого, что знаем соединяющие их связи. Как мы вскоре увидим, Конт, да и многие другие, рассматривают социальные явления как данные злостности также и в другом смысле, утверждая, что конкретные социальные явления можно понять, только если принять во внимание всю совокупность явлений в определенных пространственно-временных границах, и что всякая попытка выделить из нее системно связанные части или аспекты обречена на провал. Будучи выраженным в такой форме, это рассуждение представляет собою не что иное, как отрицание возможности того теоретического подхода к социальным явлениям, какой разработан, например, в экономической науке. И кроме того, оно ведет прямо к тому, что неточно называют "историческим методом" -- методом, с которым методологический коллективизм действительно тесно связан. Этот подход, который мы будем именовать "историцизмом", нам предстоит обсудить ниже. Стремление охватить социальные явления целиком находит наиболее характерное выражение в призывах увидеть их на расстоянии и во всей полноте, ибо это дает надежду, что обнаружатся закономерности, с близкого расстояния неразличимые. Это мог быть либо призыв представить себя глядящим с далекой планеты, что всегда было любимым приемом позитивистов -- от Кондорсе до Маха [см.: Ernst Macg. Erkenntnis und Irrtum 3ud ed., 1917, p. 28, где он, впрочем, совершенно справедливо отмечает, что "Konnten wir die Menschen aus grosserer Entfernung, aus der Vogelperspktive, von Monde aus beobachten, so wurden die feineren Einzelheiten mit den von individuellen Eriebnissen herrugrenden Einflussen fur uns verschwinden, und wir wurden nichts wahrnehmen, als Menschen, die mit grosser Regelmassigkeit wachsen, sich nahren, sich fortpflanzen." ("Если б можно было наблюдать людей на очень большом расстоянии: с высоты птичьего полета, с Луны, -- то от нас ускользнули бы все мелкие подробности, в том числе, и влияние друг на друга индивидуальных событий, и мы не увидели бы ничего, кроме людей, которые в высшей степени закономерно вырастают, питаются, размножаются.")], либо приглашение обозревать продолжительные промежутки времени в надежде, что это поможет обнаружить устойчивые конфигурации или закономерности; за всеми этими призывами всегда стояло и стоит одно и то же стремление отодвинуть от себя наше знание человеческих отношений изнутри и обрести такой подход, каким предположительно руководствовался бы некто, человеком не являющийся, но занимающий по отношению к человеку то же положение, какое мы занимаем по отношению к внешнему миру. Подобный отстраненный и всеохватывающий взгляд на происходящее с людьми, который является целью сциентистских устремлений, теперь часто называют "макроскопическим". Возможно, ему лучше подошло бы наименование "телескопический" (если понимать это просто как разглядывание издалека, а не как взгляд через перевернутый телескоп), поскольку его осознанная цель -- игнорировать все, что можно увидеть только изнутри. В "макрокосме", который таким способом пытаются разглядеть, и в теориях "макродинамики", на создание которых такой подход нацелен, элементарными единицами будут уже не отдельные человеческие существа, но коллективы, устойчивые конфигурации, которые, как предполагается, можно будет определять и описывать в строго объективных терминах. Однако в большинстве случаев эта убежденность, что такой всеобъемлющий взгляд позволит нам подойти к различению целостностей с объективным критерием, оказывается лишь иллюзией. Это сделается очевидным, как только мы попытаемся всерьез представить себе, из чего будет состоять подобный макрокосм, если мы действительно откажемся от нашего знания того, что значат вещи для действующих людей, и станем просто наблюдать за действиями людей, как человек наблюдает за муравейником или пчелиным ульем. В картине, созданной при помощи такого изучения, не нашлось бы места таким вещам, как средства производства или орудия, товары или деньги, преступления или наказания, слова или фразы; она состояла бы только из физических объектов, определенных либо в терминах чувственных признаков, как они предстают перед наблюдателем, либо вообще в чисто реляционных терминах. И человеческое поведение по отношению к физическим объектам практически не обнаруживало бы никаких закономерностей, различимых при таком способе наблюдать, поскольку в огромном большинстве случаев казалось бы, что люди не реагируют сходным образом на вещи, представляющиеся вполне одинаковыми, и, наоборот, не ведут себя по-разному по отношению к тому, что выглядит неодинаковым, постольку прежде чем появилась бы надежда на возможность объяснить их поступки, пришлось бы во всех деталях реконструировать картину видения внешнего мира, развертывающуюся перед человеком в результате работы его чувств и ума. Иными словами, чтобы понять хотя бы те действия, которые выполняет самый обычный человек, пресловутому наблюдателю с Марса пришлось бы сначала, глядя на наше поведение, воссоздавать те непосредственные данные о нашем уме, которые для нас являются исходным пунктом при всякой интерпретации человеческой деятельности. Если мы недостаточно осознаем те трудности, с которыми столкнется наблюдатель, не наделенный человеческим разумом, то потому, что никогда всерьез не допускаем, что в распоряжении какого-нибудь известного нам существа может оказаться такой способ чувственного восприятия или такое знание, какого не может быть у нас. Справедливо или нет, но мы склонны полагать, что уровень всякого встречающегося нам иного разума может быть только ниже нашего, так что все, воспринимаемое им или известное ему, может быть воспринято или узнано и нами. Единственная возможность получить хотя бы приблизительное представление, что было бы, если б нам пришлось столкнуться с организмом столь же сложным, как наш собственный, но устроенным по иному принципу, так что мы не могли бы по аналогии с работой нашего собственного ума понять его работу, -- это представить себе, что нам пришлось изучать поведение людей, знания которых намного превышают наши собственные. Например, если бы мы достигли современного уровня развития науки, не выходя за пределы определенной части нашей планеты, а потом установили бы контакты с другой частью, в которой обитала бы раса, владеющая гораздо более продвинутым знанием, у нас, разумеется, не было бы надежды разобраться во многих их поступках с помощью простого наблюдения за тем, что они делают; чтобы понимать их, мы должны были бы перенять от этих людей их знания. Мы не могли бы ознакомиться с их знаниями, наблюдая за их деятельностью, наоборот, нам пришлось бы усвоить их знания, прежде чем научиться понимать их действия. Здесь следует коротко рассмотреть еще одно соображение, которое можно использовать как аргумент в пользу взгляда на социальные явления "со стороны" и которое легко спутать с методологическим коллективизмом, при том, что на самом деле между ними есть разница. Правомерен вопрос: не являются ли социальные явления массовыми по определению, и не очевидно ли, что поэтому любые закономерности в них можно обнаружить только с помощью метода, созданного для изучения массовых явлений, а именно статистического? Ныне это до известной степени справедливо для изучения известных явлений, скажем, тех, которые составляют предмет демографической статистики и которые, как мы уже упоминали, иногда также считаются социальными явлениями, хотя между ними и теми, которыми занимаемся здесь мы, имеется существенная разница. В высшей степени показательным будет сравнение этих статистических совокупностей, к которым иногда тоже применяется термин "коллектив", с теми целостностями, или коллективами, с которыми нам приходится иметь дело в теоретических социальных науках. Статистический анализ занят, так сказать, атрибутами индивидуумов, но не теми что присущи отдельным индивидуумам, а теми, о которых нам известно только, что они присущи представителям некоторого определенного количества индивидуумов из "коллектива", или "популяции". И чтобы какую-то совокупность индивидуумов можно было считать действительно статистической выборкой, необходимо именно отсутствие систематических связей между характеристиками, частотное распределение которых мы изучаем, или, по крайней мере, отбирая кого-то для включения в исследуемую выборку, мы не должны руководствоваться никакими знаниями о подобных связях. Таким образом, статистические коллективы, на которых мы изучаем закономерности, следующие из "закона больших чисел", ни в коей мере не являются целостностями в том смысле, в каком мы применяем этот термин к социальным структурам. Лучше всего это подтверждается тем фактом, что в статистических исследованиях свойства коллективов должны оставаться неизменными, если из совокупности элементов наугад удаляется какая-то их часть. Не интересуясь структурами отношений и не имея с ними дела, статистика намеренно и систематически отодвигает от себя взаимосвязи между отдельными элементами. Она, повторим еще раз, интересуется свойствами элементов, составляющих статистический коллектив, причем не столько свойствами отдельных элементов, сколько частотой, с которой элементы с определенными свойствами встречаются в изучаемой совокупности. И, более того, она исходит из допущения, что эти свойства не имеют систематической связи с теми различными способами, посредством которых элементы взаимодействуют. Из-за этого при статистическом исследовании социальных явлений все структуры, составляющие предмет исследования теоретических, социальных наук, фактически исчезают. Статистика может снабдить нас весьма интересной и важной информацией о сырье, которое нам следует превращать в эти структуры, но не может сообщить нам ничего о самих -- " этих структурах. Для некоторых областей это утверждение самоочевидно. Вряд ли кто-нибудь станет отрицать, что, скажем, статистика слов ничего не может сообщить нам о структуре языка. То же справедливо и для других системно связанных целостностей, таких, например, как система цен, хотя время от времени нам и пытаются доказать обратное. Никакая статистическая информация об элементах не поможет нам разобраться в свойствах внутренние связанных целостностей. Статистика могла бы дать сведения об их свойствах, только если бы она располагала информацией о статистических коллективах, элементы которых сами были бы целостностями, иными словами, если бы мы располагали статистической информацией о свойствах множества языков, множества систем цен и т. п. Но, кроме практических ограничений, связанных с тем, что нам известно мало подобных примеров, есть еще другое, гораздо более серьезное препятствие, мешающее статистическому исследованию этих целостностей, -- тот факт, что, как уже говорилось, мы не можем наблюдать эти целостности и их свойства, а можем только сформировать или выстроить их из отдельных частей. Сказанное выше относится далеко не ко всему, что бытует под именем статистики в социальных науках. Многое из того, что принято называть статистикой, строго говоря, в современном понимании термина таковой не является, поскольку вообще не занимается массовыми явлениями, а называется так в традиционном, более широком смысле этого слова, в котором оно употребляется, когда речь идет о любой описательной информации о государстве или обществе. И хотя сегодня этот термин обычно используют, только если описательная информация носит количественный характер, не следует смешивать это со статистической наукой в более узком смысле. К тем отделам экономической статистики, с которыми мы сталкиваемся чаще всего: к статистике торговли, индексам цен, к большинству так называемых временных рядов или к статистике национального дохода - ко всему этому техники, подходящие для изучения массовых явлений, неприменимы. Все это -- не более чем "показатели", причем нередко показатели того рода, о каком мы уже говорили выше, в конце предыдущей главы. Если они относятся к каким-то значительным явлениям, они могут представлять собою весьма интересную информацию об условиях, существовавших в тот или иной момент. Но в отличие от собственно статистики, которая действительно может помочь нам обнаружить важные закономерности в жизни общества (пусть даже это будут закономерности совсем не того порядка, с каким имеют дело теоретические науки об обществе), нет причин ожидать, что эти показатели когда-нибудь сообщат нам что-нибудь, могущее сохранять свою значительность за пределами конкретного места и конкретного времени, иными словами, тех обстоятельств, при которых они были получены. То, что на их основе нельзя строить обобщения, не означает, конечно, что эти сведения не могут быть полезны и даже очень полезны; часто они представляют собой те данные, к которым и должны применяться наши теоретические обобщения, чтобы приносить и какую-то практическую пользу. Эти данные являются примером исторической информации о конкретной ситуации. Значение такой информации нам предстоит обсудить в следующих главах. 7. Историцизм сциентистского подхода Взгляд на "историцизм", к которому мы теперь переходим, как на продукт сциентистского подхода может показаться странным, поскольку бытует представление, что он противоположен способу рассмотрения социальных явлений, строящемуся по модели, принятой в естественных науках. Однако воззрения, к которым собственно относится этот термин (и которые не следует' смешивать с действительно историческим методом изучения), при ближайшем рассмотрении оказываются результатом тех же предрассудков, что и другие типично сциентистские ложные представления о социальных явлениях. Если заявление, что историцизм -- это не противоположность, а, скорее, одна из форм сциентизма, все-таки похоже на парадокс, то потому, что данный термин используется в двух разных, отчасти даже противоположных значениях, которые тем не менее часто путают: для традиционной точки зрения, которая, справедливо противопоставляя специфические задачи историка и задачи естествоиспытателя, отрицала возможность истории как теоретической науки, и для более поздней точки зрения, которая, наоборот, утверждает, что история -- это единственная дорога, ведущая к созданию теоретической науки о социальных явлениях. Как ни значителен контраст между крайними формами этих двух подходов, порой именуемых историцизмом, все же у них достаточно много общего, чтобы стал возможным постепенный и почти незаметный переход от исторического метода историка к сциентистскому историцизму, который пытается сделать историю "наукой", причем единственной наукой о социальных явлениях. Старая историческая школа, становление которой было недавно так хороню описано немецким историком Майнеке (правда, под неудачным названием Historismus) [G. Meinecke. Die Entstehung des Historismus. 1936. Применение термина "историцизм" к старой исторической школе неправильно потому, что он введен Карлом Менгером (см. его: Untersuchungen uber die Methoden der Sodilwissenschaften. 1883, pp. 216--220 (ссылкой на Гервинуса и Рошера) и Die lrthumer des Histonsmus [1884]) для обозначения отличительных черт новой исторической школы в экономической науке, представителями которой были Шмоллер и его единомышленники. На различие между этой новой исторической школой и тем движением, от которого она унаследовала имя, ясно указывает то, что именно Шмоллер обвинил Менгера в приверженности идеям "школы Барка-Савиньи", а не наоборот. (Ср.: G. Schmoller Zur Methodologie der Staats und Sozialwissenschaften. "Jahrbuch fur Gesetzgebung", 1886, n. f., vol. 7, p. 250)], возникла в основном как реакция на определенную генерализацию и "прагматическую" тенденцию, свойственную некоторым воззрениям, распространившимся в XVIII веке, особенно во Франции. Основной упор этой школой делался на единичный, или уникальный (individuell), характер всех исторических явлений, которые могут быть поняты только генетически, то есть как соединенный результат многих сил, действовавших на протяжении длительных отрезков времени. Решительный отказ от "прагматической" интерпретации, считающей социальные институты результатом сознательного замысла, фактически означал обращение к "композитивной" теории, согласно которой такие институты возникают как непреднамеренный результат разрозненных действий множества людей. Важно, что в числе основоположников такого подхода одним из самых заметных был Эдмунд Берк, а почетное место среди них принадлежало Адаму Смиту. И все же, хоть этот исторический метод и предполагает теорию, то есть выявление и осмысление структурных принципов, обеспечивающих согласованность социальных целостностей, применявшие его историки не только не заботились о систематическом развитии такого рода теорий и вряд ли сами понимали, что пользуются ими; их справедливая нелюбовь к каким бы то ни было обобщениям, касающимся исторических событий, придавала их учению еще и некий антитеоретический уклон, который хотя и был первоначально направлен только против действительно неверной теории, все-таки создавал впечатление, что различие между методами естественных и методами социальных наук выступает как различие между теорией и историей. Из-за этого отрицания теории самым многочисленным отрядом исследователей общественных явлений стало казаться, что разница между теоретическим и историческим подходами является закономерным следствием разницы между объектами естественных и общественных наук, и убежденность, что поиском общих правил следует заниматься исключительно при изучении природных явлений, а изучением общественной жизни должен управлять исторический метод, стала тем фундаментом, на котором позже вырос историцизм. Но, хотя историцизм также продолжал настаивать на приоритете исторических изысканий в социальной области, его отношение к истории стало почти противоположным тому, какое было свойственно старой исторической школе, и под напором сциентистских влияний, характерных для нашей эпохи, историю начали представлять как эмпирическое изучение общества, которое в конце концов приведет к выявлению некоей всеобщей закономерности. История должна была стать источником, из которого возьмет начало новая наука об обществе, наука, которая будет одновременно и исторической, и теоретической, включающей все знания об обществе, на обретение которых мы только можем надеяться. Мы не будем здесь рассматривать этапы этого перехода от принципов старой исторической школы к историцизму новой. Отметим только, что историцизм в том смысле слова, в каком его употребляем мы, создан не историками, а представителями более специальных общественных дисциплин, в частности -- экономистами, которые надеялись таким способом отыскать эмпирический путь к построению теории в своей области. Что же касается задачи описать процесс в подробностях и показать, как люди, на которых лежит ответственность за эту трансформацию, руководствовались сциентистскими воззрениями, характерными для их поколения, то ее мы оставляем на будущее. [Хотя в своих немецких истоках связь историцизма с позитивизмом, возможно, менее заметна, чем в случае с его английскими приверженцами, такими как, Инграм и Эшли, она не менее явственна и ее не замечают только потому, что историцизм ошибочно связывают с методом более ранних историков, а не с воззрениями Рошера, Гильдебранда и особенно Шмоллера и его кружка.] Первый вопрос, на котором мы должны коротко остановиться, -- о природе различия между историческим и теоретическим толкованием всякого предмета, различия, фактически являющегося причиной того противоречия в терминах, которое сопутствует требованию превратить историю в теоретическую науку или добиться, чтобы теория стала когда-нибудь "исторической". Если мы поймем, в чем тут разница, станет ясно, что она не обязательно связана с различием между конкретными объектами, с которыми имеют дело эти два подхода, и что для понимания всякого конкретного явления, будь оно природным или общественным, одинаково необходимы и исторические, и теоретические знания. То, что человеческая история имеет дело с событиями или ситуациями уникальными, или единичными, если принять во внимание все аспекты, которые имеют значение или ответе на любо возможный вопрос об этих событиях, не является, конечно, исключительной особенностью только ее. Это же справедливо и в отношении всякой попытки объяснить конкретное явление, при условии, что мы принимаем в расчет достаточно много аспектов, иначе говоря, не ограничиваемся намеренно лишь теми аспектами реальности, которые попадают в сферу действия той или иной системы взаимосвязанных утверждений, представляющей отдельную теоретическую дисциплину. Если я стану наблюдать и описывать, как постепенно зарастает сорняками надолго оставленный без ухода участок моего сада, получится отчет о процессе, не менее уникальном во всех его деталях, чем любое событие человеческой истории. Если я захочу объяснить появление на какой-либо из стадий этого процесса того или иного расположения разных растений, мне понадобится учесть все влияния, оказанные в разное время на разные кусочки моего участка. Мне придется принять во внимание все, что я смогу узнать о разнице в составе почвы в разных концах участка, об изменениях в интенсивности солнечного излучения, о влажности, о воздушных потоках и т. д., и т. п., а чтобы объяснить воздействие всех указанных факторов, мне, кроме конкретных знаний обо всех этих фактах, придется использовать еще и теоретические знания из различных отделов физики, химии, биологии, метеорологии и так далее. И в результате получится объяснение отдельного явления, но никак не теоретическая наука о зарастании садовых участков сорными травами. В подобных случаях определенная последовательность событий, их причины и следствия, по всей вероятности, не будут представлять общего интереса, достаточного, чтобы оправдать составление письменного отчета обо всем этом или повести к созданию отдельной дисциплины. Но есть обширные области естественнонаучного знания, представленные признанными дисциплинами, имеющими именно такой методологический характер. Скажем, география и, по крайней мере, значительная часть геологии и астрономии интересуются преимущественно конкретными ситуациями либо на Земле, либо во вселенной; их задача -- объяснять уникальные ситуации, выявляя, каким образом они возникают под действием многих сил, подчиненных общим законам, изучением которых заняты теоретические науки. В том специфическом смысле, в каком термин "наука" часто используется для обозначения некоего корпуса общих правил [следует заметить, что такое применение слова "наука" (в том смысле, в каком немцы говорят Gesetzeswissenschaft -- познание законов) хоть и имеет ограниченную сферу, все-таки шире, чем применение его в еще более узком смысле, когда оно обозначает исключительно теоретические знания о природе], эти дисциплины не являются научными, точнее, теоретическими, поскольку их цель, - применяя открытые теоретическими науками законы, объяснять отдельные "исторические" ситуации. Различие между поиском общих принципов и объяснением конкретных явлений, таким образом, не обязательно соответствует различию между изучением природы и изучением общества. В обеих областях для объяснения конкретных и уникальных событий необходимы обобщения. Единственный способ понять или объяснить отдельное явление -- это отнести его или составляющие его части к определенным классам явлений, при этом объяснение отдельного явления предполагает существование общих правил. Тем не менее, имеются весьма основательные причины отмечать разницу в акцентах -- причины, в общем объясняющие, почему в естественных науках почетное место отводится поиску общих законов, а о применении этих законов к отдельным событиям говорится, как правило, совсем немного, и широкого интереса этот вопрос не вызывает, в то время как в случае с. общественными явлениями объяснение отдельной и уникальной ситуации, по крайней мере, не менее важно, чем какое бы то ни было обобщение, а часто бывает и гораздо более интересно. В большинстве естественных наук отдельная ситуация или конкретное событие -- это обычно один факт из длинного ряда сходных событий, которые в этом своем качестве конкретных событий вызывают лишь локальный и временный интерес и вряд ли заслуживают публичного обсуждения (разве что как подтверждающие справедливость общего закона). Для естественных наук важен общий закон, приложимый ко всем повторяющимся событиям определенного рода. В области же общественных наук, наоборот, отдельное, уникальное событие часто представляет настолько большой интерес и в то же время является настолько сложным и настолько труднообозримым во всех существенных аспектах, что его обсуждение и объяснение превращаются в главную задачу, требующую от специалиста траты всех его сил. Мы изучаем отдельные события, поскольку именно их соединение и создало те конкретные условия, в которых мы живем, или поскольку они являются частью этих условий. Возвышение и падение Римской империи, крестовые походы, Великая французская революция или развитие современной промышленности -- все это уникальные комплексы событий, способствовавших возникновению тех определенных обстоятельств, в которых мы живем и объяснение которых представляет поэтому такой большой интерес. Необходимо, однако, коротко остановиться на логической природе этих единичных, или уникальных, объектов исследования. Не исключено, что большая часть многочисленных связанных с этим споров и затруднений происходит из-за отсутствия четкого представления о том, что именно может составлять отдельный объект мысли, и в частности -- из-за (ошибочного мнения, что тотальность (то есть все возможные аспекты) определенной ситуации может быть отдельным, единичным объектом мышления. У нас имеется возможность коснуться только очень немногих логических проблем, связанных с таким мнением. Первый момент, о котором нам следует помнить, состоит в том, что, строго говоря, всякое мышление должно быть в некоторой степени абстрактным. Ранее мы уже видели, что любое восприятие реальности, включая простейшие ощущения, заключается в классификации объекта соответственно какому-то его свойству или нескольким свойствам. И, стался быть, один и тот же комплекс явлений, который мы способны обнаружить в данных пространственно-временных пределах, можно рассматривать с разных сторон, при этом принципы, согласно которым мы классифицируем или группируем рассматриваемые события, могут отличаться друг от друга необязательно в одном каком-то отношении, но и в нескольких. Различные теоретические науки имеют дело только с теми аспектами явлений, которые укладываются в тот или иной набор взаимосвязанных утверждений. Необходимо особенно отметить, что это равной мере касается как теоретических наук о природе, так и теоретических наук об обществе, в связи с тем, что пресловутая тенденция естественных наук изучать физические объекты в их "целостности", или "тотальности", часто приводится авторами, питающими склонность к историцизму, в качестве оправдания таких же действий в области социальных наук. [См., например: E. M. Durbin. Methods of Research -- A Plea for Cooperation in the Social Sciences. "Economic Journal". l938, June, p. 191, где автор доказывает, что в общественных науках "в отличие от наук естественных, членение на подразделы преимущественно (хотя и не всегда) отражает различного типа абстракции от реальности, а не фрагменты самой реальности", и настаивает на том, что в естественных науках "во всех таких случаях предметом изучения являются реально существующие обособленные объекты и группы. Они не представляют собой аспектов чего-то сложного. Это реальные вещи". Как можно заявлять это, скажем, о кристаллографии (один из примеров Дурбина), понять непросто. Такие рассуждения были в высшей степени популярны среди представителей немецкой исторической школы в экономической науке, хотя следует добавить, что Дурбин, по-видимому, понятия не имеет, насколько его установка в целом напоминает позицию "катедерсоциалистов", принадлежавших к этой школе.] Однако любая дисциплина, будь она исторической или теоретической, может иметь дело только с некоторыми избирательными аспектами реального мира, а в теоретических науках принцип отбора строится на возможности подвести эти аспекты под логически связную совокупность правил. Одна и та же вещь может для одной науки быть маятником, для другой -- куском бронзы, а для третьей -- вогнутым зеркалом. Мы уже говорили, что факт наличия у маятника химических и оптических свойств вовсе не обязывает нас при изучении законов колебания пользоваться методами химии и оптики (хотя, если потребуется применить эти законы к конкретному маятнику, у нас могут оказаться основания принять в расчет некоторые химические или оптические законы). И, как тоже отмечалось выше, тот факт, что все общественные явления имеют физические свойства, не обязывает нас изучать их, применяя методы естественных наук. Выбор из некоего комплекса явлений аспектов, объяснимых при помощи системы взаимосвязанных правил, тем не менее, не есть единственный метод отбора или абстрагирования, к. которому приходится прибегать ученому. Если его исследование имеет целью не установление законов общего характера, а ответ на определенный вопрос, вызванный событиями в окружающем его мире, ему понадобится отобрать те характеристики, которые имеют отношение к этому конкретному вопросу. Важно, однако, что ему все же придется отбирать ограниченное количество из того бесконечного многообразия явлений, которое обнаруживается в любой данной точке пространства и времени. О подобных случаях мы иногда говорим так, будто он рассмотрел ситуацию в "целостности" -- то есть, в том виде, в каком она предстала перед ним. Но то, что мы имеем в виду, не представляет собою неисчерпаемой совокупности всего, попадающего в поле зрения в определенных пространственно-временных границах, всего лишь отдельные черты, предположительно имеющие значение для разрешения поставленного вопроса. Если, например, я задамся вопросом, почему сорняки в моем саду растут именно так, а не иначе, мне не сможет ответить ни одна теоретическая наука. Это, однако, не означит, что для ответа нам придется узнать все, что только можно, о том пространственно-временном интервале, в котором уместилось интересующее пас явление. В то время как, задавая вопрос, мы выделяем явления, которые предстоит объяснить, отобрать другие явления, необходимые для объяснения, мы можем только с помощью теоретических законов. Объектом научного исследования никогда не является совокупность всех явлений, наблюдаемых в данном месте и в данное время, это всегда лишь отдельные избирательные аспекты; при этом в зависимости от вопроса одна и та же пространственно-временная ситуация может включать любое количество различных объектов изучения. На деле человеческий мозг не в состоянии охватить "целостность" -- то есть, все разнообразие аспектов реальной ситуации. Соотнесение этих соображений с явлениями человеческой истории приводит к очень важным выводам. Важнейший из них состоит в том, что ни один исторический процесс (или период) никогда не является единичным четко определенным объектом мышления, и становится таковым только благодаря вопросу, которым мы задаемся в связи с этим процессом, и что/ в зависимости от вопроса то, что мы привыкли считать отдельным историческим событием, может превращаться в неограниченное количество разных объектов мысли. Именно отсутствие ясности в этом вопросе послужило главной причиной возникновения столь популярной ныне доктрины о том, что все историческое знание непременно относительно, обусловлено нашей "точкой зрения" и с течением времени подвержено изменениям. [Достаточно полный обзор современных теорий исторического релятивизма приводится в: М. Mandelbaum. The Problem of Historical Knowledge. New York, 1938.] Такой подход естественно следует из убежденности в том, что общеупотребительные названия исторических периодов или комплексов событий, такие как "наполеоновские войны", или "Франция времен Революции", или "Британия эпохи Содружества наций" обозначают четко определенные объекты, уникальные "экземпляры", данные нам так же, как природные единицы, будь то биологические особи или планеты. На деле приведенные названия исторических феноменов указывают не более, чем на период и место, а между тем ряд вопросов, которые мы можем задать о событиях, произошедших в этот период и в этом регионе, практически бесконечен, При этом наш объект будет определяться только поставленным вопросом; а причин, по которым в разное время люди будут задавать разные вопросы об одном и том же периоде, само собою, очень много. [У нас нет возможности и дальше углубляться в интересную проблему, почему историки задают те или иные вопросы и почему в разное время они задают разные вопросы об одном и том же периоде. Тем не менее следует, наверное, коротко упомянуть об одной широко распространенной точке зрения, поскольку ее сторонники заявляют, что их подход применим не только к истории, но и вообще ко всем Kulturwissenschaften (наукам о культуре). Так, Риккерт утверждает, что социальные науки, для которых, по его мнению, подходит только исторический метод, производят отбор объектов изучения, исходя исключительно из их значимости по отношению к определенным ценностям. Это безусловно далеко не всегда так, если только под "ценностными соображениями" (Wertbezogenheit) не понимать любого рода практический интерес к проблеме, так что это понятие будет включать и причины, заставляющие нас изучать, к примеру, геологию Камберленда. Если бы я из одной склонности к работе детектива попытался узнать, почему г-на N в таком-то году избрали мэром Кембриджа, это было бы настоящее историческое изыскание, хотя тот факт, что избран был г-н N, а не кто-то другой, не имеет отношения ни к каким признанным ценностям. На самом деле исторической делают проблему не причины, по которым мы ею интересуемся, а характер этой проблемы.] Но это не означает, что на основании одной и той же информации, но в разное время, история станет по-разному отвечать на один и тот же вопрос. Ведь только это давало бы нам право утверждать, что исторические знания относительны. Доля правды, имеющаяся в утверждении об относительности исторических знаний, состоит в том, что в разное время историки интересуются разными вопросами, но это не значит, что они неизбежно будут придерживаться разных воззрений на один и тот же предмет. Следует еще немного задержаться на природе "целостностей", изучаемых историками, хотя большая часть из того, что мы должны казать, будет просто дополнением к сказанному ранее о целостностях, рассматриваемых некоторыми авторами в качестве объектов теоретических генерализаций. Все это в полной мере относится и к тем целостностям, которые изучают историки. Они не бывают даны как целое, историк всегда воссоздает их из элементов, ибо только они доступны для непосредственного восприятия. О чем бы ни шла речь: о существовавшем когда-то правительстве или о развитии торговли, о передвижениях армии ли о сохранении либо распространении знания -- говорится не о некоем постоянном наборе непосредственно наблюдаемых физических признаков, но только о системе отношений между какими-то наблюдаемыми элементами, которую можно из них лишь вывести. За такими словами, как "правительство", "торговля", "армия", не стоят никакие отдельно наблюдаемые объекты, они обозначают структуры отношений, которые могут быть представлены только при помощи схематического, или "теоретического", описания устойчивой системы отношений между постоянно меняющимися элементами. [Сказанное не отменяет того существенного факта, что историк обычно получает сведения в уже "теоретизированном" виде, поскольку в любом источнике "фактической информации" неизбежно содержатся такие понятия, как "государство" или "город", не определяемые через какие-то физические характеристики, но отсылающие к комплексам отношений, как раз и составляющим (если их эксплицировать) "теорию" предмета.] Иными словами, для нас эти "целостности" не существуют отдельно от теорий, посредством которых мы их выстраиваем, вне зависимости от мыслительных приемов, с помощью которых мы можем восстановить связи между наблюдаемыми элементами и проследить, что именно следует из такой-то конкретной их комбинации. Роль теории в исторических знаниях заключается, таким образом, в сформировании, или воссоздании, тех целостностей, к рассмотрению которых обращается история; теория предшествует этим целостностям, и они становятся явными только тогда, когда нам удается проследить систему отношений, связывающую их части. Однако теоретические обобщения не относятся и не могут относиться, как ошибочно полагали ученые старой исторической школы (которые по этой причине отвергали теорию), к конкретным целостностям, к тому или иному реальному расположению элементов, интересующему историю. Модели целостностей, тех структурных взаимосвязей, которыми теория в готовом к употреблению виде снабжает историка (причем и они являются не данными элементами, относительно которых строятся теоретические обобщения, но продуктами теоретической деятельности) -- это нечто совсем иное, чем сами целостности, рассматриваемые историком. Модели, создаваемые любой теоретической наукой об обществе, неизбежно состоят из однородных элементов, выбранных потому, что их связи могут быть объяснены с помощью ряда взаимосогласованных принципов, а не потому, что они помогают ответить на тот или иной вопрос о конкретных явлениях. Когда нужно получить ответ на конкретный вопрос, историку приходится систематически прибегать к генерализациям из разных сфер теоретического знания. Таким (образом, его работа, равно как и любая попытка объяснить отдельное явление, предполагает опору на теорию; она, как и всякое осмысление конкретного явления, заключается в применении общих понятий для объяснения отдельных феноменов. Если зависимость исторического исследования социальных явлений от теории признается не всегда, то главным образом потому, что большинство теоретических схем, используемых историками, по природе своей весьма просты, так что выводы, сделанные на их основе, не вызывают сомнений; более того, историки нередко почти не отдают себе отчета в том, что они вообще прибегали к каким-то теоретическим рассуждениям. Но это не отменяет того факта, что по своим методологическим характеристикам и по своей обоснованности концепции социальных явлений, которые приходится применять историку, в сущности не отличаются от более сложных моделей, создаваемых теоретическими науками об обществе. Все изучаемые им уникальные исторические объекты на деле являются либо устойчивыми схемами отношений, либо повторяющимися процессами, элементы которых имеют общие родовые признаки. Когда историк говорит о государстве или битве, городе или рынке, за этими словами стоят внутренне согласованные структуры единичных явлений, и они ясны для нас лишь постольку, поскольку мы понимаем намерения действующих индивидуумов. Если историк говорит об определенной системе, существовавшей в какой-то период, скажем, о феодализме, он имеет в виду, что в течение всего этого времени отношения строились по определенной схеме, что регулярно повторялись определенные типы действий, словом, речь идет о структурах, внутреннюю согласованность которых он может понять, только воспроизведя "в уме" отдельные образующие их отношения. Короче говоря, те уникальные целостности, которые изучает историк, даны ему не как отдельные "индивидуальные" явления, как естественные единицы, особенности которых он может установить путем наблюдения, а как конструкции, созданные с помощью методов, систематически разрабатываемых теоретическими науками об обществе. [Неразбериха, царящая в этой области, происходит, очевидно, из-за чисто словесной путаницы, объясняющейся некоторыми свойствами немецкого языка, на котором велось большинство дискуссий по этой проблеме. В немецком языке для обозначения единичного, уникального используется слово Individuelle, и это почти неизбежно вызывает ошибочную ассоциацию со словом "индивидуум" (Individuum). Мы же применяем слово "индивидуальный" к тем естественным единицам физического мира, которые можем с помощью чувств выделить из внешней среды в качестве внутренне связных целостностей. В этом смысле "индивидуумы" -- будь то отдельные люди, животные, растения, камни, горы или звезды -- суть устойчивые наборы чувственных признаков, которые (либо потому, что весь комплекс может перемещаться в пространстве относительно своего окружения, либо просто из-за смежности) наши чувства спонтанно выделяют как связные целостности. Но объекты исторической науки как раз не таковы. Хотя они и единичны (individuelle), как и положено "индивидуумам", они не представляют собой четко очерченных индивидуальных явлений в том смысле, в котором этот термин употребляется применительно к природным объектам. Они не даны нам в качестве целостностей, факт их целостности устанавливается нами.] Собирается ли историк дать общее описание того, как возник некий институт, или того, как он функционировал, ему в любом случае придется прибегнуть к определенной комбинации общих соображений о тех элементах, из которых складывалась уникальная ситуация. В процессе такой работы по реконструированию целого он не может использовать никаких иных элементов, кроме обнаруживаемых эмпирически, но все равно не наблюдение, а только "теоретическая" работа по реконструированию помогает ему разобраться в том, что из найденного им является частью некоего связного целого. Таким образом, теоретические и исторические изыскания -- это разные с точки зрения логики, но взаимодополняющие виды деятельности. Если правильно понять их задачи, то конфликта между ними не будет. И хотя эти задачи различны, существуя врозь, они не приносят особой пользы. Но это не противоречит тому факту, что как теория не может быть исторической, так и история -- теоретической. Хотя общее представляет интерес лишь постольку, поскольку оно объясняет частное, а частное можно объяснить только через обобщения, частное не бывает общим, а общее не бывает частным. Досадное недопонимание между историками и теоретиками возникло преимущественно из-за неудачного названия "историческая школа", узурпированного межеумочным подходом, которому лучше подошло бы название "историцизм" и который действительно не является ни историей, ни теорией. Наивный взгляд на изучаемые историей комплексы как на данные целостности естественно ведет к убеждению, что "законы" развития таких целостностей можно раскрыть, наблюдая их. Подобная убежденность есть одна из самых характерных черт той самой сциентистской истории, которая, выступая под именем историцизма, пыталась найти эмпирические основы теории, или "философии", истории (тут слово "философия" понимается в его прежнем смысле, как "теория") и установить закономерную последовательность четко определенных "стадий" или "фаз", "систем" пли "стилей", сменяющих друг друга в ходе исторического развития. Приверженцы подобной точки зрения, с одной стороны, пытаются отыскать общие законы там, где их в принципе быть не может, а именно -- в череде уникальных и единичных исторических явлений, а с другой -- отвергают возможность создания такой теории, которая одна только и могла бы помочь нам понять уникальные целостности, -- теории, показывающей разные способы, какими из известных элементов могут складываться те уникальные комбинации, с которыми мы сталкиваемся в реальном мире. Таким образом, эмпирицистский предрассудок не только перевернул с ног на голову тот единственный метод, с помощью которого возможно познание исторических целостностей, их реконструирование из частей; он побудил ученых относиться к расплывчатым представлениям о таких целостностях, постигаемых всего лишь интуитивно, как к объективным фактам; и, в довершение ко всему, он породил убежденность, что элементы, то есть единственное, что мы можем схватывать непосредственно и из чего следует реконструировать целое, напротив, могут быть поняты, только если исходить из целого, которое должно быть известно, прежде чем мы сможем понять элементы. Убеждение, что человеческая история, представляющая результат взаимодействия бессчетного множества человеческих умов, должна, тем не менее, подчиняться простым законам, доступным человеческому уму, в настоящее время распространилось так широко, что мало кто вообще осознает, какие воистину поразительные претензии скрываются за ним. Вместо того, чтобы терпеливо трудиться над скромной задачей воссоздания - из непосредственно известных элементов -- сложных и уникальных структур, встречающихся нам в жизни, вместо того, чтобы изучать, как изменения в отношениях между элементами приводят к изменениям целого, авторы этих псевдотеорий претендуют на то, что они нашли некий кратчайший путь, обеспечивающий разуму прямое проникновение в законы исторической смены непосредственно постигаемых нами целостностей. При всей своей сомнительности, подобные теории развития поражают воображение публики гораздо сильнее, чем какие бы то ни было результаты настоящих систематических исследований. "Философии", или "теории", истории (они же "исторические теории") [Бывают, конечно, случаи, когда и в самом деле можно говорить об исторических теориях -- когда под словом "теория" понимается "эмпирическая гипотеза". Именно в этом смысле неподтвержденное объяснение отдельного события часто именуют "исторической теорией", но такая теория, конечно, не имеет ничего общего с теориями, претендующими на то, что ими установлены законы исторического развития.], стали воистину характернейшей чертой, "порочной страстью" девятнадцатого века [см. работу А. .............. в: Phylosohpy and History, Essays Presented to E. Cassier, ed. R. Klibansky and H. J. Paxton. Oxford, 1936, p. 30]. От начала, положенного Гегелем и Контом, и -- особенно -- Марксом, вплоть до сделанного Зомбартом и Шпенглером такие псевдотеории рассматривались как достижения общественных наук; а благодаря вере в то, что одна "система" в силу исторической необходимости должна сменяться другой, они даже сумели оказать глубокое влияние на эволюцию общества. Это произошло, главным образом, из-за их внешнего сходства с естественнонаучными законами; во времена, когда именно естественные науки устанавливали стандарт, на соответствие которому проверялось все, создаваемое интеллектом, претензии подобных исторических теорий на то, что они способны предсказывать грядущее, рассматривались как свидетельствующие об их самом что ни на есть научном характере. И хотя марксизм -- всего лишь один из многих характерных для девятнадцатого века продуктов такого рода, именно благодаря ему это порождение сциентизма получило столь широкое распространение и оказывает такое влияние, что в марксистских терминах теперь мыслят не только приверженцы этого учения, но, наравне с ними, и многие из его противников. Выдвигая новый идеал, такой ход развития приносил также и вред, поскольку дискредитировал существовавшую теорию, на которой основывалось прежнее понимание социальных явлений. Предполагалось, что мы можем непосредственно наблюдать изменения, происходящие в обществе в целом пли в любом отдельном общественном явлении, и что все элементы целого должны непременно изменяться вместе с ним. Поэтому был сделан вывод, что не должно быть никаких вневременных законов, относящихся к элементам, из которых такие целостности состоят, как не должно быть и никаких универсальных теорий о том, как эти элементы могут' соединяться в целостности. Было объявлено, что всякая теория, касающаяся общества, -- это обязательно историческая теория (zeitgebunden), и быть справедливой она может только по отношению к отдельным историческим "фазам" или "системам". Любые концепции любых индивидуальных явлений, согласно такому последовательно проводимому историцизму, должны рассматриваться всего лишь как исторические категории, имеющие смысл только в определенном историческом контексте. Утверждается, например, что цена в XII в. или монополия в Египте в 400-ом году до нашей эры -- это не "то же самое", что цена и монополия в наши дни, и поэтому объяснять тогдашние цены или политику тогдашних монополистов, пользуясь той же теорией, с помощью которой мы объясняем современное ценообразование или монополию -- затея пустая и обреченная на провал. Подобные рассуждения основаны на полном непонимании роли теории. Разумеется, если мы захотим узнать, почему в такой-то день была назначена такая-то цена или почему монополист поступил тогда-то так-то, -- это будет исторический вопрос, на который не сможет дать полного ответа никакая теоретическая дисциплина; чтобы ответить, мы должны взять в расчет конкретные обстоятельства, связанные с временем и с местом. Но это вовсе не означает, что при отборе факторов, имеющих значение для объяснения конкретной цены и т. п., мы должны отказаться от точно таких же теоретических рассуждений, какие были бы у нас, если б речь шла о сегодняшних ценах. Разделяющие подобную точку зрения упускают из вида, что "цена" и "монополия" - это не указывающие на фиксированный набор физических признаков названия вполне определенных "вещей", так что по некоторым признакам мы узнаем об их принадлежности к одному классу, а остальные их признаки устанавливаем с помощью наблюдения; напротив, речь идет об объектах, определяемых только в терминах тех или иных отношений между человеческими существами и не могущих иметь никаких признаков помимо тех, которые вытекают из определяющих их отношений. Мы можем рассматривать их как цену или как монополию лишь постольку, поскольку можем рассмотреть эти индивидуальные отношения и составить из таких элементов структурную схему, именуемую ценой или монополией. Конечно, ситуация "в целом" (или назовем это даже "целостностью" всех действующих лиц) в очень большой степени зависит от места и времени, в другом месте и в другое время она будет и выглядеть другой. И одна только наша способность разглядеть в каждой неповторимой ситуации знакомые элементы позволяет нам придавать этим явлениям определенное значение. И, стало быть, мы либо не можем узнать, что означают индивидуальные действия -- и они остаются для нас не более, чем физическими фактами: передачей из рук в руки каких-то материальных предметов и т. п., -- либо укладываем их в мыслительные категории, привычные для нас, но не поддающиеся определению в физических терминах. Если бы было верно первое, это означало бы, что мы вообще ничего не можем узнать о прошлом, поскольку нам не под силу было бы понять, о чем идет речь в документах, из которых мы получаем фактические сведения.[Ср.: C. V. Langlois, С. Seignobos. Introduction to the Study of History, trans. G. G. Berry. London, 1898, p. 222: "Если бы человечество прошедших эпох не было похоже на человечество наших дней, исторические документы оставались бы совершенно непонятными для нас".] Последовательный историцизм неизбежно приводит к представлению, что человеческий ум сам по себе переменчив, что в большинстве своем (если не все) проявления человеческого ума вне соответствующего исторического контекста вообще не могут быть поняты, что только зная, как сменяют друг друга такие целостные ситуации, мы можем постичь законы изменения человеческого разума и что только знание этих законов дает нам возможность понять любое частное его проявление. Историцизму, отказавшемуся признать универсальную композитивную теорию и, следовательно, не имеющему возможности увидеть ни как из разных конфигураций одних и тех же элементов могут составляться совершенно разные комплексы, ни как вообще могут возникать целостные образования, при том что они не были задуманы человеком, только и оставалось искать причины изменений социальных структур в изменениях самого человеческого разума -- изменениях, которые, как заявляется, можно понять и объяснить, исходя из изменений в непосредственно схватываемых нами целостностях. Начиная с крайних утверждений некоторых социологов, что логику саму по себе нельзя считать неизменной, и с веры в "дологический" характер мышления первобытного человека и кончая более изощренными рассуждениями новейшей "социологии познания", данный подход сделался одной из наиболее характерных черт современной социологии. Старый вопрос о "неизменности человеческого разума" был, таким образом, поставлен, как никогда ранее, остро. Конечно, это выражение слишком расплывчато для того, чтобы какое бы то ни было обсуждение дальнейшего имело смысл без необходимых уточнений. Вполне понятно, что не только любой индивидуум во всей исторически присущей ему сложности, но также и определенные человеческие типы, преобладающие в те или иные времена или в тех или иных местностях, очень значительно отличаются от других индивидуумов или типов. Но этому не противоречит тот факт, что мы вообще не были бы способны понимать их и просто считать человеческими, то есть разумными, существами, если бы не существовало определенных инвариантных свойств. Мы не можем распознавать "разум" абстрактно. Говоря о разуме, мы имеем в виду, что определенные явления могут быть успешно истолкованы благодаря аналогии с нашим собственным умом, что использование привычных категорий нашего собственного мышления позволяет давать наблюдаемому удовлетворительное рабочее объяснение. И, стало быть, считать нечто "разумом", значит считать, что это есть нечто, похожее на наш собственный ум, и что мы считаем это разумом лишь постольку, поскольку он похож на наш собственный. Говорить о разуме, имеющем структуру, принципиально отличающуюся от той, которую имеет наш собственный, или заявлять, что мы способны наблюдать изменения базовых структур человеческого ума, значит не просто претендовать на невозможное: такое высказывание бессмысленно. И с этой точки зрения вопроса о неизменности человеческого разума вообще не существует -- человеческим разумом можно признать только то, что действует так же, как наше собственное мышление. Самим признанием существования разума неизбежно предполагается, что к воспринимаемому с помощью чувств мы что-то добавляем, что истолковываем явления, так сказать, в свете нашего собственного ума, иными словами, обнаруживаем, что они укладываются в готовые схемы нашего собственного мышления. Применительно к человеческим действиям такого рода истолкование не всегда бывает успешным и, что еще хуже, мы никогда не можем быть абсолютно уверены, что оно бывает точным в каждом отдельном случае; все, что мы знаем, -- это, что оно срабатывает в подавляющем большинстве случаев. И, тем не менее? только на этой основе возможно понимание того, что мы называем интенциями других людей, или смыслом их поступков, и, несомненно, это единственное основание для всех наших исторических знаний, поскольку условием обретения таких знаний является наше понимание того, что сказано в письменных источниках и документах. Переходя от людей, подобных нам самим, к другим существам, мы можем, конечно, обнаружить, что с помощью такого способа нам удается понимать все меньше и меньше. И нельзя исключить вероятность того, что однажды нам могут встретиться существа, которые, хотя окажутся физически похожими на людей, будут вести себя совершенно непостижимым для нас образом. По отношению к ним нам действительно придется ограничиться "объективным" исследованием (то есть подходом, которым бихевиористы настойчиво предлагают нам вооружиться для изучения людей вообще). Но было бы бессмысленно приписывать таким существам разум, отличающийся от нашего. Мы не знали бы ничего о том, что можно было бы назвать их разумом, в самом деле -- ничего, кроме физических фактов. Всякая интерпретация их действий с помощью таких категорий, как "интенция" или "цель", или "воля", была бы бессмысленной. Ум, чтобы мы могли осмысленно говорить о нем, должен быть подобен нашему. Вся идея об изменяемости человеческого разума есть прямое следствие ошибочного представления о том, что ум -- это объект, который мы наблюдаем, как наблюдаем физические факты. Однако единственное различие между разумом и физическими объектами, которое вообще дает нам основание говорить о разуме, состоит как раз в том, что во всех случаях, когда мы говорим о присутствии разума, мы интерпретируем наблюдаемое в категориях, доступных нам лишь потому, что они суть категории, которыми оперирует наш собственный разум. В заявлении, что всякий ум должен прибегать к неким универсальным категориям мышления, нет ничего парадоксального, поскольку, говоря об уме, мы имеем в виду, что нам удается успешно интерпретировать все наблюдаемого благодаря наличию этих упорядочивающих категорий. И все, что мы можем усвоить, вникая в деятельность других умов, все, что мы признаем как специфически человеческое, должно схватываться с помощью и в терминах этих категорий. Теория изменяемости человеческого разума, к которой приводит последовательное развитие историцизма, в сущности лишает его опоры: он приходит к самоопровержению, так как обобщает факты, которые, если эта теория верна, не могут быть известны. Если бы человеческий разум действительно был изменчив настолько, что мы, в соответствии с утверждениями приверженцев крайнего историцизма, не могли бы понимать непосредственно, какой смысл вкладывали люди иных эпох в те или иные высказывания, история была бы для нас вообще закрытой книгой. Целостности, от которых мы якобы идем к пониманию элементов, никогда не открылись бы нашему взору. Даже если не брать в расчет той весьма значительной трудности, которая возникала бы в связи с невозможностью понимать документы, служащие источником всех исторических сведений, историк, не имеющий изначального знания о том, как истолковывать действия и намерения индивидуумов, никогда не смог бы соединить эти действия в целостности и сформулировать в явном виде, что они собой представляют. Ему пришлось бы ограничиться разговорами о целостностях, постигаемых интуитивист, и невнятными и расплывчатыми общими рассуждениями о стилях или системах, характер которых не поддается точному определению, как на деле и поступают многие приверженцы историцизма. Из самого характера свидетельств, на которых строятся все наши исторические знания, следует, что наша история никогда не выведет нас за пределы той стадии, пребывая на которой мы потому понимаем, как работают умы действующих людей, что они устроены так же, как наш собственный. Где мы перестаем понимать, где мы уже не в состоянии распознавать мыслительные категории, похожие на те, в которых мыслим сами, там история перестает быть человеческой историей. И именно с этого момента, и только с' этого момента, перестают быть действенными общие теории социальных наук. Поскольку и история, и социальные теории основаны на одном и том же знании о работе человеческого ума, на одной и той же способности понимать других людей, постольку и пространство, в котором они существуют и действуют, закономерно ограничивается одними и теми же пределами. Отдельные положения социальной теории могут быть неприложимы к определенным периодам, так как те комбинации элементов, к которым они отсылают, тогда просто не имели места [ср.: W. Eucken. Grundlagen der Nationalokonomie. 1940, pp. 203--205]. Но, несмотря на это, они остаются правильными. Не может быть разных теорий для разных эпох, хотя при этом для объяснения наблюдаемых фактов могут требоваться то одни, то другие отделы одной и той же теории; это нетрудно проиллюстрировать, скажем, таким примером: общие рассуждения о воздействии очень низких температур на растительность могут быть неуместными, когда речь идет о тропиках, но, тем не менее, верными. Всякое истинное теоретическое утверждение социальных наук только тогда перестанет быть достоверным, когда история перестанет быть человеческой историей. Представим, что кто-то взялся наблюдать и описывать недоступные ни нашему, ни его пониманию действия существ другого рода. Его записи были бы в некотором смысле историей, допустим, чем-то вроде истории муравейника. Такую историю пришлось бы писать в чисто объективных, физических терминах. Это была бы история "того самого сорта, который соответствует позитивистскому идеалу, такая, какую написал бы о человеческой расе вошедший в поговорку наблюдатель с другой планеты. Но такая история не помогла бы нам понять никаких сообщаемых ею событий так, как понимаем мы события человеческой истории. Говоря о человеке, мы обязательно подразумеваем присутствие некоторых привычных ментальных категорий. Речь идет не о кусках плоти, обладающих такой-то формой, не о каких-то функциональных единицах, те или иные действия которых можно было бы определить в физических терминах. Полный безумец, ни одного из поступков которого мы понять не в силах, не есть для нас человек, не есть действующее лицо человеческой истории (есть не учитывать, что он может быть объектом действий и размышления других людей). Когда мы говорим о человеке, мы имеем в виду того, чьи поступки мы в состоянии понять. Как говорил старик Демокрит, ................ ["Человек -- это то, что о нем известно". -- H. Diehls. Die Fragmente der Vorsokatiker. 4th ed. Berlin, 1922, vol. 2, p. 94, "Democritus", f. n. 165. Этой ссылкой на Демокрита я обязан проф. Александру Рустову.] 8. "Целедостигающие" социальные образования В заключительных разделах нашего очерка необходимо рассмотреть кое-какие практические положения, являющиеся следствием тех теоретических воззрений, о которых говорилось выше. Наиболее характерная для них общая черта прямо вытекает из вызванной отказом от композитивной теории социальных явлений неспособности уловить, как независимые действия многих людей могут складываться в согласованные целостности, устойчивые структуры отношений, служащие важным человеческим целям, хотя они никем для этого не предназначались. Такое непонимание ведет к "прагматической" интерпретации социальных институтов [о "прагматической" интерпретации социальных институтов, как и о других проблемах, рассматриваемых в этой главе, см. работу Карла Менгера "Исследование о методах социальных наук" (Carl Menger. Vntersuchengen uber die Methude der Suzialwissenschaften. 1883, (L. S. E reprint 1933), bk. 2, chap. 2); насколько мне известно, из всего, написанного на обсуждаемую здесь тему, это обозрение до сих пор остается непревзойденным по широте охвата и тщательности], рассматривающей все социальные структуры, служащие человеческим целям, как результат сознательных намерений и отрицающей возможность упорядоченного или целесообразного устройства чего бы то ни было, если оно создавалось без заранее обдуманного плана. Ревностная поддержка такой точки зрения объясняется стараниями любой ценой уйти от всяческих антропоморфных концепций, стараниями, столь характерными для сциентистского подхода. Именно они привели к почти полному запрету на использование понятия "цель" при обсуждении спонтанного развития общества и часто оказываются причиной ошибки, очень похожей на ту, которой позитивисты хотят избежать: зная, что не все, выглядящее целесообразным, есть продукт созидающего разума, они, тем не менее, допускают, что порядок и вообще нечто, служащее достижению полезных целей, может стать результатом действий множества людей, только если сами эти действия являются результатом сознательного замысла. И получается, что они придерживаются точки зрения, ничем по существу не отличающейся от той, бытовавшей до восемнадцатого века, согласно которой язык и семья "изобретены", а чтобы создать государство, требуется заключение общественного договора. Композитивные теории социальных структур возникли как противовес именно таким воззрениям. Поскольку понятия обыденного языка нередко вводят в заблуждение, рассуждая о "целедостигающем" характере спонтанных социальных образований, необходимо все время проявлять величайшую осторожность. Соблазниться и неоправданно употребить термин "цель" в духе антропоморфизма столь же рискованно, как и отрицать, что термин "цель" в данном случае обозначает нечто важное. В своем точном первоначальном значении слово "цель" действительно предполагает действующую персону и осознанную устремленность к результату. Однако то же самое, как мы уже видели, можно сказать и о других понятиях, вроде "закона" или "организации", которые мы, за отсутствием других, подходящих, терминов, вынуждены все же приспосабливать для использования в научном языке в неантропоморфном смысле. Точно так же мы можем счесть совершенно необходимым и термин "цель" и употреблять его в строго ограниченном смысле. Пожалуй, небесполезно охарактеризовать проблему прежде всего словами выдающегося современного философа, который, хотя и заявляет в одной из своих работ во вполне позитивистской манере, что "понятие цели следует вообще исключить из научного подхода к явлениям жизни", однако признает существование "общего принципа, который часто оказывается действенным в психологии и биологии, да и в других дисциплинах: речь о том, что результаты неосознанного, или инстинктивного, поведения часто бывают точно такими же, какие могли бы быть получены вследствие рационального расчета." [М. Schlick. Fragen der Etick. Vienna, 1930, p. 72] Здесь достаточно ясно сформулирован один из аспектов проблемы: а именно, что результат, который, если бы он входил в чьи-либо намерения, мог бы быть получен только ограниченным числом способов, может быть и в самом деле получен одним из этих способов, даже если никто не стремится к нему осознанно. Но при этом все еще остается открытым вопрос, почему конкретный результат, достигнутый подобным образом, должен как-то возвышаться над другими и потому заслуживать звания "цели". Если очертить круг тех областей, в которых присутствует постоянное искушение описывать явления как "целесообразные" (при том, что ими не управляет сознательно какой-либо ум), сразу становится ясно, что их "задача", или "цель", которой они, так сказать, служат, -- это всегда сохранение "целого", устойчивой структуры отношений, существование которой мы стали считать само собой разумеющимся раньше, чем поняли природу механизма, удерживающего части этого целого вместе. Более, чем другие подобные целостности, нам знакомы биологические организмы. Здесь понятие функции органа, являющейся важным условием сохранности целого, доказало свою огромную эвристическую ценность. Нетрудно представить себе паралич, который последовал бы, если бы сциентистские предрассудки взяли верх и в биологии запретили бы все телеологические понятия. Тогда исследователь открывший, допустим, новый орган, не имел бы права на прямой вопрос: какой цели он служит, какую функцию выполняет? [Подробно об использовании телеологических понятий в биологии говорится в: J. Н. Woodger. Biological Principles. 1929, особенно в главе "Телеология и причинность" (pp. 429--451); там же (р. 291) см. обсуждение так называемого "научного образа мышления", которое привело к "позору" биологов, не принимающих всерьез понятие организации и "из-за стремления поскорее стать физиками пренебрегающих своим прямым делом.] Хотя мы и в социальной севере сталкиваемся с явлениями, наводящими на мысли об аналогичных проблемах, говорить о них как об организмах только поэтому, конечно, опасно. Ведь отдельно взятая эта ограниченная аналогия не поможет решить общую для двух сфер проблему, а заимствование чужого термина скорее всего затенит столь же важные различия. У нас нет нужды вдаваться в мелкие подробности того, о чем мы сказали уже достаточно: что социальные целостности, в отличие от биологических организмов, не даны нам в виде естественных единиц, фиксированных комплексов, которые, как подсказывает нам повседневный опыт, связаны воедино, а опознаются только с помощью мысленной реконструкции, и что части социального целого, в отличие от частей настоящего организма, могут существовать и в отрыве от своего специального места внутри целостности, будучи довольно подвижными и взаимозаменяемыми. И все же, хотя мы и не должны ожидать от этой аналогии слишком многого, есть кое-какие общие соображения, подходящие для обоих случаев. Так, в спонтанных социальных образованиях, как и в биологических организмах, части нередко ведут себя так, как если бы их целью было сохранение целого. Мы вновь и вновь сталкиваемся с тем, что если бы кто-то имел сознательную цель сохранять структуру таких целостностей и если бы у него были знания и силы, чтобы это делать, то он старался бы вызывать именно те процессы, которые происходят и так, без какого бы то ни было сознательного руководства. В социальной сфере такие спонтанные процессы,
которые способствуют поддержанию определенных
структурных связей между частями, кроме того
особым образом связаны и с нашими
индивидуальными целями: сохраняемые благодаря
им социальные целостности являются условием
достижения многих индивидуальных целей, а также
той средой, в которой только и может родиться
большая часть наших желаний и которая дает нам
возможность их удовлетворять. То, что природе и даже факту существования такой проблемы до сих пор уделяется так мало внимания [сколь сильно интеллектуальный прогресс в этой области тормозится политическими страстями, станет ясно, если сравнить обсуждения этой проблемы в экономической теории и политологии с изучением, допустим, языка. То, что в первых двух науках все еще вызывает споры, в языкознании давно стало общим местом, ни у кого не вызывающим вопросов], объясняется в значительной мере всеобщей путаницей и непониманием, что означает фраза: человеческие институты созданы человеком. Будучи в некотором смысле созданными человеком, а именно, являясь в полном смысле результатом человеческих действий, они однако могут не быть задуманным, преднамеренным продуктом этих действий. Правда, в этой связи следует признать не вполне подходящим сам термин "институт", поскольку он наводит на мысль о чем-то сознательно учрежденном. Было бы, наверное, лучше называть этим словом только своего рода изобретения, такие как определенные законы или организации, созданные ради какой-нибудь специальной цели, а для других, не созданных таким образом явлений, как деньги или язык, использовать более нейтральное слово, например, "образования" (подобно тому, как употребляется этот термин в геологии; в немецком языке ему соответствует слово Gebilde). От убеждения, что быть полезным или просто иметь значение для достижения человеческих целей может единственно то, что было сознательно спроектировано, легко перейти к представлению, что, коль скоро все институты были созданы человеком, то мы должны обладать и полной властью изменять их, как нам заблагорассудится. [В этой связи Менгер совершенно справедливо говорите "прагматизме, который, не считаясь с желаниями его приверженцев, неизбежно ведет к социализму" (ор. cit, р. 208). Сегодня такую точку зрения чаще всего можно встретить в сочинениях американских "институционалистов", для которых весьма характерен следующий пример (цитируется по: Encyclopaedia of the Social Sciences, vol. 8, pp. 87--89, статья "Institution", автор статьи -- проф. У. Г. Гамильтон): "Сложная штука, именуемая капиталистической системой, вовсе не создана по плану или по разработанной схеме; но теперь, когда она перед нами, современные ученые трактуют ее как целенаправленное и саморегулирующееся орудие общего благосостояния". От этого, само собою, рукой подать до требования "навести порядок и установить контроль над неуправляемым обществом."] Но хотя такой вывод сначала кажется самоочевидным и банальным, на деле это настоящий пример non sequitur <дословно: "не следует" (лат.)>, объясняющийся многозначностью слова "институт". Это было бы возможно, только если бы все "целедостигающие" образования представляли собой результаты чьих-либо замыслов. Однако такие явления, как язык, рынок, деньги и нравы не являются настоящими артефактами, продуктами сознательного творения. [Типичный пример отношения к социальным институтам как к самым настоящим артефактам в характерном для сциентизма обрамлении мы находим у Дж. Майера в работе "Принципы социальной науки в свете научного метода" (J. Mayer. Social Science Principles in the Light of Scientific Method. Durham, N. C., 1941, p. 20), где прямо говорится, что общество "спроектировано, как искусственное творение", такое же как автомобиль или прокатный стан, иными словами, оно есть продукт человеческой изобретательности."] Мало того, что они не возникли по чьей-либо воле, но само их существование и функционирование зависят от действий людей, которые вовсе не руководствуются желанием их сохранить. И, поскольку их поддерживают не чьи-то заботы, а индивидуальные действия, которых мы не контролируем, у нас по меньшей мере нет оснований считать очевидным, что мы можем добиться большей или хотя бы равной эффективности, создав организацию, механизм которой подчинялся бы сознательному контролю. В той мере, в какой нам удается понять природу спонтанных сил, мы можем попытаться воспользоваться ими и модифицировать их действие, внося соответствующие изменения в институты, являющиеся составными частями более общих процессов. Однако есть огромное различие между подобными попытками использовать спонтанные процессы или повлиять на них и стараниями заменить их организацией, опирающейся на сознательный контроль. Мы незаслуженно льстим себе, выдавая человеческую цивилизацию всецело за продукт сознающего разума или человеческого замысла либо допуская, что нам всегда подвластна сознательная переделка или сознательное сохранение всего, созданного нами без малейшего представления о том, что мы делаем. При том, что наша цивилизация -- это результат накопления индивидуальных знаний, она есть следствие не сознательного -- явного -- соединения всех этих знаний в каком-то отдельном уме, а воплощения их в символах, которые мы используем не понимая, в привычках и институтах, в орудиях и понятиях [Возможно, лучшая иллюстрация того, как мы постоянно пользуемся опытом или знаниями, приобретенными другими, это способ, которым мы, обучаясь говорить, учимся классифицировать вещи определенным образом, не имея реального опыта, приведшего множество сменивших друг друга поколений к такой системе классификации. В нашем "сознательном" знании всегда имплицитно присутствует громадная доля знания, о котором нам ничего не известно, но которое все же помогает нам в наших поступках, хотя вряд ли стоит говорить, что этими знаниями мы владеем.], так что человек, живущий в обществе, имеет постоянную возможность извлекать выгоду из совокупного знания, хотя ни сам он, ни кто-либо другой не обладает этим знанием во всей полноте. Многими из своих величайших достижений человек обязан не осознанным устремлениям и, тем более, не преднамеренно скоординированным усилиям многих, а процессу, в котором индивидуум играет не вполне постижимую для самого себя роль. Они шире достижений любого индивидуума именно потому, что являются результатом соединения знаний, охватить которые один-единственный ум не в состоянии. Досадно, что многие, признав это, делают вывод, что возникающие в связи с этим проблемы носят чисто исторический характер, и, таким образом, отодвигают от себя средство, с помощью которого могли бы опровергнуть ............ того мнения. Действительно, как мы уже видели, многое в старой "исторической школе" было по существу реакцией на такого рода ложный рационализм, о котором говорим и мы. Если это не удалось, так потому, что проблему объяснения этих явлений она сводила исключительно к объяснению событий, случившихся в такое-то время и в таком-то месте, и отказывалась разрабатывать систематически те логические процедуры, кроме которых ничто не может обеспечить такого объяснения. Выше мы уже говорили об этом и нет необходимости повторять это еще раз. [См. также: К. Menger. Op. cit., p. 165 et sea.] Хотя объяснение, как части социального целого зависят друг от друга, нередко сводится к прослеживанию его генезиса, это можно -- самое большее -- считать "схематической историей", которую настоящий историк справедливо не согласится признать действительно историей. Оно будет говорить не о конкретных обстоятельствах индивидуального процесса, а лишь о тех шагах, которые существенны для достижения определенного результата, о процессе, который, по крайней мере в принципе, может повториться в другом месте пли в иное время. Как и всякое подлинное объяснение, оно должно носить обобщенный характер: оно будет направлено на то, что именуют иногда "логикой событий", а многое, имеющее значение лишь для уникального исторического эпизода окажется, опущено, и главное место будет отведено взаимозависимости частей явления, которая совсем необязательно будет отражением их хронологического порядка. Короче говоря, это не история, а композитивная социальная теория. У этой проблемы есть один любопытный аспект, на который нечасто обращают достаточное внимание. Дело вот в чем: только с помощью индивидуалистического, или композитивного, метода мы можем придать четкий смысл весьма уже заезженным фразам о социальных процессах или образованиях, которые в каком-то смысле "больше", чем "просто сумма" их частей, и только он позволяет нам понять, как возникают структуры межличностных отношений, способствующие тому, чтобы совместные усилия людей приводили к желанным результатам, которых ни один человек не мог бы ни планировать, ни предугадать. Напротив, коллективист, отказывающийся ради объяснения целостностей систематически и последовательно рассматривать взаимодействие индивидуальных усилий, и претендующий на непосредственное постижение социальных целостностей как таковых, не в состоянии точно определить ни их характер, ни то, как они функционируют, и все время вынужден представлять их по аналогии с продуктами деятельности индивидуального сознания. Еще заметнее слабость, присущая коллективистским теориям становится, если обратить внимание на такой чрезвычайный парадокс: объявив, что общество в некотором смысле "больше", чем просто сумма всех индивидуумов, приверженцы этих теорий всякий раз делают своего рода интеллектуальное сальто и приходят к тезису: чтобы обеспечить согласованность в такой большой системе, ее необходимо подчинить сознательному контролю, то есть, контролю со стороны того, что, в конце концов неизбежно оказывается индивидуальным умом. Так и получается, что на деле именно сторонники коллективистских теорий все время превозносят индивидуальный разум и требуют, чтобы все силы общества были отданы под руководство единого выдающегося ума, а индивидуалисты, признавая, что возможности индивидуального разума ограничены, отстаивают свободу как условие для наиболее полного раскрытия возможностей, появляющихся у индивидуумов в процессе взаимодействия. 9. "Сознательное" управление и развитие разума Всеобщее требование "сознательного" контроля или управления социальными процессами -- это одна из самых характерных черт нынешнего поколения. Именно оно, пожалуй, яснее чем все другие клише, отражает особенный дух эпохи. Все, что не вполне подчинено сознательному руководству, рассматривается как нечто порочное, доказавшее свою иррациональность, и считается необходимой полная замена этого на сознательно спроектированный механизм. Однако немногие из весьма уверенно произносящих слово "сознательное" похожи на людей, достаточно осведомленных о том, что оно означает; большинство, похоже, не помнит, что "сознательное" и "намеренное" -- слова, имеющие смысл только в применении к индивидуумам и что, следовательно, требовать сознательного контроля -- это требовать контроля со стороны отдельного ума. Убежденность, что сознательно управляемые процессы непременно обладают превосходством над процессами спонтанными, есть ни на чем не основанное суеверие. Правильнее было бы сказать, как в иной, правда, связи, сказал А. Уайтхед, что, наоборот, "продвижение цивилизации выражается в увеличении количества важных операций, которые мы можем выполнять, не задумываясь" [A. N. Whitehead. An introduction to Mathematics. Home University Library, 1911, p. 61]. Если верно, что спонтанное взаимодействие социальных сил иногда решает такие проблемы, которых индивидуальный ум не в состоянии не только сознательно разрешить, но порой и заметить, и если благодаря этому взаимодействию возникают упорядоченные структуры, способствующие расширению индивидуальных возможностей, хотя никто эти структуры специально не создавал, то превосходство не на стороне сознательных действий. Действительно, про всякий общественный процесс, который заслуживает названия "общественный" (в отличие от действий индивидуумов), можно сказать, что он не является сознательным ex definitione <ex definitione (лат.) -- по определению>. Поскольку подобные процессы способны создать полезный нам порядок, которого не может, обеспечить сознательное руководство, постольку всякая попытка подчинить их такому руководству неизбежно означала бы, что мы низводим возможности социального взаимодействия до ограниченных возможностей индивидуального ума. [На это нельзя возразить, сказав что под сознательным контролем понимается не единоличный контроль, а согласованное и "скоординированное" усилие всех, или всех лучших, умов, приходящее на смену их случайному взаимодействию. Подобная фраза о координировании просто отодвигает задачу, стоящую перед индивидуальным умом, ..............., но вовсе не снимает конечной ответственности с координирующего разума. Комитеты и другие способы облегчения коммуникации помогают человеку узнать как можно больше, и это замечательно, однако они не расширяют возможностей индивидуального разума. Знания, которые поддаются такого рода координированию, все равно ограничены: их не может быть больше, чем в состоянии вместить и усвоить индивидуальный ум. Как знает всякий имеющий опыт работы в комитетах, плодотворность такой работы ограничивается пределами, до которых простираются возможности лучшего из участвующих умов; если результаты дискуссии не превратятся в итоге в согласованное целое усилиями индивидуального ума, они, скорее всего, окажутся хуже тех, к которым смог бы самостоятельно прийти отдельный ум.] Значение этого требования о всеобщем сознательном контроле, станет вполне ясным, если мы обратимся прежде всего к его наиболее амбициозному проявлению, пусть даже оно представляет собой не более, чем некое смутное притязание и имеет значение главным образом как симптом: речь идет о требовании сознательного контроля над развитием самого человеческого разума. Эта дерзновенная идея представляет собой наибольшую крайность из всех, являющихся результатом успехов, достигнутых разумом в деле покорения окружающей природы. Она стала характерной чертой современной мысли и встречается даже у тех авторов, которые на первый взгляд кажутся приверженцами совершенно другой, а то и противоположной системы идей. Предлагает ли нам покойный ныне Л. Т. Хобхауз "идеал коллективного человечества, самоопределяющегося в своем продвижении, как наивысшую цель человеческой деятельности и конечный эталон для законов о поведении" [L. Т. Hobhouse. Democracy and Reaction. 1904, p. 108], доказывает ли д-р Джозеф Нидэм, что "чем полнее сознательный контроль над делами людей, тем ближе эти люди будут к подлинной человечности и, стало быть, к сверхчеловечности" [J. Needham. Integrative Levels: A Revaluation of the Idea of Progress, Herbert Spencer Lecture. Oxford, 1937, p. 47], предрекают ли последовательные гегельянцы, что, в соответствии с воззрениями учителя, Разум познает сам себя и сделается вершителем своей судьбы, полагает ли д-р Карл Мангейм, что "человеческая мысль стала более спонтанной и абсолютной, чем когда-либо, так как ныне она сознает возможность определять сама себя" [K. Mannheim. Man and Society in an Age of Reconstruction. 1940, p. 213], -- суть у всего этого одна. И хотя в зависимости от источника доктрины -- гегельянства или позитивизма -- приверженцы разделяются на две группы, каждая из которых отмежевывается от другой и приписывает себе превосходство, общая для них идея, что человеческий ум, если можно так выразиться, должен сам себя вытянуть за волосы, имеет одно основание: убежденность в том, что изучая человеческий Разум извне и как нечто целостное, мы сможем охватить его механизмы полнее и шире, чем если будем терпеливо исследовать его изнутри, следя за процессами взаимодействия индивидуальных умов. Получается, что претензия на способность усиливать могущество человеческого разума с помощью сознательного контроля за его развитием, основана на том же теоретическом представлении, которое приводит и к заявлению о возможности исчерпывающих объяснений этого развития -- заявлению, наводящему на мысль о наличии у тех, кто его делает, своего рода сверхразума; и желание, чтобы развитием разума тоже можно было управлять, совсем не случайно для тех, кто придерживаются подобных теоретических воззрений. Важно проникнуть в точный смысл этой претензии на способность "объяснить" существующие знания и представления, чтобы судить о устремлениях, ею вдохновляющихся. Для достижения подобной цели было бы недостаточно располагать адекватной теорией, дающей объяснение принципам, лежащим в основе процессов развития разума. Знание одних лишь принципов (относится ли оно к теории познания или к теории социальных процессов) поможет создать благоприятные условия для развития разума, но оно не дает никаких оснований требовать, чтобы этот процесс подчинялся сознательному управлению. Такое требование предполагает, что мы в состоянии дать убедительное объяснение: почему мы придерживаемся тех, а не иных, взглядов и как те или иные условия предопределяют наличие у нас таких-то и таких-то знаний. Именно на это претендуют "социология познания" и всякие прочие производные так называемого "материалистического понимания истории", "объясняющие", к примеру, философию Канта как продукт материальных интересов немецкой буржуазии конца восемнадцатого века или формулирующие какие-нибудь еще тезисы в том же роде. Мы не имеем возможности вдаваться здесь в дискуссию о причинах, по которым даже взглядам, признанным сегодня ошибочными и в каком-то смысле уже объяснимым с позиций современного знания, этот метод реального объяснения дать не может. Главное, что попытка применить его к нашим современным знаниям приводит к противоречию: если мы узнаем, чем обусловлены, от чего зависят наши современные знания, они тут же перестают быть современными. Заявлять, будто мы можем объяснить наши собственные знания, - это заявлять, что мы знаем больше, чем мы знаем на самом деле, а это самая настоящая бессмыслица.6 Может быть, и есть определенный смысл в утверждении, что некоему очень далеко продвинувшемуся разуму наши современные знания показались бы "относительными", так или иначе обусловленными теми обстоятельствами, в которые мы поставлены. Однако единственный вывод, который из этого имеем право сделать мы, прямо противоположен выводу рассматриваемой "теории самовытягивания разума": мы не в силах, опираясь на свое сегодняшнее знание, успешно управлять его дальнейшим совершенствованием. В любом другом выводе, в частности, в перетекании тезиса о зависимости человеческих представлений от обстоятельств, в заявление, что кому-то следовало бы дать власть определять эти представления, содержится претензия на то, что домогающиеся этой власти обладают своего рода сверхразумом. Действительно, придерживающиеся подобных взглядов, как и положено, имеют что-то наподобие специальной теории, которая выводит их собственные воззрения из-под такого рода объяснений и приписывает им самим как представителям либо особого избранного класса, либо просто "свободно парящей интеллигенции" обладание абсолютным знанием. Итак, представляя собою что-то вроде сверхрационализма, требуя подчинить все руководящему сверхразуму, это направление одновременно готовит почву для самого настоящего иррационализма. Если отныне истину открывают не с помощью наблюдения, умозаключений и доказательств, а выявляя скрытые причины (которые незаметно для мыслителя обусловливают его выводы), если истинность или ложность утверждения устанавливают не с помощью логических рассуждений и эмпирической проверки, а исходя из социального положения того, кто его выдвинул, если ввиду всего этого именно принадлежность к классу или расе гарантирует овладение истиной или препятствует ему и если в итоге заявляют, что безошибочный инстинкт отдельного класса либо отдельного народа делает его непогрешимым, значит разум отринут окончательно. [Интересные факты о том, как далеко заводит подобный вздор, можно найти в книге: Е. Gruenwald. Das Problem der Soziologie des Wissens. Vienna, 1934. Этот посмертно опубликованный очерк очень молодого ученого до сих пор является самым полным обзором литературы по данному вопросу.] Это вполне закономерный результат доктрины, начавшей с претензий на способность интуитивно постигать целое -- способность, стоящую выше, чем рациональная реконструкция, попытки которой предпринимаются композитивной социальной теорией. Более того, если верно то, что по-своему отстаивают и коллективисты, и индивидуалисты, а именно, что социальные процессы могут приводить к результатам, которых не в силах ни добиваться, ни замышлять индивидуальный ум, и что именно этим социальным процессам индивидуальный разум обязан своим могуществом, тогда попытка установить над этими процессами сознательный контроль будет иметь гораздо более фатальные последствия. Самонадеянное притязание на то, чтобы "разум" управлял собственным развитием, на практике может привести только к тому, что он положит этому развитию предел и что ему придется довольствоваться теми результатами, которые в состоянии предвидеть осуществляющий управление индивидуальный ум. Хотя подобное притязание прямо связано с одной из разновидностей рационализма, это, конечно, рационализм ложно понятый и дурно примененный, рационализм, который не в силах оценить, до какой степени индивидуальный разум является продуктом межличностных отношений. Действительно, требование, чтобы все, включая развитие человеческого разума, было подчинено сознательному контролю, само по себе указывает на непонимание главной особенности сил, составляющих опору для жизнедеятельности человеческого ума и человеческого общества. Источники и последствия этих дошедших до крайности саморазрушительных сил нашей современной "научной цивилизации" станут центральной темой исторических этюдов в следующей части. Именно потому, что развитие человеческого разума -- в самом широком смысле -- представляет собой проблему, общую для всех социальных наук, мнения по этому вопросу расходятся заметнее всего и обнаруживаются два в основе своей разных и непримиримых подхода: с одной стороны, глубокое смирение индивидуализма, который стремится понять, насколько это возможны принципы реально происходившего согласования индивидуальных усилий, создавшего нашу цивилизацию в надежде, что это позволит обеспечить условия, благоприятные для ее дальнейшего развития; с другой стороны; гордыня коллективизма, который ставит целью подчинение всех сил общества сознательному руководству. Индивидуалистический подход, осознавая конститутивные границы индивидуального ума, пытается показать, каким образом живущий в обществе человек способен, используя многое из того, к чему приводят социальные процессы, увеличивать свое могущество благодаря имплицитно содержащемуся в них знанию, о котором ему ничего неизвестно; и подводит нас к пониманию, что единственный "разум", который в каком-то смысле можно поставить выше индивидуального разума, не существует вне межличностного процесса, что в ходе этого процесса с помощью безличного посредничества происходит объединение и взаимосогласование знания как сменяющихся поколений, так и миллионов людей, живущих одновременно, и что этот процесс есть единственная форма, в которой когда-либо существовала и может существовать совокупность человеческого знания. Коллективистский подход, напротив, не удовлетворяясь частичным знанием этого процесса изнутри, - всем знанием, какое может быть доступно индивидууму, основывает свои требования сознательного контроля на допущении, что он может охватить этот процесс целиком и использовать всю совокупность знаний в систематически интегрированной форме. Отсюда прямая дорога к политическому коллективизму, и, хотя с точки зрения логики методологический коллективизм и политический коллективизм различны, нетрудно заметить, что первый ведет ко второму и что в действительности политический коллективизм без методологического коллективизма лишился бы своей интеллектуальной опоры: без претензии на то, что сознающий индивидуальный разум способен удержать в поле зрения все цели и все знания "общества" или "человечества", вера в сознательное централизованное руководство как лучшее средство достичь этих целей повисает в воздухе. Последовательно развиваясь, такая вера должна приводить к системе, в которой все члены общества превращаются просто в орудия одного руководящего ума и в которой уничтожены все спонтанные социальные силы, являющиеся условием для развития разума. [Следует, наверное, обратить внимание на не такой уж очевидный факт, что модное пренебрежение ко всякой осуществляемой "ради самой себя" деятельности, будь то в науке или искусстве, и требование, чтобы у всего была общественная цель", выражают ту же общую тенденцию и основаны на тех же иллюзиях о возможности овладеть всей полнотой знания, что и обсуждаемые нами претензии.] Может выясниться, что осознание собственной ограниченности окажется воистину наиболее трудной и чрезвычайно важной задачей человеческого разума. Для его развития весьма существенно, чтобы мы как индивидуумы склонялись перед силами и повиновались принципам, которых понять до конца никогда не сможем, но от которых, тем не менее, зависит продвижение или даже сохранность нашей цивилизации.[О некоторых аспектах крупных проблем, здесь лишь слегка затронутых, подробно говорится в моей книге "Дорога к рабству", 1944, особенно в гл. VI и XIV.] В ходе истории это достигалось благодаря влиянию всевозможных вероучений, а также традиций и суеверий, которые заставляли человека подчиняться этим силам, обращаясь скорее к его эмоциям, чем к разуму. Самым опасным этапом в развитии цивилизации вполне может оказаться тот, на котором человек начинает видеть в этих верованиях только предрассудки и отказывается принимать или подчиняться тому, чего он не может понять с помощью разума. И, стало быть, рационалист, разум которого недостаточен, чтобы преподать ему урок об ограниченности возможностей сознающего разума, рационалист, презирающий все институты и обычаи, не сконструированные сознательно, может стать разрушителем строящейся на них цивилизации. Это вполне может оказаться барьером, который человек будет выставлять все снова и снова, отбрасывая самого себя назад к варварству. Мы зашли бы слишком далеко, если бы обратились к сколько-нибудь пространному рассмотрению здесь другой области, в которой обнаруживает себя та же характерная для нашего времени тенденция, а именно, к рассмотрению морали. Здесь эта тенденция выражается в отказе соблюдать какие бы то ни было общие и формальные правила, рациональность которых не может быть продемонстрирована со всею наглядностью. Но причиной требования, чтобы суждение о каждом поступке составлялось после всестороннего рассмотрения всех его последствий, а не исходя из каких бы то ни было общих правил, является неумение видеть, что подчинение общим правилам, установленным с учетом только таких обстоятельств, в которых можно удостовериться непосредственно, для человека с его ограниченным знанием есть единственная возможность соединить свободу с необходимой минимальной степенью порядка. Готовность всех членов общества следовать формальным правилам -- это воистину до сих пор единственная обнаруженная человеком альтернатива подчинению чьей-то руководящей воле. Широкое распространение подобного свода правил не менее важно и потому, что эти правила не были рационально сконструированы. Можно сомневаться -- по меньшей мере -- в том, что нам удалось бы задумать и создать новый моральный кодекс, у которого оказался бы хоть какой-то шанс быть принятым. И, покуда мы в этом не преуспели, всякий сколько-нибудь распространенный отказ соблюдать существующие нравственные правила только потому, что их целесообразность не доказана рационально (не путать это с ситуацией, когда критикующий полагает, что обнаружил нравственное правило, более подходящее для того или иного случая, и, чтобы проверить его, готов храбро идти навстречу общественному неодобрению), будет угрожать разрушением одной из опор нашей цивилизации. [Для духа времени, в частности -- позитивизма, характерны слова Конта Systeme de politique positive. vol. 1, p. 356: "Za superiorite necessaire de la morale demonstree sur la morale reveice".) ("Закономерное превосходство доказуемой этики над этикой откровения"); особенно характерно здесь имплицитное допущение, что единственную альтернативу этики, явленной свыше, составляет этика, сконструированная рационально.] 10. Инженеры и плановики Самое сильное влияние идеал сознательного контроля над социальными явлениями оказал на экономику.[Желающим подробнее ознакомиться с проблемами, рассмотренными в предыдущем разделе, можно посоветовать еще несколько работ, вышедших уже после первой публикации настоящей книги. Помимо упоминавшегося сборника Selected Writings of Edward Sapir, ed. D. G. Manclelbaum. Berkeley. University of California Press, 1949, pp. 46 f. 104, 162, 166, 546 ff. 553), читатель найдет немало интересного в статье: G. Ryle. Knowing How and Knowing That. "Proceedings of the Aristotelian Society", p. s., 1945, vol. 46. См. также: G. Ryle. The Concept of Mind. London. 1949; К. R. Popper. The Open Society and its Enemies. London. 1946; M. Polyani. The Logic of Liberty. London, 1951.] Нынешняя популярность идей "экономического планирования" восходит непосредственно к господству сциентистских представлений, о котором мы говорили. Поскольку в данной области сциентистские идеалы проявляются в тех особых формах, которые придают им специалисты по прикладным дисциплинам, преимущественно инженеры, уместно будет объединить обсуждение этого влияния с чем-то вроде исследования идеалов, характерных для инженеров. Мы увидим, что влияние их технологического подхода, или инженерной точки зрения, на современные взгляды, касающиеся проблем социальной организации, значительно сильнее, чем принято считать. В большинстве проектов полной переделки общества, начиная от более ранних утопий и кончая современным социализмом, заметны вполне отчетливые следы этого влияния. В последние годы стремление использовать инженерные методы для решения социальных проблем стало особенно явным [И опять одну из лучших иллюстраций такой тенденции находим у К. Мангейма (К. Mannheim. Man in an Age of Reconstruction. 1940, pp. 240-- 244), который объясняет, что "функционализм впервые возник в области естественных наук и может быть охарактеризован как техническая точка зрения. В социальную сферу он проник не так давно... Когда технический подход из области естественных наук был перенесен в область человеческих занятий, он неизбежно вызвал глубокие изменения в самом человеке... Функциональный подход рассматривает идеи и нравственные нормы уже не как абсолютные ценности, но как продукты социального процесса, которые при необходимости можно изменять -- под руководством науки в соединении с политической практикой... Распространение доктрины технического превосходства, которую я отстаиваю в этой книге, по моему мнению, неотвратимо... Прогресс в технике организации -- это не что иное, как приложение технических концепций к формам кооперации. Человеческое существо, рассматриваемое как часть социального механизма, до известной степени стабилизируется в своих реакциях благодаря воспитанию и образованию, и все его недавно выработанные формы деятельности координируются в точном соответствии с принципом организационной эффективности."]; "политическая инженерия" и "социальная инженерия" стали модными словечками, столь же характерными для воззрений нынешнего поколения, как и пристрастие к "сознательному" контролю; в России даже деятели искусства именуют себя -- и, похоже, не без гордости -- инженерами человеческих душ", после того как это было произнесено Сталиным. Подобные выражения показывают, каково непонимание фундаментальных различий между инженерными задачами и задачами социальных организаций в широком понимании, и нам имеет смысл более полно рассмотреть характер этих различий. Мы вынуждены ограничиться здесь указанием только на некоторые выпуклые черты тех специфических проблем, которые инженеру постоянно велит выносить на обсуждение его профессиональный опыт и от которых зависят его взгляды. Прежде всего, собственно инженерные задачи, как правило, полностью определены: его интересует какая-то одна цель, он контролирует все усилия, направленные на ее достижение, и имеет в своем распоряжении точно отмеренное количество необходимых ресурсов. Этим объясняется самая характерная черта его подхода, а именно то, что, хотя бы в принципе, всю последовательность своего комплекса операций еще перед их началом инженер осуществляет в уме, и что в его предварительных расчетах эксплицитно присутствуют все "данные", на основе которых составляется проект всей дальнейшей работы. [Лучшее из описаний этой особенности инженерного подхода инженерами, как мне удалось найти, содержится в речи великого немецкого инженера-оптика Эрнста Аббе: "Wie der Architekt ein Bauwerk, bevor eine Hand zur Ausfuhrung sich ruhrt, schon im Geist vollendet hat, nur unter Beihilfe von Zeichenstift. und Feder zur Fixierung seiner Idee, so muss auch das komplizierte Gebilde von Glas und Metal sich aufbauen lassen rein verstandesmassig, in allen Elementen bis ins letzte vorausbestimmt, in rein geistiger Arbeit, durch theoretische Erinittiung der Wirkung aller Teile, bevor diese Tiele noch korperlich ausgefuhrt sind. Der arbeitenden Hand darf dabei keine andere Funktion mehr verbleiben als die genaue Verwirklichung der durch die Rechnungen bestimmten Formen und Abmessungen aller Konstruktionselemente, und der praktischen Erfahrung keine andere Aufgabe als die Beherrschung der Methoden und Hilfsmittel, die fur letzteres, die korperliche Verwirklichung, geeignet sind" ("Прежде чем рабочие руки придут в движение, чтобы возвести какое-нибудь строение, оно уже вполне завершено в уме архитектора, зафиксировавшего свою идею лишь чертежным карандашом и пером. Точно так же сложные конструкции из стекла и металла должны быть построены в уме, все их элементы -- до последнего -- должны быть взаимосвязаны в процессе чисто умственной работы на основе теоретического знания о действии всех деталей, прежде чем эти детали будут созданы материально. За рабочими руками не остается других функций, кроме точной реализации рассчитанных форм и размеров конструктивных элементов, и практический опыт не имеет другой задачи, кроме овладения методами и вспомогательными средствами для овеществления идеи" (цит. по: Franz Schnabel. Deutsche Geschichte im ncunzehnten Jahrbundert. 1934, vol. 3, p. 222 -- работе, представляющей собой кладезь информаций По данному, а также всем другим вопросам интеллектуальной истории Германии XIX века).] Иными словами, инженер полностью контролирует тот ограниченный мирок, который имеет отношение к задаче, его взору открыты все значимые аспекты и он должен работать только с "заданными количественными параметрами". [Было бы слишком долго объяснять здесь, почему возможности разделения труда или ответственности при подготовке инженерного префекта весьма ограничены, а само такое разделение труда во многих существенных отношениях отличается от разделения знаний, лежащего в основе безличных социальных процессов. Достаточно заметить, что для того, чтобы подобное разделение труда стало возможным, разработчик того или иного раздела в инженерном проекте должен знать не только точные характеристики конечного результата, но еще и максимально допустимый объем затрат, которые могут потребоваться для его достижения.] Покуда речь идет о решении его инженерной проблемы, он пребывает за рамками социального процесса, в котором другие могут принимать самостоятельные решения; он живет в собственном изолированном мире. Применение технических приемов, которыми он владеет, общих законов, которым его научили, действительно предполагает наличие полного знания всех объективных фактов; законы эти относятся к объективным свойствам вещей и могут быть применены, только если все частные обстоятельства времени и места соединены и взяты под контроль одного ума. Другими словами, инженерный подход годится для типических ситуаций, поддающихся определению в терминах объективных фактов, но не для выяснения того, какие ресурсы имеются в наличии или какова относительная важность тех или иных потребностей. Инженер подготовлен, чтобы иметь дело с объективными возможностями, не зависящими от тех или иных условий места и времени, с теми свойствами вещей, которые всегда и всюду остаются неизменными и которые сохраняются независимо от определенной ситуации в человеческом обществе. Важно, однако, заметить, что представление инженера о замкнутом характере своего дела в некотором смысле обманчиво. В конкурентном обществе его следует считать таковым лишь постольку, поскольку занимающийся этим делом может рассматривать поддержку со стороны всего общества как одно из своих условий, как нечто данное, о чем нет нужды беспокоиться. Он считает само собой разумеющимся, что может приобрести необходимые материалы и услуги людей по таким-то ценам, что если он платит людям, те в состоянии обеспечить себя едой и другими необходимыми благами. Его планы встраиваются в более широкий комплекс деятельности общества лишь потому, что он строит их в соответствии с данными, предоставляемыми рынком; и считать свою задачу замкнутой он может лишь потому, что ему не приходится беспокоиться о том, каким образом рынок снабжает его всем необходимым. Покуда не происходит неожиданных перемен в рыночных ценах, он руководствуется ими в своих расчетах, не особенно задумываясь об их значении. Однако, хотя он и вынужден принимать их в расчет, цены не являются такими же свойствами вещей, как те, в которых он разбирается. Это не объективные признаки вещей, а лишь отражение той или иной ситуации в обществе в данное время и в данном месте. И, поскольку, исходя из своих знаний, инженер не может объяснить, почему цены изменяются, нередко мешая его планам, всякое такое вмешательство кажется ему вызванным иррациональными (то есть, не управляемыми сознательно) силами, и он оскорбляется необходимостью уделять внимание величинам, которые кажутся ему бессмысленными. Этим и объясняется характерное и постоянно возобновляющееся требование инженеров заменить "искусственные" расчеты в терминах цен или ценности расчетами in natura [знаменательно, что самым убежденным сторонником подобных расчетов in natura является д-р Отто Нейрат, поборник новейшего "физикализма" и "объективизма"], то есть, эксплицитно учитывающими объективные свойства вещей. Идеал инженера, связанный с его исследованиями объективных свойств вещей, достижению которого, как он ощущает, препятствуют "иррациональные" экономические силы, -- это обычно некий чисто технический оптимум, применимый в любых ситуациях. Крайне редко он замечает, что его предпочтение такого рода методов объясняется просто типом проблем, которые ему чаще всего приходится решать, и оправдано лишь в особых социальных ситуациях. Поскольку самая привычная для создателя машин проблема состоит в извлечении из данного количества ресурсов максимального количества энергии, при том, что переменным фактором, находящимся под сто контролем, является используемое оборудование, возможность получить этот максимум энергии выдвигается как абсолютный идеал, как нечто самоценное. [Сошлемся на характерный пассаж в работе Б. Бавинка (В. Bavinck. The Anatomy of Modern Science (trans H. S. Hatfield from 4th German ed.). 1932, p. 564): "Если наша инженерная мысль все еще занята проблемой более полного преобразования тепла в работу, чем это возможно сегодня с помощью парового и других типов тепловых двигателей... то делается это не столько ради того, чтобы снизить затраты на производство энергии, сколько ради самого решения задачи увеличения насколько возможно КПД теплового двигателя. Если ставится задача преобразования тепла в работу, то решать ее следует так, чтобы преобразовывалось максимальное количество тепла... Идеалом конструктора подобных машин является, следовательно, эффективность цикла Карно, то есть идеального процесса, имеющего самый большой теоретически возможный КПД".] Однако никакой особой заслуги в экономии на одном из множества факторов, ограничивающих возможный результат, за счет остальных, разумеется, нет. "Технический оптимум" инженера чаще всего оказывается просто таким методом, какой следовало бы принять, если бы предложение капитала было неограниченным, или процент равнялся нулю, и действительно стояла бы задача достичь максимально возможной нормы трансформации текущих затрат в текущий выпуск. Но считать это непосредственной целью значит забывать, что такое положение достигается только за счет отвлечения на длительное время ресурсов, способных удовлетворять текущие потребности на производство оборудования. Иными словами, чтобы воплотить инженерный идеал, нам пришлось бы пренебречь самым важным экономическим фактом, от которого зависит наше положение здесь и теперь, -- ограниченностью капитала. Нетрудно понять, почему такой подход, равно как и стремление делать расчеты in natura, столь часто приводит инженеров к созданию "энергетических" систем, о которых не без веских оснований было сказано, что "das Charakteristikurn der Weltanschauung des Ingenieurs ist die energetische Weltanschauung" ("для мировоззрения инженеров характерно то, что это энергетическое мировоззрение"). -- L. Brinkmann. Der lngenieur. Frankfurt, 1908, р. 16). Выше мы уже отмечали (см. с. ...... ) это характерное проявление сциентистского "объективизма", и у нас нет возможности более подробно на нем останавливаться. Однако то, что подобные взгляды типичны, что они весьма распространены и указывают огромное влияние, заслуживает специального упоминания. Э. Сольвей, Г. Рценхофер, У. Оствальд, П. Геддсю Ф. Садди, Г. Уэллс, так называемые "технократы", Л. Хогбен -- вот далеко не полный перечень авторов, в работах которых энергетике уделяется более или менее серьезное внимание. Во Франции и Германии вышел ряд работ, посвященных этой теме (Nyssens. L'energitique. Brussels, 1908; G. Barnich. Principes de politique positive basee sur l'energetiaue sociale de solvay; Brussels, 1918. Schnehen. Energetishe Weltanschauung. 1907; A. Dochmann. F. W. Ostwald's Energetik. Bern, 1908; и -- лучшая из всех -- Max Weber. Energetische Kulturtheorien. 1909, перепечатанная в: Gesammelte Aufsatze zur Wissenschaftslehre. 1922), однако ни одна из них не раскрывает проблему до конца и, насколько мне известно, ни одной не было на английском языке. В разделе работ Бавинка, из которого взят приведенный отрывок, содержится суть того, что говорится в обширнейшей "философии техники", среди которой самой известной является книга Э. Шиммера (Е. Zschimmer. Philosophie der Technik. 3d ed Stuttgart, l933). (Сходными идеями пропитаны хорошо известные работы Льюиса Мамфорда -- американского периода.) Немецкая литература могла бы сильно заинтересовать психологов, при том что с других точек зрения -- это, пожалуй, самая жалкая смесь претенциозных пошлостей и отвратительной бессмыслицы из всех, какие автору этих строк приходилось когда-либо читать. Общей для этих работ является враждебность ко всем экономическим соображениям, а также попытки отстоять чисто технологические идеалы и воспевание организации всего общества по принципу единой фабрики. (По последнему пункту см. в частности: F. Dessauer. Philosophie der Technik. [Bonn, 1927], p. 129). Процент это, конечно, всего один, правда, самый непонятный и потому самый нелюбимый, из ценностных показателей, выступающих в качестве безличных ориентиров, которые должен учитывать инженер, если он хочет, чтобы его проекты вписывались в структуру деятельности общества в целом. Связанные с процентом ограничения раздражают, потому что представляют собой силы, рационального значения которых инженер не понимает. Процент -- это один из тех символов, в которых автоматически (хотя отнюдь не без искажений) регистрируется весь комплекс человеческих знаний и потребностей и которые необходимо принимать во внимание, чтобы не оказаться в разладе с остальной системой. Если вместо того, чтобы использовать эту информацию в той сокращенной форме, в какой он получает ее через систему цен, инженер пытался бы в каждом отдельном случае докапываться до объективных фактов и сознательно их учитывать, ему пришлось бы расстаться с тем методом, который позволяет ограничиваться лишь непосредственно относящимися к его задаче условиями, и обратиться вместо этого к методу, требующему, чтобы все эти знания были собраны в едином центре и в явном виде и сознательно представлены в едином плане. На деле применение инженерного подхода к обществу в целом требует, чтобы тот, кто руководит, имел столь же полное знание обо всем обществе, сколь полны знания инженера о его ограниченном мирке. Централизованное экономическое планирование -- это и есть именно такое применение к обществу в целом инженерных принципов, исходящих из допущения, что подобная полная концентрация всего имеющегося знания возможна. [Что это полностью признавалось самими сторонниками централизованного планирования, видно из того, как популярна была у всех социалистов, от Сен-Симона до Маркса и Ленина, фраза о полном сходстве между управлением заводом и управлением обществом. Так, Ленин пишет (В. И. Ленин. Государство и революция. Полн. собр. соч. Т. 33, с. 101): "Все общество будет одной конторой и одной фабрикой с равенством труда и равенством оплаты."] Прежде чем перейти к значению этой концепции рационально организованного общества, нужно к краткой характеристике типично инженерного подхода добавить еще более краткую характеристику функций купца, или торговца. Это поможет не только лучше осветить проблему утилизации знания, рассеянного среди множества людей, но и объяснить неприязнь к коммерческой деятельности, характерную не только для инженеров, но для всего нашего поколения, а также всеобщее предпочтение, отдаваемое ныне "производству" в ущерб тому, что не совсем удачно принято называть "распределением". Занятие купца, если сравнить его с работой инженера, в определенном смысле окажется гораздо более "общественным", то есть переплетающимся со свободной деятельностью других людей. В процессе, служащем удовлетворению некой конечной потребности, он помогает продвинуться то к одной, то к другой цели, и при этом едва ли беспокоится о процессе в целом. Он интересуется вовсе не тем или иным конечным результатом всего процесса, в котором участвует, а лишь тем, как лучше всего использовать определенные известные ему средства. Его специальное знание почти целиком исчерпывается знанием определенных обстоятельств, связанных с временем и местом, или способов выяснения этих обстоятельств в той или иной области. Но, хотя такого рода знание не может быть сформулировано в виде общих положений и не приобретается раз и навсегда и из-за этого в век Науки его сочтут знанием второго сорта, для всевозможных практических целей такое знание имеет ничуть не меньшее значение, чем научное. И даже если допустить, что все теоретическое знание может уместиться в головах нескольких экспертов и тем самым стать доступным единой центральной власти, все равно, знание о частностях, о быстро меняющихся обстоятельствах момента и местных условиях никогда не сможет существовать иначе, как будучи рассеянным среди множества людей. Знать, когда тот или иной материал или машина могут быть использованы с наибольшей отдачей или где каждый из них можно раздобыть побыстрее или подешевле так же важно для решения конкретной задачи, как знать, какие материалы или какие машины лучше всего подойдут для такой-то цели. Первый вид знаний не имеет прямого отношения к интересующим инженера постоянным свойствам вещей из того или иного класса, это знания об определенной человеческой ситуации. И именно из-за этой своей задачи -- учитывать подобные факторы -- торговец всегда в конфликте с идеалами инженера, чьи планы он нарушает и чью неприязнь таким образом на себя навлекает. [Об этих проблемах см. мою статью The Use of Knowledge in Society. 'American Economic Review", vol. 35, no. 4 (September, 1945), позже перепечатанную в: Individualism and Economic Order. Chicago, University of Chicago Press, 1948, pp. 77--91.] Следовательно, вопрос, как обеспечить эффективное использование ресурсов, -- это преимущественно вопрос, как с наибольшей пользой употребить знания о тех или иных обстоятельствах текущего момента; а задача, встающая перед тем, кто берется рационально устраивать общество, -- найти способ наилучшим образом собирать это широко рассеянное знание. Сводить задачу, как это обычно делается, к эффективному использованию "наличных" ресурсов для удовлетворения "насущных" потребностей, значит слишком упрощать проблему. Ни "наличные" ресурсы, ни "насущные" потребности не есть объективные факты вроде тех, какими занимается инженер в своей ограниченной области: единый планирующий орган никогда не может знать обо всех относящихся к делу деталях. С точки зрения практических целей ресурсы и потребности существуют лишь в той мере, в которой о них известно, а люди все вместе знают об этом всегда несравнимо больше, чем любая самая компетентная власть. [В этой связи важно помнить, что агрегированные статистические показатели, на которые, как многие полагают, может опираться, принимая решения, центральная власть, получаются всегда при помощи сознательного отвлечения от конкретных обстоятельств времени и места.] Стало быть, власть, имеющая дело непосредственно с объективными фактами, не может обеспечить успешного решения, оно должно опираться на метод использования знаний, рассеянных среди всех членов общества, знаний, о которых центральной власти, как правило, неизвестно не только, кто ими располагает, но и существуют ли эти знания вообще. Таким образом, их нельзя использовать путем сознательного объединения в согласованное целое, а можно -- только с помощью некоего механизма, при котором принятие тех или иных решений делегировалось бы носителям соответствующих знаний, и к тому же к этим носителям стекалась бы такая информация об общей ситуации, которая позволяла бы им наилучшим образом использовать те или иные обстоятельства, известные только им. Как раз эту функцию выполняют всяческие "рынки". Пусть даже каждому участнику рыночного процесса известна лишь небольшая доля всех возможных источников поставок или областей применения некоего товара, тем не менее, прямее или косвенно участники процесса столь тесно связаны, что конечный результат всех изменений, влияющих на спрос или предложение, находит свое отражение в ценах. [См. по этому вопросу интересную работу: К. F. Mayer. Goldwanderungen. Jena, 1935, pp. 66--68, а также мою статью: Economics and Knowledge. "Economica", l937, February, перепечатанную затем в: Individualism and Economic Order. Chicago: Iniversity of Cgicago Press, 1948, pp. 33--56.] Именно в этом качестве -- как инструмент, доставляющий всем, заинтересованным в определенном товаре, имеющуюся информацию в сжатой, концентрированной форме, следует рассматривать рынки и цены, если мы хотим понять их функцию. Они помогают пустить в ход знание многих, не требуя, чтобы оно было предварительно сосредоточено в неком едином органе, и таким образом делают возможным то сочетание децентрализации решений и их взаимоприспособления, которое мы обнаруживаем в конкурентной системе. Если мы стремимся к результату, получаемому не при помощи единой системы интегрированного знания и взаимосвязанных суждений, имеющейся в распоряжении проектировщика, а на основе разрозненных знаний множества людей, тогда задача социальной организации -- это совсем не то же самое, что задача организовать использование данных материальных ресурсов. Коль скоро любому отдельному человеку может быть известна лишь малая доля того, что известно всем индивидуальным умам, то и степень, в какой сознательное управление может улучшить результаты бессознательного социального процесса, ограничена. Человек не замышлял и не обдумывал этого процесса, да и понимать его начал лишь спустя много времени после того, как он уже сложился. Однако признать, что может существовать нечто, не только функционирующее без сознательного контроля, но никем даже не спроектированное, и при этом приносящее желательные результаты, которых иным способом мы бы не получили, представителю естественных наук, похоже, очень трудно. Именно потому, что моральные науки обычно указывают нам на такие пределы для сознательного контроля, а прогресс естествознания все время раздвигает его границы, естествоиспытатели так часто восстают против того, чему учат общественные дисциплины. В частности, экономическая теория, которую осудили уже за применение не таких, как в естествознании, методов, теперь подвергается двойному осуждению за попытки указать на пределы применимости тех приемов, благодаря которым ученые-естественники постоянно умножают наши победы и расширяют нашу власть над природой. Именно из-за этого конфликта с могучим человеческим инстинктом, который особенно силен в ученых-естествоиспытателях и инженерах, делаются такими неприятными для них уроки моральных наук. Подобное положение хорошо охарактеризовал Бертран Рассел: "Удовольствие строить по плану есть один из самых мощных мотивов в людях, наделенных и умом, и энергией; такие люди стремятся строить по плану все, что только может быть таким образом построено... само по себе желание созидать не является идеалистическим, а представляет собою одну из форм властолюбия, и, покуда существует власть, связанная с созиданием, будут существовать и люди, желающие эту власть употребить, даже если природа может без всякой помощи произвести результат лучше любого, получающегося при осуществлении сознательного намерения." [Bertrand Russel. The Scientific Outlook. 1931, p. 211] Однако говорится это в начале главы, имеющей многозначительное название "Искусственно созданные общества", читая которую, можно предположить, что и сам Рассел готов поддержать такую тенденцию, доказывая, что "никакое общество нельзя считать вполне научно организованным, если его не выстраивала сознательно как структура для достижения определенных целей." [Ibid. Приведенный отрывок допускает не вызывающую возражений интерпретацию, если под "определенными целями" понимать не конкретные, заранее намеченные результаты, а способность в любой момент обеспечивать то, что нужно людям, -- то есть если то, что планируется, представляет собой механизм многоцелевого назначения, который к тому же не требует "сознательного" управления во имя достижения той или иной конкретной цели.] Большинство читателей наверняка увидит в этом утверждении краткое выражение той самой сциентистской философии, которая через своих популяризаторов сделала для возникновения современного сочувственного отношения к социализму больше, чем все конфликты на почве экономических интересов, которые, хоть и выдвигают проблему, но необязательно указывают на те или иные способы решения. По крайней мере, о большинстве интеллектуальных вождей социалистического движения, по-видимому, можно с полным правом сказать, что они стали социалистами потому, что социализм, как определил это лидер Германской социал-демократической партии А. Бебель шестьдесят лет назад, представлялся им "совершенно сознательным, с полным пониманием осуществляемым приложением науки ко всем отраслям человеческой деятельности." [A. Bebel. Die Frau end der Sozialismus. 3th ed., 1892, p. 376: "Der Sozialismus ist die mit ........ Bewusstsein and mit voller Erkenntnis auf alle Gebiete inenschlicher Taetigkeit angewandte Wissenschaft." См. также: E. Ferry. Socialism and Positive Science (trans, from ltalian ed. l894). По-видимому, первым, кто ясно разглядел эту связь, был М. Ферра; см.: М. Ferraz. Socialisme, naturalisme et positivisme. Paris, 1877] Доказательству того, что программа социализма действительно имеет истоком подобного рода сциентистскую философию, нужно посвятить подробное историческое исследование. Теперь же нам важно показать, до какой степени серьезное воздействие на судьбы всего человечества может оказать чисто интеллектуальная ошибка в этом вопросе. Люди, которые так не хотят отказываться от могущественности сознательного контроля, по-видимому, неспособны понять, что такой отказ от сознательной власти, власти, неизбежно оказывающейся властью одних людей над другими, с точки зрения общества в целом есть лишь кажущееся смирение. Это индивидуальное самоотречение с целью усилить могущество человеческого рода, высвободить те знания и ту энергию неисчислимого количества людей, которые никогда не нашли бы применения в обществе, сознательно руководимом сверху. Главное несчастье нашего поколения состоит в том, что исключительный прогресс в области естественных наук придал его интересам такую направленность, которая не помогает нам охватить общий процесс, в формировании которого мы принимаем участие просто как индивидуумы, или же разобраться в том, каким образом мы непрерывно вносим свой вклад в общие усилия, не руководя ими и не подчиняясь приказам других. Чтобы постичь это, требуется интеллектуальное усилие, отличающееся по своей природе от того, какое необходимо для управления материальными вещами, усилие, в котором заставляло хоть как-то практиковаться традиционное "гуманитарное" образование, и к которому преобладающие ныне формы образования, как представляется, готовят все меньше и меньше. Чем дальше продвигается наша техническая цивилизация и чем, соответственно, большую важность и влияние приобретает изучение вещей, так отличающееся от изучения людей и их идей, тем шире пропасть, разделяющая два разных типа мышления: один, свойственный человеку, чье главное стремление -- превратить окружающий его мир в огромную машину, все части которой при нажатии кнопки двигалась бы сообразно его замыслу; и другой, свойственный человеку, более всего заинтересованному во всестороннем развитии человеческого разума, научившемуся при изучении истории или литературы, искусства или права смотреть на отдельного человека как на участвующего в общем процессе и вносящего свой вклад в него не по чьему-то указанию, но спонтанно, способствуя при этом созданию чего-то большего, чем он или любой другой человек мог когда-либо запланировать. Вот этого-то осознания своей причастности к социальному процессу и того, как происходит взаимодействие индивидуальных усилий, сугубо Научное или техническое образование, как ни печально, не дает. Неудивительно, что многие из самых деятельных умов, получивших такую подготовку, рано или поздно восстают против пробелов в собственном образовании и принимаются со страстью навязывать обществу порядок, которого они не могут обнаружить с помощью известных им средств. В заключение, наверное, нелишне будет напомнить читателю еще раз, что все, о чем мы здесь говорили, направлено исключительно против злоупотребления Наукой: не против ученого, занятого той специальной областью, в которой он компетентен, а против применения присущего ему способа мышления в тех областях, на которые его компетенция не распространяется. Никакого противоречия между нашими выводами и выводами общепризнанной науки нет. Главный наш урок по сути дела совпадает с тем, который извлек, рассмотрев все области знаний, один из самых проницательных исследователей научного метода: "великий урок смирения, который дает нам наука: что мы никогда не сможем стать ни всемогущими, ни всезнающими -- состоит в том же, в чем убеждают и все великие религии: человек не является и никогда не будет богом, перед которым он должен склоняться." [М. R. Cohen. Reason and Nature. 1931, p. 449. Показательно, что один из ведущих представителей того научного течения, которое здесь рассматривается, немецкий философ Людвиг Фейербах, в качестве руководящего принципа выбрал для себя прямо противоположный: homo homini Deus (человек человеку Бог).] Часть вторая. Контрреволюция науки
"Век, предпочетший царство
разума царству свободы" 11. L'Ecole polytechnique, рассадник сциентистской гордыни I. Нет более верного способа впасть в заблуждение, чем упрямо следовать по пути, однажды приведшему к успеху. И никогда гордость за достижения естествознания и уверенность во всемогуществе его методов не были столь оправданы, как на рубеже XVIII и XIX столетий, особенно в Париже, ибо именно в этом городе в те времена жили и работали лучшие естествоиспытатели эпохи. И если верно, что возникшее в XIX в. новое отношение к социальным явлениям стало возможным благодаря новому способу мышления, выработанному в ходе интеллектуального и материального покорения природы, то естественным будет предположение, что впервые оно появилось там, где было положено начало величайшим успехам современной науки. И такое предположение нас не обманет. Истоки двух самых крупных интеллектуальных течений, преобразивших в XIX в. общественную мысль, -- современного социализма и той разновидности современного позитивизма, которую мы предпочитаем называть сциентизмом, -- обнаруживаются именно в среде профессиональных естествоиспытателей и инженеров, сложившейся в Париже, точнее -- в новом учебном заведении, воплотившем этот новый дух наиболее ощутимо, -- в Высшей политехнической школе. Широко известно, что французское Просвещение характеризовалось небывалым подъемом всеобщего интереса к естествознанию. Вольтер положил начало культу Ньютона, доведенному потом Сен-Симоном до гротескных размеров. И это новое увлечение вскоре стало приносить замечательные плоды. Поначалу интерес относился к научным предметам так или иначе связанным с знаменитым именем Ньютона. Вскоре нашлись достойные последователи Ньютона: Клеро, Д'Аламбер, Эйлер -- величайшие математики своего времени. За ними последовали такие гиганты, как Лагранж и Лаплас. А если вспомнить еще Лавуазье, который был не только основателем современной химии, но и великим физиологом, и биолога Бюффона, то станет ясно, почему Франция начала завоевывать лидерство во всех ведущих областях естествознания. Знаменитая "Энциклопедия" стала грандиозной попыткой объединить и популяризировать достижения новой науки, а вступительная статья Д'Аламбера -- "Предварительные рассуждения" ("Discours preliminaire", 1754), в которой он прослеживал происхождение и развитие различных отраслей естествознания и связи между ними, может по праву считаться достойным предварением не только названной работы, но и вообще новой эпохи в развитии науки. Именно Д'Аламберу -- великому математику и физику -- принадлежит главная заслуга в подготовке почвы для той революции в механике, благодаря которой его ученик Лагранж сумел наконец освободить эту науку от метафизических наслоений и так определить ее предмет, чтобы в формулировке не упоминалось о каких-то первопричинах или скрытых силах, а говорилось лишь о законах, связывающих явления между собой. [Д'Аламбер прекрасно сознавал, какое значение имеет то направление развития науки, которое он поддерживал, и, предвосхищая появление позитивизма, открыто осуждал все, что не было нацелено на выработку "позитивных" истин, вплоть даже до того, что предлагал "здоровому обществу устранить все виды деятельности, имеющие чисто умозрительный характер, как бесполезные". Однако он не относил к числу "умозрительных" моральные науки и даже -- вслед за своим учителем Локком -- считал их априорными науками, сходными с математикой и сравнимыми с нею по точности. См.: G. Misch. Zur Entstehung des franzosischen Positivismus. "Archiv fur Philosophie", Abt. l. "Archiv fur Geschichte der Philosophie", vol. 14, 1901, pp. 7, 31, 158; M. Schinz. Geschicht der franzosischen Philosophie seit der Revolution, Bd., I, "Die Anfange des franzosischen Positivismus". Strasbourg, 1914, pp. 58, 67--69, 71, 96, 149; H. Gouhier. La jeunesse l'Auguste Comte et la formation du positivisme. Paris, 1936. Vol. 2, introd.] Пожалуй, ничто не выражало основную тенденцию развития научной мысли того времени так отчетливо и не имело такого большого влияния или символического значения как этот поворот, намеченный Д'Аламбером [ср.: E. Mach. Die Mechanik in ihrer Entwicklung. 3rd ed. 1897, p. 449]. Впрочем, пока в той области, где этому перевороту предстояло обрести вполне зримые черты, шла постепенная подготовка к нему, общая тенденция, которую он отражал, была уже угадана и описана современником Д'Аламбера Тюрго [см. его знаменитую работу: Du culte des dieux fetishes. 1760]. В своих удивительных, великолепных лекциях, приуроченных к открытию и к закрытию учебного года в Сорбонне (прочитанных в 1750 г., когда ему было всего 23 года), а также в набросках к "Рассуждению по всемирной истории", относящихся к тому же периоду, он указал на неразрывную связь между прогрессом естествознания и постепенным освобождением от тех антропоморфных представлений, которые поначалу заставляли человека рассматривать естественные явления, употребляя их по своему собственному образу и наделяя разумом, похожим на его собственный. Эта идея, ставшая впоследствии ведущей темой позитивизма и в конце концов ошибочно перенесенная в науку о самом человеке, вскоре, благодаря президенту С. Де Броссэ, назвавшему ее "фетишизмом" добрела широкую известность и продолжала фигурировать под этим именем, пока много позже на смену ему не пришли такие выражения как "антропоморфизм" и "анимизм". Но Тюрго пошел гораздо дальше и, предвосхитив Конта, описал, как этот процесс освобождения проходит через три стадии: сначала предполагалось, что естественные явления производят разумные существа, невидимые, но подобные нам самим; затем эти явления стали объяснять при помощи таких абстрактных выражений, как сущности или свойства; и, наконец, "наблюдения за механическим взаимодействием тел привели к появлению гипотез, которые можно было сформулировать математически и проверить опытным путем" [Oeuvres de Turgot, ed. Daire. Paris, 1844, vol. 2, p. 656. Ср. также: ibid., p. 601]. Неоднократно отмечалось [см., в частности, подробное исследование Миша, работы Шинца и Гуйе, упомянутые в сноске (1), а также: М. Uta. Le theorie de savoir dans la philosophie d'Auguste Conte. Paris, Alcan, 1928.], что большинство идей французского позитивизма было сформулировано еще Д'Аламбером, Тюрго и их друзьями и учениками Лагранжем и Кондорсе. Безусловно так и есть, если говорить о том, что было значительного и ценного в этом учении; хотя их позитивизм в отличие от позитивизма Юма имел заметную примесь французского рационализма. И поскольку нам не представится случая подробно остановиться на данном вопросе, здесь пожалуй, следует подчеркнуть, что этот, вероятно, обусловленный влиянием Декарта, элемент рационализма не переставал играть важную роль в ходе всего развития французского позитивизма. [Во избежание недоразумений следует также подчеркнуть, что либерализм французской революции, конечно, еще не опирался на понимание рыночного механизма, выработанное Адамом Смитом и утилитаристами, а основывался скорее на естественном праве и рационалистически-прагматической интерпретации социальных явлений, которая предшествовала учению Смита и типичным примером которой можно считать общественный договор Руссо. Действительно, многие разногласия, превратившиеся у Сен-Симона и Конта в открытую оппозицию классической политической экономии, уходят своими корнями в различие взглядов между, например, Монтескье и Юмом, Кенэ и Смитом или Кондорсе и Бентамом. Французские экономисты, которые, как Кондильяк или Ж.-Б. Сэй, придерживались в основном того же направления, что и Смит, никогда не имели такого влияния на французскую политическую мысль, каким пользовались идеи Смита в Англии. В результате во Франции переход от прежних рационалистических взглядов, согласно которым общество представляет собой сознательное творение человека, к новым, помогающим реконструировать его на научных принципах, был осуществлен минуя ту стадию, когда действие спонтанных сил общества получает широкое понимание. Революционный культ Разума крайне симптоматичен для всеобщего принятия прагматической концепции социальных институтов -- концепции, прямо противоположной учению Смита. И в каком-то смысле было бы справедливо сказать, что преклонение перед Разумом как творцом всего -- это не только следствие нового образа мысли, сложившегося в результате побед науки и техники, но также и причина этих побед, в свою очередь породивших новое отношение к социальным проблемам. Если социализм не является прямым потомком Французской революции, он, по крайней мере, вырос из того рационализма, которым большинство французских политических мыслителей рассматриваемого периода так отличается от английского либерализма Юма и Смита или (в меньшей степени) от Бентама и философских радикалов. По всем этим вопросам см. первый очерк в моей книге: Individualism and Economic Order. Chicago, University of Chicago Press, 1948.] Следует, однако, отметить, что в трудах этих великих французских мыслителей XVIII в. мы не обнаружим практически никаких признаков того неправомерного распространения сциентистских приемов анализа на явления общественной жизни, которое позже стало столь характерной чертой этой школы, -- исключение составляют лишь отдельные идеи Тюрго по философии истории и некоторые мысли Кондорсе, высказанные им незадолго до смерти. Но никто из этих мыслителей не усомнился в правомерности использования абстрактно-теоретического метода при изучении социальных явлений, и все они были убежденными индивидуалистами. Особенно интересно отметить, что Тюрго, подобнее Давиду Юму, был одним из родоначальников как позитивизма, так и абстрактной экономической теории, с которой позитивизм потом боролся. Но в некотором смысле многие из этих людей невольно положили начало направлению мысли, в конце концов выработавшему весьма отличающиеся от их собственных взгляды на общество. Это особенно верно в отношении Кондорсе. Будучи математиком по образованию (так же как Д'Лламбер и Лагранж), он считал главным делом своей жизни теорию и практику политической деятельности. И хотя в конечном счете он сознавал, что "только размышление может привести нас к пониманию общих истин в науке о человеке" [Esquisse d'un tableau historique des progres de l'esprit humain ed. O. Н. Orior. Paris, 1933, p. 11] он не только всегда старался подкреплять свои размышления обширными наблюдениями, но временами высказывался так, как если бы при изучении общественных проблем единственно верными были методы, используемые естествознанием. Особенно сильно ему хотелось применить к этой второй сфере своих научных интересов его любимую математику, и больше всего -- недавно разработанную теорию вероятностей, что заставляло его все настойчивее выдвигать на первый план исследование социальных явлений, поддающихся объективному наблюдению и измерению [Tableau general de la science qui a pour objet l'application de calcul aux sciences politiques et morales -- Oeuvres, ed. Arago. Paris, 1847--49. vol. 1, pp. 539--573]. Еще в 1783 г. в речи по случаю своего вступления в члены Академии он ввел понятие стороннего наблюдателя, перед которым физические и социальные явления представали бы в одинаковом свете, поскольку "не принадлежа к роду человеческому он стал бы изучать человеческое общество так же, как мы изучаем колонии бобров и семейства пчел" [Ibid., p. 392] (впоследствии эта идея стала излюбленной в позитивистской социологии). И хотя он признает, что этот идеал до конца недостижим, поскольку "наблюдатель сам является частью человеческого сообщества", он неоднократно призывал исследователей "привносить в моральные науки мировоззрение и методы естествознания" [Condorcet. Rapport et projet de decret sur l'organization genetale de l'instruction publique (1792), ed. G. Compayre. Paris. 1883, p. 120]. Однако самые плодотворные предположения Кондорсе были сформулированы им в работе "Эскиз исторической картины прогресса человеческого разума" -- этом знаменитом завете восемнадцатого столетия, в котором безграничный оптимизм эпохи нашел свое последнее и самое величественное выражение. Рисуя грандиозную картину человеческого прогресса на протяжении всей истории, Кондорсе мечтает о науке, способной предвидеть будущее развитие человечества, ускорять и направлять его [Condorcet. Esquisse, ed. Prior, p. 11]. Но, чтобы установить законы, которые позволят нам предсказывать будущее, история должна перестать быть историей отдельных личностей, а сделаться историей масс, перестав в то же время быть собранием разрозненных фактов и начав строиться на основе систематических наблюдений [Ibid., p. 200]. Почему попытка нарисовать картину будущей судьбы человечества, исходя из его прошлой истории, не может оказаться успешной? "Единственное основание естественных наук составляет идея о том, что общие законы, управляющие всеми явлениями во Вселенной, независимо оттого, известны они нам или нет, необходимы и неизменны; почему же этот принцип должен быть менее справедлив по отношению к интеллектуальным и моральным способностям человека, чем ко всем другим явлениям природы?". [Ibid., p. 203. Характерно, чти отрывок, часть из которого мы процитировали, использован в качестве эпиграфа к четвертому тому "Логики" Милля, который называется "О логике моральных наук".] И, хотя идея о существовании естественных законов исторического развития и коллективистский подход к истории родились всего лишь как смелые предположения, начатой ими традиции суждено было остаться с нами и дожить до наших дней. [Стоит отметить, что человек, несущий огромную долю ответственности за возникновение идеи "смысла истории", как это стали называть в конце XIX в. ("Entwicklungsgedanke"), -- со всеми присущими ей метафизическими ассоциациями -- прославился еще и открытым восхвалением уничтожения документов, относящихся к истории дворянских семейств во Франции. "Сегодня Разум сжигает бесчисленные тома, свидетельствующие о тщеславии касты. Однако часть этих томов еще хранится в общественных и частных библиотеках. Они должны разделить общую участь".] II. Кондорсе сам стал жертвой Революции. Но его работы немало послужили этой самой Революции, в частности, вдохновив на реформы в образовании, и именно в результате этих реформ во Франции к началу нового столетия сложилась великая институционально оформленная централизованная организация науки, которая, открыв один из самых славных периодов научного прогресса, затем стала не только колыбелью рассматриваемого нами сциентизма, но и, пожалуй, главной причиной происходившей в течение этого столетия относительной утраты завоеванных французской наукой, когда Франция не только уступила несомненно принадлежавшее ей первое место в мире Германии, но и пропустила вперед себя еще ряд стран. Как и бывает в подобных случаях, в заблуждение впали не великие люди положили начало злоупотреблению идеями своих наставников и распространению этих идей на те области, на которые они не были рассчитаны. Среди прямых последствий Революции есть три момента, представляющих особый интерес для нас. Прежде всего, сам крах существовавших институтов требовал немедленного применения всех знаний, представлявшихся зримым воплощением бога Революции -- Разума. Как писал один из новых научных журналов, появившихся перед концом Террора, "революция все сравняла с землей. Правительство, мораль, привычки -- все это нужно создавать заново. Какое великолепное поле деятельности для архитекторов! Какая грандиозная возможность пустить в ход все блестящие и утонченные идеи, остававшиеся до сих пор лишь уделом теории, использовать новые материалы, которые раньше не находили применения и отказаться от прежних, надоевших за многие века и бывших просто помехой." [Цитата приводится в работе: Gouhier. La jeunesse d'Auguste Comte, vol. 2, p. 31; взята из "Decade philosophique", 1794, vol. 1.] Второе следствие Революции, о котором
необходимо упомянуть, -- это полное разрушение
старой и создание совершенно новой системы
образования, оказавшей глубокое влияние на
взгляды и мировоззрение всего следующего
поколения. И третье, более частное, -- это
основание Высшей политехнической школы. Так выросло целое поколение, для которого неисчерпаемый кладезь общественной мудрости -- великая литература всех веков (единственная форма, в которой из поколения в поколение передается понимание общественных процессов, достигнутое величайшими умами) -- оказался закрытым. Впервые и истории сформировался тип людей, которым, как и выпускникам немецких Realschule (реальных училищ) или похожих учебных заведений, предстояло сыграть столь важную и заметную роль в конце девятнадцатого и в двадцатом веке, -- технические специалисты, считавшиеся образованными лишь потому, что они одолели трудный курс обучения, но не имевшие или имевшие сочень мало знаний об обществе, его жизни, развитии, проблемах и ценностях -- знаний, приобретаемых только при изучении истории, литературы и языков. III. Революционный Конвент создал новый тип учебного заведения в системе не только среднего, но и высшего образования, и этому типу суждено было утвердиться и стать образцом для подражания во всем мире. Речь идет о высшей политехнической школе. Революционные войны и помощь, оказанная учеными в производстве боеприпасов [в частности, селитры, входящей в состав пороха], привели к осознанию потребности в квалифицированных инженерах, необходимых в первую очередь для решения военных задач. Но кроме этого и развитие промышленности пробудило и все усиливало заинтересованность в новых машинах. Научно-технический прогресс стал причиной широкого энтузиазма в области технических исследований, что отразилось в создании таких обществ, как Association philotechnique (Филотехническая ассоциация) и Societe polytechnique (Политехническое общество) [см.: Pressard. Histoire de Passociation philotechnique. Paris, 1889; Gouhier. Op. cit., p. 54]. Прежде высшее техническое образование можно было получить лишь в специализированных учебных заведениях, таких как Высшая школа путей сообщения, или в различных военных училищах. Преподавателем военного училища был и Г. Монж -- создатель начертательной геометрии, министр военно-морского флота во время Революции, ставший позднее другом Наполеона. Именно ему принадлежала идея создать единый учебный центр, в котором инженеры всех специальностей обучались бы вместе по общим предметам. [О создании и истории Высшей политехнической школы см.: A. Fourcy. Histoire de l'Ecole polytechnique. Paris, 1828; G. Pinet. Histoire de I'Ecole polytechnique. Paris, 1887; G.-G. J. Jacobi. Ueber die Pariser polytechnische Schule (Vortraggehalten am 22 Mai 1835 in der physikalischokonomischen Gesellschaft zu Konigsherg) in: Gesammelte Werke. Berlin, 1891, vol. 6, p. 355; F. Schnabel. Die Anfange des technischen Hochschulwessens. Stuttgart, 1925; F. Klein. Vorlesungen uber die Entwicklung der Mathematik. Berlin, 1926, vol. I, pp. 63--89.] Он поделился этой идеей со своим учеником Лазарем Карно -- "организатором победы" -- который и сам был крупным физиком и инженером. [В 1783 г. Карно опубликовал "Опыт о машинах вообще" (во втором издании, вышедшем в 1803 г., эта работа получила название "Фундаментальные принципы равновесия движения" -- "Principes fondamentaux de l'equilibre du mouveinent"), где он не только подробно изложил новую теорию механики Лагранжа, но и предложил идею "идеальной машины", которая не уменьшает силу, приводящую ее в движение. Его работа во многом подготовила почву для идей его сына, Сади Карно, основателя термодинамики, или "Науки об энергии". Его младший сын, Ипполит, был ведущим членом группы Сен-Симона и фактическим автором "Изложения доктрины Сен-Симона" -- работы, о которой мы будем говорить ниже. Лазарь Карно, отец, и сам всю жизнь восхищался Сен-Симоном и опекал его. Как писал Араго, Лазарь Карно "всегда говорил о политической организации общества так, будто речь шла о машине". См.: a. Arago. Biographies of Distinguished Men, trans. W. H. Smith, etc. London, 1857, pp. 300--304; E. Duhring. Kritische Geschichte der allgemeinen Principien der Mechanik, 3d ed. Leipzig, 1887, pp. 258--261.] Эти два человека и сформировали облик нового учебного заведения, открывшегося в 1794 г. По их замыслу и вопреки советам Лапласа [L. de Launnay. Un grand francais, Monge, Fondateur de l'Ecole polythechnique. Paris, 1933, p. 130] в Высшей политехнической школе должны были заниматься в основном прикладными науками (в отличие от основанной примерно в то же время Высшей нормальной школы, в которой делался упор на изучение теории). Так и было в течение первых десяти или двадцати лет ее существования. Все обучение сосредоточивалось (причем в гораздо большей степени, чем в нынешних подобных заведениях) вокруг предмета Монжа -- начертательной геометрии, или искусства создания чертежей, поскольку такое название лучше подчеркивает ее особое значение для инженеров. [Ср.: A. Comte. "Philosophical considerations on the Sciences and Men of Science, in: Early Essays on Social Philosophy. London, New Universal Library, 1825, p. 272, где Конт говорит, что ему "известен лишь один пример, который может дать точное представление [об отличительных чертах доктрины, призванной служить формированию особого класса инженеров], а именно -- концепция блистательного Монжа, изложенная в его "Начертательной геометрии", где дана общая теория искусства проектирования".] Первоначально организованная как гражданское учебное заведение, Высшая политехническая школа была затем преобразована в чисто военное училище -- по указу Наполеона, который очень высоко ценил Школу и мало в чем ей отказывал, но при этом пресекал любые попытки либерализовать ее программу обучения и даже на введение такого безобидного предмета, как литература, согласился неохотно [G.-G. J. Jacobi. Ор. cit., p. 370]. Однако несмотря на ограничения, касающиеся изучаемых предметов, а в первые годы и более серьезные ограничения, обусловленные пробелами в предшествующем образовании ее студентов, преподавательский состав Школы с самого начала был настолько сильным, что, пожалуй, ни одно другое учебное заведение Европы ни до, ни после этого не могло с ней сравниться. В числе первых ее профессоров был Лагранж, с ней был тесно связан Лаплас, который хоть и не преподавал, выполнял обязанности председателя совета Школы. Представителями первого поколения преподавателей математики и физики были Монж, Фурье, Прони и Пуансо; химию преподавал Бертолле, последователь Лавуазье, и другие, не менее известные химики [Фуркруа, Воклен, Шапталь]. В начале нового столетия им на смену пришло второе поколение профессоров, включавшее такие имена, как Пуассон, Ампер, Гей-Люссак, Тенар, Араго, Коши, Френель, Малюс -- и это лишь наиболее известные. Кстати, почти все они были выпускниками Школы. Всего через несколько лет после создания Высшая политехническая школа стала известна по всей Европе, и первая мирная передышка 1801--1802 гг. привела под своды этого нового храма науки Вольта, графа Румфорда и Александра фон Гумбольдта. [В марте 1808 г., вскоре после прибытия в Париж формально -- с дипломатической миссией), Александр фон Гумбольдт писал своему другу: "Моя жизнь протекает в Высшей политехнической школе и во дворце Тюильри. В Школе я и работаю, и сплю; я провожу в ней дни и ночи. Живу я в одной комнате с Гей-Люссаком" (К. Bruhns. Alexander von Hurnboldt. 1872, vol. 2, p. 6).] IV. Мы не будем подробно рассказывать здесь, какой вклад в развитие науки внесли эти люди. Нас интересует лишь рожденный ими мощный дух уверенности в безграничных возможностях человеческого разума, в том, что неодолимых преград на пути к укрощению и освоению любых, пусть даже самых грозных и могучих сил природы, не существует. Пожалуй, ничто не выражает этот дух так ясно, как знаменитая идея "демона Лапласа", которую тот высказал в своей работе "Опыт философии теории вероятностей": "Разум, осведомленный о всех силах природы в точках приложения этих сил и достаточно обширный, чтобы использовать все эти сведения в своем анализе, мог бы единой формулой описать движения и крупнейших тел во Вселенной, и мельчайших атомов; не осталось бы ничего, что было бы для него недостоверно, и будущее, так же как и прошедшее, предстало бы перед его взором" [Laplace. Essai philosophique sur les probabilites (1814). in: Les maitres de la pensee scientifique. Paris, 1921, p. 3]. Эта идея, овладевшая умами [см., например, ссылку на нее в работе Абеля Трансона: De lа religion Saint-Simonienne: Aux eleves de l'Ecole polytechnique. Paris. 1830, p. 27] не одного поколения научно мыслящих людей, не только описывает недостижимый идеал, но фактически представляет собой совершенно неправомерный вывод из принципов, с помощью которых мы устанавливаем законы для отдельных физических явлений. Теперь это становится очевидным, и современные позитивисты говорят об этом как о "метафизической фикции". [См.: O. Neurath.Empirische Soziologie.Vienna, 1931, p. 129. Подробнее о постулате универсального детерминизма, о котором собственно и идет речь, см.: К. Pepper. Logic der Forschung. 1935, p. 183; P. Frank. Das Kausalgesetz; R. von Mises. Probability, Statistics and Truth. 1939, pp. 284--294. Столь же характерен и так же послужил распространению позитивистского духа знаменитый ответ Лапласа Наполеону, который, прочтя "Небесную механику", спросил у автора, почему в его сочинении нет упоминаний о Боге. "Я не нуждался в этой гипотезе", -- ответил Лаплас.] Неоднократно отмечалось, что обучение в Высшей политехнической школе было насквозь пронизано позитивистским духом Лагранжа, влиявшим и на все учебные курсы, и на выбор учебников [Е. Duhring. Ор. cit, р. 569, et seq.]. Но, скорее всего, еще более важным для формирования мировоззрения студентов Школы было то, что все преподавание имело ярко выраженный прикладной уклон и основной упор делался на предстоящее применение полученных знаний на практике, и что готовила она не теоретиков, а военных и гражданских инженеров. Высшая политехническая школа создала сам тип современного инженера -- с его характерными взглядами, устремлениями и ограниченностью. Это пристрастие ко всему искусственному и неприятие того, что не сконструировано, любовь к организованности, питаемая парой весьма похожих источников, один из которых -- военное, другой -- гражданское инженерное дело [В одном из своих рассказов ("Второй силуэт женщины") Оноре де Бальзак говорит о том, как разные исторические периоды обогащали французский язык привнесением характерных слов. В качестве примера он приводит слово "организовать" и добавляет, что "оно создано Империей и включает в себя целиком понятие "Наполеон".], эстетское предпочтение всего сознательно сконструированного тому, что ""выросло само", -- все это стало сильным новым моментом, добавившимся к революционному рвению молодых политехников, а со временем начавшим и теснить его. Характерные черты этого нового типа, который, как было замечено, "гордился тем, что знает самое лучшее и самое точное решение любого политического, религиозного или социального вопроса", [Е. Keller. Lе general de la Monciere. Цит. по: Pinet. Op. cit., p. 136] и который "брался за создание религии так, как будто для этого годилось умение строить мосты и дороги, даваемые Школой" [слова А. Трибодо приводятся по: Gouhier. Ор. cit., vol. 1, р. 146], были описаны уже давно. Неоднократно отмечалась и склонность такого типа людей к социализму [Arago. Op. cit., vol. 3, p. 109; F. Bastiat. Baccalaureat et Socialisme. Paris, 1850]. Мы же вынуждены ограничиться замечанием, что именно в этой атмосфере у Сен-Симона родились его ранние и наиболее фантастические планы реорганизации общества и что именно в первые двадцать лет существования Высшей политехнической школы в ней получили образование Опост Конт, Проспер Анфантен, Виктор Консидеран, а также сотни позднейших последователей Сен-Симона и Фурье, за которыми сквозь все столетие тянется непрерывный поток реформаторов -- вплоть до Жоржа Сореля [см.: G. Pinet. Ecrivains et penseurs polytechniciens. Paris, 1898]. Но, необходимо еще раз подчеркнуть, что, какой бы ни была направленность у тех, кто учились в Высшей политехнической школе, прославившие ее великие ученые никогда не грешили распространением своего образа мысли и своих методов на те области, в которых они не были специалистами. Они мало интересовались проблемами человека и общества [см., впрочем, очерки Лавуазье и Лагранжа в: Daire Melanges Peconomie politique. 2 vols. Paris, 1847--1848, vol. 1, pp. 575--607]. Это было вотчиной другой группы людей, в свое время не менее влиятельных и почитаемых; но их попытки продолжить традиции общественных наук XVIII в. в конце концов были смыты волной сциентизма и заглохли под натиском политических преследований. К несчастью для "идеологов", как они сами себя называли, даже наименование их группы было превращено в модное словечко, обозначающее нечто совершенно противоположное тому, что они отстаивали, а их идеи попали в руки молодых инженеров, и были исковерканы до неузнаваемости. Примечательно, что французские ученые того времени разделялись на два "противоборствующих лагеря, имевших лишь одну общую черту -- и в тот, и в другой входили знаменитейшие люди эпохи". [См.: Arago. Oр. cit, vol. 2, p. 39, где он сообщает, что Ампер, физиолог по образованию, был одним из немногих связующих звеньев между этими лагерями.] В одну группировку входили профессора и экзаменаторы уже известной нам Высшей политехнической школы и Коллеж де Франс. Другая состояла из физиологов, биологов и психологов, связанных в основном с Высшей медицинской школой и известных нам как "идеологи". Не все великие биологи, которыми могла в то время гордиться Франция, принадлежали к этой второй группе. Кювье из Коллеж де Франс, создатель сравнительной анатомии и, вероятно, самый знаменитый в то время французский биолог, стоял ближе к чистым естествоиспытателям. Но не исключено, что его описание успехов, достигнутых биологическими науками, больше, чем что-либо еще способствовало созданию веры во всемогущество методов чистой науки. Представлялось, что все больше и больше проблем, доселе ускользавших от точных методов, начинают им покоряться. [О влиянии Кювье см.: .J. Т. Merz. A History of European Thought in the Nineteenth Century. 1906, vol. 1, pp. 136 et seq., где приводится (p. 154) характерная цитата из Кювье (Rapport historique sur le progres des sciences naturelles depuis 1798. Paris, 1810, p. 389): "Только эксперимент, причем эксперимент точный, проведенный при помощи весов, других измерительных приборов и расчетов, предполагающий сравнение исходных веществ со всеми полученными веществами, является сегодня единственно допустимым способом рассуждения и доказательства. Таким образом хотя естественным наукам и не свойственно поддаваться точному расчету, они могут гордиться тем, что пронизаны духом математики, а благодаря мудро выбранному пути развития, по которому они неизменно следуют, у них нет риска сделать шаг назад." См. также: Lord Acton. Lectures on Modern History, p. 22, 338 n. 82.] Два других биолога, чьи имена сегодня даже более известны, чем имя Кювье, а именно Ламарк и Жоффруа Сент-Илер, пребывали во втором ряду группы идеологов и не слишком утруждали себя изучением человека как мыслящего существа. Но для Кабаниса, Мен де Бирана и их друзей Дестюта де Траси и Джерандо исследование человека стало главной задачей. Слово "идеология" [Тибодо (А. С. Thibaudeau. Bonaparte and the Consulate.1843, trans. G. K. Fortescue. 1908, p. 153) подчеркивает, что, хоть и принято считать, будто слова "ideologues" и "ideologie" в качестве терминов стал употреблять Наполеон, в действительности их сделал таковыми Дестют де Траси в первом томе своих "Элементов идеологии" (Elements d'ldeologie), опубликованном в 1801 г. Но крайней мере, слово "идеология" встречается во французском языке уже с 1684 г] в том смысле, в котором его употребляли члены этой группы, означало лишь анализ человеческих идей и человеческих действий, выключая связи между физическим и психическим устройством человека. [О концепции идеологической школы в целом см.: F. Picavet. Les Ideologues, Essai sur l'histoire des idees et des theories scientifiques, philosophiques, religieuses, en France depuis 1789. Paris, 1891, а также работу, вышедшую уже после первой публикации настоящего очерка: Е. Cailliet. La Tradition litteraire des ideologues. Philadelphia, 1943. На самом деле они использовали это слово почти в таком же широком смысле в каком их немецкие современники употребляли слово "антропология". О немецком аналоге слова "ideolgues" см.: F. Gunther. Die Wissenschaft vom Menschen, ein Beitrag zum deutschen Geistesleben im Zeitalter des Rationalismus, in: "Geschichtliche Untersuchungen", ed. K. Lamprecht. l907, vol. 5.] Главным вдохновителем идеологов был Кондильяк, а поле их деятельности очерчено Кабанисом -- одним из основателей физиологической психологии -- - в его работе "Отношения между физической и моральный природой человека" ("Rapports de physique et du moral de l'homme", l802). И хотя они много говорили о применении естественнонаучных методов к изучению человека, на деле это означало лишь, что они предлагают подходить к изучению человека без предрассудков и отказавшись от туманных рассуждений о его предназначении и судьбе. Но это ничуть не мешало ни Кабанису, ни его друзьям заниматься преимущественно тем самым анализом человеческих идей, который и дал идеологии ее название. Им также не приходило в голову усомниться в правомерности интроспекции. Так, предлагая рассматривать всю идеологию как часть зоологии [Picavet Op. cit., p. 337], второй лидер группы Дестют де Траси позволял себе тем не менее целиком сосредоточиваться на изучении той ее части, которая в отличие от "физиологической идеологии" называлась "рациональной идеологией" и состояла из логики, грамматики и экономики [Ibid., p. 314]. Нельзя не отметить, что из-за энтузиазма по отношению к чистой науке они использовали множество неточных выражений, которые были совеем уж неправильно поняты Сен-Симоном и Контом. В частности, Кабанис неоднократно подчеркивал, что физика должна быть основой моральных наук [lbid., p. 250. Также см.: р. 131--135, где речь идет о предшественнике Кабаниса Вольнее. В 1793 г. Вольней опубликовал "Катехизис французского гражданина" ("Catechisme du Citoyen Francais"), который позднее вышел под названием "Естественное право, или физические принципы морали" ("La loi naturelle ou les principes physiques de la moral"); в этой работе он безуспешно пытался превратить мораль в естественную науку.], но подразумевал под этим лишь необходимость принимать во внимание физиологическую основу умственной деятельности, кроме того он всегда признавал существование трех отдельных частей "науки о человеке": физиологии, анализа идей и теории нравов [Picavet. Ор. cit., р. 226]. Но, если говорить об общественных науках, то работы Кабаниса носили преимущественно программный характер, тогда как Дестют де Траси внес действительно важный вклад в их развитие. Нам необходимо упомянуть всего одну его работу -- исследование проблемы ценности и ее отношения к полезности. В этом исследовании он, опираясь на фундамент, заложенный Кондильяком, сумел продвинуться очень далеко по пути создания правильной теории ценности -- то есть именно того, что отсутствовало в английской классической политической экономии и что могло бы помочь ей избежать тупика, в котором она оказалась. С полным основанием можно заявить, что Дестют де Траси и продолживший его работу Луи Сэй более чем на полвека предвосхитили одно из самых важных достижений в области общественных наук -- субъективную теорию ценности, или теорию предельной полезности [о Дестюте де Траси см.: Н. Michel. L'Idee d'etat. Paris, 1895, p. 282--286; о Луи Сэе см.: A. Schatz. L'Individualisme economique et social. Paris, 1907, pp. 153 et seq.]. Правда, другие, не входившие в их кружок, продвинулись в приложении естественнонаучных методик к исследованию общественных явлений гораздо дальше. В частности, "Общество наблюдателей человека", в значительной мере под влиянием Кювье, сделало определенные шаги к ограничению социальных исследований простой регистрацией наблюдений, наподобие того, как делают похожие на него организации в наши дни [см.: Picavet. Op. cit., p. 82]. Но в общем нет сомнений, что идеологи сохранили лучшие традиции философов XVIII в. И в то время как их коллеги из Высшей политехнической школы превращались в почитателей и друзей Наполеона и получали от него всяческую поддержку, идеологи неизменно оставались защитниками индивидуальной свободы, чем и навлекли на себя гнев тирана. Новое значение слову "идеолог" дал именно Наполеон, с удовольствием употреблявший его, чтобы выражать презрение к каждому, кто отваживался наперекор ему защищать свободу. [Вот отрывок из ответа Наполеона Государственному Совету на сессии 20 декабря 1812 г., цитируемый Парето ("Mind and Society", vol. 3, p. 1244) no: "Moniteur universel". Paris, December 21, 1812: "Все несчастья, которые выпали на долю нашей прекрасной Франции, должны быть приписаны "идеологии" -- этой туманной метафизике, которая с неподражаемой изобретательностью ищет во всем первопричины и готова обосновывать этими первопричинами законы человеческого общества, вместо того, чтобы приспосабливать эти законы к тому, что нам известно из человеческого сердца и из уроков истории. Подобные ошибки только и могут, что привести к кровавой тирании, что уже случалось. Кто обманул народ, навязав ему независимость, которую невозможно было отстоять? Кто пренебрег святостью законов и разрушил уважение к законам, основывая их не на священных принципах справедливости, не на природе вещей и природе гражданской справедливости, а просто на воле ассамблеи, составленной из индивидуумов, далеких от знания каких бы то ни было законов, безразлично, гражданских или военных, административных или политических? Человек, призванный переустраивать государство, вынужден следовать принципам, пребывающим в вечном конфликте. Примеры удачных и неудачных законодательных систем отыскиваются в истории". См. также: Н. Taine. Lesorines de la France contemporaine. 1876, vol. 2, pp. 214--233. Показать, как все это представлялось следующему поколению, можно, приведя такое характерное утверждение одного из ведущих сен-симонистов (хотя его историческая точность небесспорна): "Apres 1793, l'Academie des Sciences prend ie sceptre; les mathematiciens et physiciens rempacent les litterateurs: Monge, Fourcroy, Laplace ... regnent dans ie royaume de l'intelligence. En meme temps, Napoleon, membre de I'lnstitut, classe de mecanique, etonffe au berceau les enfants leqitimes de la philosophie du XVIIIe siecle" ("После 1793 г. скипетр переходит к Акакдемии наук; на смену литераторам пришли математики и физики: Монж, Фуркруа и Лаплас... правят в мире идей. В то же самое время Наполеон, член Института Франции по классу механики, в колыбели душит законных наследников философии XVIII в.; P. Enfantin. Colonisation de l'Algerie, 1843, pp. 521--522.] Но он не довольствовался одними оскорблениями. Человек, который лучше, чем кто-либо из его подражателей, понимал, что "в конечном счете дух всегда торжествует над мечом", без колебаний претворял свою "неприязнь ко всем политическим дискуссиям и преподаванию политических предметов" в практику [см.: A. C. Thibaudeau. Le onsulat et l'empire Paris. 1835--1837, vol. 3, p. 396]. Экономист Ж.-Б. Сэй, участник группы идеологов, в течение нескольких лет являвшийся редактором журнала "Философская декада" ("Decade philosophique"), одним из первых, ощутил на себе тяжесть карающей длани. Когда он отказался вносить изменения в свой "Трактат по политической экономии" (Traite d'economie politique), как того требовал диктатор, второе издание этой книги было запрещено, а ее автора убрали из Трибунала [см.: J. B. Say, Traite d'economie politique, 2d ed. 1814, Avertissement]. В 1806 г. Дестют де Траси был вынужден хлопотать о публикации хотя бы английского перевода своей работы "Комментарии о духе законов" ("Cominentaire sur l'esprit des lois"), запрещенной на родине. С просьбой позаботиться об этом он обратился к президенту Джефферсону [см.: G. Chinard, Jefferson et les ideologues. Baltimore, 1925]. Немного раньше (в 1803) была закрыта Академия моральных и политических наук, составлявшая весь второй класс Института Франции [Merz. Op. cit., p. 149]. В результате этим наукам не нашлось места в громадное труде "Развитие государства и прогресс наук и искусств после 1789 г." ("Tableau de l'etat et des progres des sciences et des arts depuis 1789"), который поручено было составить трем классам Института Франции в 1802 г. Это факт символический, помещающий ясно представить себе существование всех подобных дисциплин в условиях Империи. Их не преподавали. Целое поколение росло, ничего не зная об уже достигнутом, что позволяло молодежи брать новый старт, не чувствуя себя отягощенной научным опытом предшественников. Социальные проблемы представали теперь в новом освещении. Методы, которые со времен Д'Аламбера столь успешно использовались в физике и помогли раскрыть ее природу и которые незадолго до описываемых событий так же оправдали себя в химии и биологии, теперь предстояло применить к науке о человеке. Результаты этого мы и рассмотрим ниже. 12. Анри де Сен-Симон -- "Accoucheur d'Idees" <Accoucheur d'idees (фр.) -- акушер идей> I. Трудно было бы предположить, что граф Анри де Сен-Симон с его образованием и его опытом станет реформатором науки. Хотя надо признать, что когда в 1798 г. в возрасте 38 лет [год и, соответственно, возраст могут быть не совсем точными] он поселился напротив Высшей политехнической школы и собрался растолковать миру, какое значение имеет научный прогресс для изучения общества, он обладал уже богатым и разнообразным опытом; но его научная подготовка вряд ли была достаточной. Факты его предшествующей жизни, сделавшиеся известными совсем недавно [см.: Н. Gouhier. La jeunesse d'Auguste Comte et la formation du positivisine, vol. 2, Saint-Simon jusqu'a la restauration. Paris, 1936; по достоверности описания первых сорока пяти лет жизни Сен-Симона эта книга превосходит все прежние, включая и лучшую из них: G. Weill. Un precurseur du socialisine, Saint-Simon et son oeuvre. Paris, 1894; M. Leroy. La vie veritable du comte de Saint-Simon, 1760--1825. Paris, 1925; G. Dumas. Psychelogie de cleux messies positivistes, Saint-Simon et Auguste Comte. Paris, 1905], далеко не так возвышенны, как бесчисленные анекдоты, дошедшие до нас благодаря его собственным стараниям и стараниям его учеников и до сих пор бывшие чуть ли не единственным источником информации о его молодости. Из этих легенд мы узнаем, что он потомок Карла Великого, что за его образованием следил Д'Аламбер и что его лакей имел обыкновение будить честолюбивого молодого человека словами: "Вставайте, граф, Вас ждут великие дела". Не исключено, что все так и было. Во всяком случае, точно известно, что первые двадцать лет своей взрослой жизни он, как и многие отпрыски аристократических семейств того времени, был искателем приключений, однако мало кто из его современников действовал столь же энергично и с таким размахом. Чуть ли не сразу же после вступления в должность офицера Французской армии он последовал за Лафайеттом в Америку, а когда через четыре года война окончилась, распрощался с военной карьерой. Мы знаем, что, еще будучи военным, он мечтал прокопать канал через Панамский перешеек. Позднее в Голландии предлагал себя в качестве организатора экспедиции против Британской Индии, а в Испании ввязался в уже более конкретную затею с проектированием каналов. Революция застает его опять в Париже, отрекшимся от титула; теперь его имя гражданин Боном <Bonhomme (фр.) -- простак, мужик> и ведет он себя как самый отчаянный санкюлот. Но вскоре подвернулось более выгодное занятие. Он превращается в посредника по продаже церковных земель и проявляет в этом качестве невероятную активность, с колоссальным размахом спекулирует заемными средствами и становится одним из редкостных баловней инфляции, до такой степени неразборчивым в способах зарабатывания денег, что предпринимает попытку продать свинец с крыши Собора Парижской Богоматери. Неудивительно, что с наступлением Террора он оказывается в тюрьме. По его собственному признанию, именно там он решил избрать карьеру философа; но после освобождения снова предпочел финансовые спекуляции метафизическим. Пока от его партнера (саксонского дипломата) продолжали поступать необходимые капиталы, он пробовал себя во всевозможных коммерческих затеях, таких как организация службы почтовых перевозок, торговля вином, текстильное производство и даже выпуск "республиканских" игральных карт, в которых вместо ненавистных королей и дам фигурировали Гений и Свобода. Были у него и более грандиозные планы. Похоже, что он начал строительство крупного завода и в довершение ко всему задумывался о коммерческо-банковском предприятии, "подобного которому не было бы во всем мире". Кроме того, он представлял французские финансовые интересы в ходе англофранцузских переговоров в Лилле в 1797 г. Однако вся эта деятельность внезапно завершилась, когда в 1798 г. его партнер вернулся в Париж и попросил представить ему отчеты. Сен-Симон, безусловно, знал толк в красивой жизни, и его дом, порученный заботам управляющего, до этого служившего герцогу де Шуазелю, и кухня, где хозяйничал искусный шеф-повар, успели прославиться. Но тот факт, что все связанные с этим издержки значились как статья расходов их совместного предприятия, заметно огорчил доброго саксонского графа. Свои средства он изъял, а Сен-Симон, все еще располагающий достаточным, но уже не соответствующим его размаху состоянием, почел за благо отказаться от коммерческой деятельности и впредь добиваться славы в интеллектуальной сфере. Какие-то смутные планы реорганизации общества несомненно уже складывались в уме разочарованного дельца; и, само собою, он вскоре обнаружил, что при всем своем опыте, он не в состоянии как следует разработать свои идеи, поскольку для этого требуются знания. И он решает "пустить своп деньги на приобретение научных знаний". ["J'ai employe mon argent a acquerir de la science; grand chere, bon vin, beaucoup d'einpresseinents vis-a-vis des professeurs auxquels ma bourse etait ouverte, me procuraient toutes les facilites que je pouvais desirer". ("Я употреблял свои деньги для приобретения научных знаний; обильный стол, доброе вино, предупредительность к профессорам, для которых мой кошелек был всегда открыт, -- все это доставило мне такие возможности, каких я только мог пожелать.") (Цит. по: М. Leroy. Ор. cit., р. 210.)] Именно тогда он провел три года в тесном общении с преподавателями и студентами Высшей политехнической школы, сделавшись чем-то вроде ученика-мецената, угощающего профессоров и помогающего студентам, одного из которых, великого математика Пуассона, он содержал в течение многих лет и относился к нему как к приемному сыну. Способ обучения, который Сен-Симон выбрал для себя, был необычным. Чувствуя, что мозг его уже недостаточно гибок для систематических занятий, он предпочел изучать все, что можно, в более приятной форме застольных бесед. Ученых, чьи знания могли ему пригодиться, он приглашал к себе домой, и не исключено даже, что единственной целью его женитьбы было сделать свой дом подходящим для приема научных светил. Известно, что его гостеприимством пользовались Лагранж, Монж, Бертолле, а приблизительно после 1801 г., когда он почувствовал, что завершил свое образование в области механики и переехал, чтобы жить по соседству с Высшей медицинской школой, -- Галль, Кабанис и Биша. Но, похоже, преимущества подобного метода обучения оказались не такими уж бесспорными. Во всяком случае, позже наш герой жаловался в письме к другу, что его "ученые и художники ели много, а говорили мало. После обеда я пошел посидеть в кресле в углу гостиной, и заснул. К счастью, мадам де Сен-Симон занималанаших гостей непревзойденной грацией и присутствием духа." [Leon Halevy. Souvenirs de Saint-Simony. -- La France litteraire, March, 1832; в 1925 г. частично перепечатано Ж. Брюне в журнале "Revue l'histoire economique et sociale", p. 168.] To ли он просто понял, что неправильно вложил средства и решил сократить убытки, то ли ему представилось, что еще более удобным способом обучения может стать новая женитьба, но вскоре после переезда в его доме прекратились не только обеды, но и семейная жизнь. Он объяснил своей жене, что "первейшему в мире мужчине следует быть женатым на первейшей женщине" и что поэтому он с превеликим сожалением предлагает ей быть свободной. Было ли случайностью, что развод последовал всего через месяц после того, как овдовела мадам де Сталь, та самая мадам де Сталь, в чьей книге, воспламенившей воображение Сен-Симона, так восхвалялись "позитивные науки" и особо отмечалось, что "науку о политике еще предстоит создать"? [См.: Madame de Stael. De la litterature consideree dans ses repports avec les institutions sociales (1800). Приводимые отрывки взяты из "Discours preliminaire", 3d ed. (1818), vol. 1, p. 58, и vol. 2, pt. 2, p. 215.] Утверждают, что, едва обретя свободу, он поспешил в местечко Ле Коппэ на берегу Женевского озера и сделал предложение в следующих словах: "Мадам, Вы самая необыкновенная женщина на земле, а я самый необыкновенный мужчина; вместе мы несомненно произведем на свет еще более необыкновенного ребенка". Легенда прибавляет, что он предложил отпраздновать их свадьбу на воздушном шаре. Свидетельства о выражениях, в которых ему было отказано, расходятся. II. Поездка в Швейцарию ознаменовалась и первой публикацией Сен-Симона. В 1803 г. в Женеве вышли "Письма Женевского обитателя к современникам" ("Lettres d'un habitant de Geneve a ses contemporains") [См.: Oeuvres de Saint-Simon et d'Enfantin. Paris, 1865--1878 (далее OSSE), vol. 15, pp. 7--60, и новое издание, воспроизводящее оригинал, со вступительной статьей А. Перейра (Paris, 1925). Практически все важнейшие извлечения из работ Сен-Симона есть в сборнике: Lettres D'Henri de Saint-Simon. Textes choisies avec une introduction par C. Bougle, Notice bibliograpinque de A. Pereire. Paris, 1925. В последующих сносках первым указывается издание "Oeuvres", вторым (в скобках) -- отдельное издание "Lettres" 1925 г. О запутанной истории различных изданий и рукописей трудов Сен-Симона см.: Gouhier. Ор. cit, pp. 224 et seq.], представляющие собери небольшой трактат, в котором в невероятно преувеличенной форме возрождался вольтеровский культ Ньютона. Начинается он с предложения устроить у ньютоновского надгробия сбор средств для финансирования проекта великого "Совета Ньютона", в состав которого каждый сделавший взнос имел бы право предложить трех математиков, трех физиков, трех химиков, трех физиологов, трех литераторов, трех художников и трех музыкантов [OSSE, vol. 15, p. 11 (3)]. Ученые и художники, выбранные всем человечеством, в количестве двадцати одного человека и во главе с математиком, получившим наибольшее число голосов [Ibid., p. 51 (55)], должны, объединив свои способности, стать коллективным наместником Бога на земле [Ibid., p. 49 (53)] и отстранить Папу, кардиналов, епископов и священников от их должностей, раз они не понимают божественной науки, которую вверил им Всевышний и которая однажды вновь превратит землю в райские кущи [Ibid., p. 48 (52)]. Верховный Совет Ньютона поделит мир на секции и отделы, в которых будут свои, местные, Советы Ньютона, призванные заниматься культом, исследованиями и обучением, как внутри, так и вне храмов Ньютона, которые будут воздвигаться повсеместно [Ibid., p. 50--53 (54--58)]. Зачем понадобилась эта новая "организация общества", как называет ее Сен-Симон впервые в неопубликованной рукописи того же периода? [B: Lettres, ed. A. Pereire, pp. xv, 93.] Дело в том, что нами все еще руководят люди, не понимающие общих законов, управляющих Вселенной. "Физиологам необходимо изгнать из своей среды философов, моралистов и метафизиков, также как астрономы изгнали астрологов, а химики -- алхимиков" [OSSE, vol. 15, p. 39 (39)]. Физиологам принадлежит решающее слово, потому что "мы представляем собой организованные тела; и я составлял свои проект, предлагаемый вашему вниманию, рассматривая наши общественные отношения как физиологические явления." [Ibid., p. 40 (40).] Но и физиологи сами еще недостаточно "научны". Им еще предстоит открыть путь к достижению такого же совершенства, какого достигла астрономия, если они будут исходить из единого закона, которому Бог подчинил Вселенную -- закона всемирного тяготения. [Ibid., pp. 39--40, 50 (39, 61). Отрывок, в котором Сен-Симон рассуждает об исключительной важности этого универсального закона, является поразительным предвосхищением знаменитого "демона Лапласа" (ibid., р.59 [67]): "Faites la supposition quo vous avez acquis connaissance de la maniere dout la matiere daont la matiere s'est, trouvee repartie a une epoque quelconque, et que vous avez fait le plan de l'Univers, en designant par des nombres la quantite de matiere qui se trouvoit contenue dans chacune des ces parties, il sera clair a vos yeux qu'en faisant sur ce plan d'application de la pesanteur universelle, vous pourriez predire (aussi exactmenti que l'etat des connoissances mathematiques voes le permettroit) tous les changements successifs qui arriveraient dans l'Univers." ("Предположите, что вы узнали способ, которым была в какую-то эпоху распределена материя, и что вы составили план Вселенной, обозначив числами количество материи в каждой ее части. Вам станет ясно, что, применяя к этому плану закон всемирного тяготения, вы будете в состоянии предсказать с той точностью, какую позволит состояние математических знаний, все последовательные изменения во Вселенной.") Лаплас опубликовал свою идею только в 1814 г., но можно с уверенностью предположить, что она стала известна раньше из его читанных еще в 1796 г. лекций, для которых впоследствии было написано вступление, содержавшее его знаменитую формулировку.] Совет Ньютона призван силой своего духа заставить людей постичь этот закон. Впрочем, это далеко не единственная его задача. Ему предстоит не только отстаивать права гениев: ученых, художников и вообще всех либерально настроенных людей [Ibid., р. 26 (23)]; он должен будет также уладить отношения между вторым -- классом -- собственников и третьим классом -- людей без собственности, причем последних Сен-Симон выделяет особо, называя их своими друзьями и призывая принять это предложение, которое указывает на единственный способ положить конец "борьбе, по самой природе вещей неизбежно существующей между" этими двумя классами [Ibid., р. 28 (25)]. Сам Господь открыл все это Сен-Симону, объявив Своему пророку также, что Он возвысил до Себя Ньютона, которому доверено просвещать обитателей всех планет. Пророчества достигают кульминационный высоты в известном пассаже, из которого много позже вырастает и вся доктрина Сен-Симона: "Все люди будут работать; они будут рассматривать себя как работников, приписанных к одной мастерской и прилагающих усилия к тому, чтобы приблизить человеческое разумение к моим божественным предвидениям. Управлять их работой будет Верховный совет Ньютона." [Ibid., р. 55 (61). Ср. также (p. 57 [65]): "L'obligation est imposee a chacun de donner constamment a ses forces personelles une direction utile a l'humanite; les bras du pauvre continueront a nourir le riche, mais le riche recoit ie commandement, de faire travailler sa cervelle, et si sa cervelle n'est pas propre au travail, il sera bien oblige de faire travailler ses bras; car Newton ne laissera surement pas sur cette plaiete (une des plus voisines du soleil) des ouvriers volontairement inutiles dans l'atelier." ("Каждый обязан неустанно трудиться во благо человечества. Руки бедняка по-прежнему будут служить прокормлению богатого, но богачу вменяется в обязанность работать головой, а если его мозг неспособен к работе, тогда пусть работает руками, ибо Ньютон, конечно, не оставит на этой планете (одной из ближайших к солнцу) таких работников, которые, считаясь лишь со своими прихотями, отказываются приносить пользу мастерской".) Идея организации общества по образцу мастерской, высказанная здесь впервые, с тех пор играла важную роль во всей социалистической литературе. См. в частности: G. Sorel. Le syndicalisme revolutionaire. "Mouvement Socialiste", November 1 and 15, 1905. Ср. также: К. Маркс. "Капитал", т. 1, отдел 4, гл. 12, с. 363--372 (К. Маркс, Ф. Энгельс. Собр. соч., т. 23).] Сен-Симон ничуть не беспокоится о том, как этот центральный планирующий орган будет добиваться выполнения своих решений: "К тем, кто не подчиняются порядкам, другие будут относиться как к скотам". [Lettres, ed. A. Pereire, р. 54. Этот отрывок был благоразумнее опущен его учениками при издании его Собрания сочинений.] Излагая работу Сен-Симона в сжатой форме, мы попытались внести некоторый порядок в то бессвязное и беспорядочное нагромождение идей, каким представляется его первый памфлет. Это излияния одержимого 1 манией величия визионера, который пытается развивать недоусвоенные идеи и все время хлопочет о том, чтобы мир обратил внимание на его непризнанный гений, а также на необходимость финансировать его труды, не забывая при этом обеспечить себе как основателю новой религии огромную власть и пожизненное место председателя во всех Советах [OSSE, vol. 15, р. 54 (59)]. III. Вскоре после выхода в свет этой первой работы Сен-Симон обнаружил, что его средства окончательно истощились. И следующие несколько лет он прожил во все возрастающей нищете, докучая своим старым друзьям и знакомым просьбами о деньгах и, как кажется, не останавливаясь перед вымогательством. Его обращения даже к давним друзьям, сделавшимся теперь могущественными людьми, таким как граф де Сегур, главный церемониймейстер Наполеона, доставили ему в конце концов лишь убогое и унизительное место переписчика в ломбарде. После шести месяцев такой работы, ослабевший и больной, он встретил своего бывшего лакея, который взял его к себе в дом. До самой своей смерти, в течение четырех лет (1806--1810), этот преданный слуга обеспечивал своего прежнего хозяина всем необходимым и даже оплатил расходы, связанные с печатанием следующей работы Сен-Симона. Похоже, что в этот период Сен-Симон как никогда много читал; во всяком случае, его "Введение к научным трудам XIX века" [Introduction aux travaux scientifiques du XIX siecle, 2 Vols. 1807--1808. "Введение" не вошло в "Oeuvres de Saint-Simon et d'Enfantin" и ознакомиться с ним можно в: Oeuvres shoisies de С.-Н. de Saint-Simon. Bruxelles, 1859, vol. I, pp. 43--264] указывает на широкое, хотя по-прежнему весьма поверхностное и ущербное знание научной литературы того периода. Главной темой остается то же самое, но предлагаемые методы кое в чем изменились. Сама наука должна быть организована раньше, чем с ее помощью можно будет организовать общество. [Oeuvres choisies, vol. 1, ("Mon portefeuille"): "Trouver une synthese scientifique qui codifie les dogmes du nouveau pouvoir et serve de base a une reorganisation de l'Europe." ("Найти научный синтез, кодифицирующий постулаты новой власти и служащий фундаментом реорганизации Европы ")] Таким образом, Совет Ньютона превращается теперь в редакционный комитет по выпуску великой новой Энциклопедии, призванной систематизировать и обобщить все знания: "Мы должны оценивать и согласовывать, исходя из физицизма [Ibid., р. 219. См. также: pp. 195, 214--215, 323--324]. Этот самый физицизм не есть просто новый общенаучный метод; ему надлежит стать новой религией, пусть даже сперва только для образованных классов. [Ibid., p. 214: "Je crois a la necessite d'une religion pour le maintien de l'ordre social; je crois que le deisme est use, je crojs que le physicisme n'est point assez solidement etabli pour pouvoir servir de base a une religion. Je crois que la force des choses veut qu'il у ait deux doctrines distinctes: le Physicisme pour les gens instruits, et le Deisme pour la classe ignorante." ("Я верю в необходимость религии для поддержания общественного порядка; я считаю, что деизм устарел, а физицизм еще не достаточно прочно утвердился, чтобы стать фундаментом новой религии. Я думаю, что в силу обстоятельств должны быть две различные доктрины: Физицизм для людей образованных и Деизм для невежественных.")] Это станет третьей великой ступенью в эволюции религии от политеизма через деизм [Сен-Симон использует оба выражения: "деизм" и "теизм" -- для обозначения монотеизма] к физицизму. Но, хотя развитие физицизма происходит вот уже одиннадцать столетий [Ibid., р. 195], окончательная победа еще не близко. Причина в том, что работа предшественников, особенно французских энциклопедистов, носила всего лишь критический и разрушительный характер [Ibid., p. 146]. Великому Императору Наполеону, являющемуся "научным руководителем человечества, равно как и его политическим лидером", "самому позитивному человеку эпохи" следует заняться систематизацией наук, новой энциклопедией, достойной его имени [Ibid., p. 61]. Под его руководством "жрецы физицизма" в atelier scientifique <atelier scientifi (фр.) -- научная мастерская> создадут труд, который придаст физицизму организованные формы и, базируясь на логических рассуждениях и наблюдениях, заложит вечные принципы, могущие служить опорой всему человечеству [Ibid., р. 243--244]. Величайший человек после Императора, а это "несомненно человек, который наиболее глубоко почитает его", предлагает себя на роль его "научного лейтенанта, второго Декарта, способного направить работу новой школы так, что она поразит мир". [Ibid., p. 231, 236. Декарт сделался теперь героем, поскольку наш вечный приспособленец превратился в ярого националиста: он огорчен превосходством Англии, все еще оскорбляющем французскую науку, и хочет, чтобы Франция перехватила инициативу. Это сочинение было задумано и написано как ответ на вопрос о развитии французской науки после 1789 г., поставленный Наполеоном перед Французской Академией.] Вряд ли нужно говорить, что эта работа не отличалась от первой большей систематичностью. Если в ее начале еще заметна не слишком успешная попытка излагать связно, то вскоре она, по общему признанию, превращается просто в собрание разрозненных заметок из portefeuille (портфеля) Сен-Симона. В набросках к автобиографии он объясняет, что отказался от первоначально намечавшегося честолюбивого плана из-за отсутствия средств, а в другом месте признает, что еще не созрел для такого дела [OSSE, vol. 15, pp. 71, 77]. Однако при всех ее недостатках эта работа является примечательным документом. В ней впервые союоагы влежигл плчьи все характерные особенности мировоззрения современного сциентиста -- организатора науки. Восторженное отношение к физицизму (теперь он называется физикализмом) и "языку точных наук" [Ibid., p. 112], попытка "унифицировать науку" и превратить ее в фундамент морали, презрение к любым "теологическим", то есть антропоморфным суждениям [lbid., p. 217: "L'idee de Dieu n'est pas autre chose que l'idee de 1'intelligence humaine generalisee" ("Идея Бога -- это не что иное, как идея обобщенного человеческого разума")], стремление организовать работу других, взяв за образец организации редактирование великой энциклопедии, и готовность планировать всю жизнь, опираясь на научные основания, -- все это здесь присутствует. Порой кажется, что читаешь современную работу Герберта Уэллса, Льюиса Мамфорда либо Отто Нейрата. Не обошлось и без жалоб на интеллектуальный кризис, нравственный хаос, который должен быть преодолен благодаря насаждению нового научного символа веры. Эта книга, безусловно более значительная, чем "Письма женевского обитателя", стала первым и самым важным документом "контрреволюции науки" -- так Бональд, товарищ Сен-Симона по реакции, назвал это направление [см.: W. Sombart. Sozialismus und Soziale Bewegung, 7th ed. 1919, p. 54], впоследствии получившее более четкое выражение в открытом стремлении Сен-Симона "положить конец этой революции" с помощью сознательной реорганизации общества. Это и есть начало как современного позитивизма, так и современного социализма, о которых определенно можно сказать, что они начинались как реакционные и авторитарные движения. "Введение", обращенное к собратьям-ученым, было не опубликовано, а просто размножено в небольшом количестве экземпляров, предназначавшихся для членов Института Франции. Видные ученые, среди которых оно было распространено, не обратили на него внимания, но, несмотря на это, Сен-Симон продолжал обращаться к ним за поддержкой еще в ряде небольших трактатов похожего содержания. Мы не станем задерживаться ни на них, ни на всяких мелких писаниях, выходивших в течение нескольких последующих лет и касавшихся в основном проекта энциклопедии. На этом этапе к мании величия пророка постепенно добавляется мания преследования, характерная для verkannte Genie <verkannte Genie (нем.) -- непризнанный гений>, проявившаяся в яростных нападках на прежде столь восхищавшего Лапласа, в котором он видел теперь причину собственного забвения [OSSE, vol. 15, pp. 42, 53--56]. Далее, вплоть до 1813 г., в работах Сен-Симона не обнаруживается сколько-нибудь существенного продвижения. Смерть верного слуги снова повергла его в крайнюю нищету, он голодал, а в конце концов и опасно заболел. Его спас старый знакомый, нотариус, заключивший с его семьей соглашение, согласно которому в обмен на отказ от всех притязаний на наследство ему была назначена небольшая ежегодная пенсия. Сносно устроившись, он опять берется за работу, которая переходит в новую фазу. Утратив последнюю надежду на поддержку со стороны физиков, он отвернулся от "brutier's, infinitesimaux, algebristes et arithmeticiens" ("любителей целых и бесконечно малых, алгебраистов и арифметиков") [Ibid., vol. 40, р. 39], которым он отныне отказывал в праве считаться научным авангардом человечества, и, обратившись к другой теме, проходившей через его первую работу, вновь обернулся к биологам. В "Очерке науки о человеке" "Memoire sur la science de I'homme" (одна из частей которого имеет между прочим самостоятельное название "Труд о всемирном тяготении" "Travail sur la gravitation universelle") он вновь поднимает вопрос о том, как с помощью естественнонаучных методов преобразовать физиологию, частью которой является наука о человеке [Ibid., p. l7], чтобы физиология вслед за физическими науками тоже перешла из "предположительного" состояния в "позитивное" [Ibid., pp. 25, 186]. Вместе с наукой о человеке, являющейся частью и вершиной физиологии, позитивными науками станут также мораль и политика [Ibid., p. 29], и таким образом "переход от идеи многих частных законов, регулирующих явления в разных отделах физики, к идее единого всеобщего закона, управляющего Вселенной" должен будет завершиться [Ibid., pp. l6l, 186]. Когда это произойдет, и все частные науки станут позитивными, общая наука, то есть философия, также станет позитивной [Ibid., p. 17]. Тогда она наконец сможет проявить себя как новая духовная власть, которой следует оставаться отделенной от мирской власти, так как подобное разделение настолько разумно, что не поддается усовершенствованию [Ibid., pp. 247, 310]. С учреждением "позитивной системы" мы окончательно вступим в третью великую эпоху человеческой истории, в которой первая, или "предварительная", эпоха закончилась с уходом Сократа, а вторая, или "предположительная", продолжалась до сих пор [Ibid., p. 265]. Доступный нашему обозрению ход развития идей позволяет нам предсказывать и их дальнейшее движение [Ibid., р. 172]. Но поскольку "наибольшей моральной причиной, способной действовать на просвещенных людей", является "изменение самой важной, самой общей идеи" [Ibid., p. l6l], можно сделать даже больше, можно создать теорию истории, этакую всеобщую историю человечества, способную охватить не только прошлое и настоящее, но и будущее. Сокращенное изложение такого рода истории человеческого разума в прошлом, будущем и настоящем имеется в плане третьего очерка науки о человеке. Это "самая счастливая идея, когда-либо приходившая" ему в голову, и он "очарован этой концепцией" [Ibid., p. 287], но в тот момент он не стал развивать её дальше. План остался планом, наброском на будущее, как до 1814 г. случалось с большинством его идей и проектов; а сам "Очерк" -- это все та же неудобочитаемая мешанина, полная неуместных деталей и нелепого тщеславия. Зачатки плодотворных идей здесь может разглядеть лишь тот, кому известна их дальнейшая судьба. Все круто изменила следующая работа Сен-Симона "Реорганизация европейского общества" [De la reorganisation de la societe europeenne ou de la necessite et des moyens de rasseinbler les peuples de l'Europe en un seul corps politique en conservant a chacun son independance nationale, par H. C. Saint-Simon et A. Thierry, son eleve, ("О средствах объединения народов Европы в единое политическое тело при сохранении за каждым из них его национальной независимости". А. Сен-Симон и О. Тьерри, его ученик) -- OSSE, vol. 15, pp. 153--248; работа включена также в новое издание под редакцией А. Перейра (Paris, 1925).], опубликованная в 1814 г. Она оказалась первой в целой веренице подписанных его именем книг и памфлетов, которые отличались стройностью изложения, а иногда и хорошим языком. Действительно, после очередного периода крайней нищеты, во время которого ему пришлось пройти курс лечения в заведении, подозрительно смахивающем на сумасшедший дом, он сумел начать все сначала. Но трудно поверить, будто пятидесятипятилетний человек внезапно обрел дар ясного изложения, и поневоле склоняешься к мысли, что эти изменения вызваны тем, что как раз в это время Сен-Симону начали помогать его молодые сотрудники и что влияние этих молодых людей распространялось не только на манеру изложения. Первым из этих молодых помощников, чье имя как соавтора и ученика даже появилось на титульном листе "Реорганизации", стал девятнадцатилетний тогда Огюстен Тьерри, будущий историк, -- тот самый Тьерри, который позже станет главой новой школы, рассматривающей историю как историю масс и борьбы классовых интересов и оказавшей в этом существенное влияние на Карла Маркса. [О значении работ Тьерри, Минье и Гизо в этой связи см.: G. Plechanow. Ueher die Anfange der Lehre vom Klassenkampf. "Die neue Zeit", 1902, vol. 21. Ср. также: С. Seignobos. La methode historique, 2me ed. 1909, p. 261: "C'est lui [Saint-Simon] qui a fourni a Augustin Thierry ses idees fondamentales." ("Именно ему [Сен-Симону] Огюстен Тьерри обязан своими основными идеям.")] Первый памфлет, написанный им в соавторстве с Сен-Симоном, не представляет для нас большого интереса, хотя он и получил некоторую известность, поскольку в нем говорилось об Англо-французской федерации, которая после присоединения к ней Германии должна была превратиться в своего рода европейскую федерацию с единым парламентом. Падение Французской империи и Венский конгресс подтолкнули Сен-Симона к распространению его главной идеи о реорганизации общества на всю Европу; но то, как это осуществлялось, не так уж напоминало прежнего Сен-Симона, остались, разве что, отдельные взлеты фантазии, скажем, страза о "золотом веке, который у нас не позади, а впереди, и который станет реальностью благодаря совершенствованию общественного порядка", получившая широкую известность в связи с тем, что впоследствии сен-симонисты использовали ее в качестве эпиграфа к своим произведениям. [OSSE, vol. 15, p. 247. Впервые -- в форме "L'age d'or, qu'une aveugle tradition a place jusq'ici dans le passe, est devant nous" ("Золотой век, который слепое предание относило до сих пор к прошлому, находится впереди нас") -- эта фраза появляется в 1825 г. и служит эпиграфом к работе Сен-Симона "Рассуждения литературные, философские и промышленные", а позже выступает как девиз в его же журнале "Производитель" ("Producteur").] Сотрудничество Сен-Симона и Тьерри продолжалось около двух лет. Во время "Ста дней" они выступали сперва против Наполеона, потом -- против союзников. Великий Карно, всегда бывший поклонником Сен-Симона, а тогда временно вернувшийся к власти, добился для Сен-Симона должности младшего библиотекаря при Арсенале -- также на время. [См.: М. Leroy. Vie de Saint-Simon. pp. 262, 277; Hippolyte Carnot. Memoire sur le Saint-Simonism. "Seances et travaux de l'Academie des sciences morales et. politique", 47e annee. 1887, p. 128, где И. Карно рассказывает, что его отец так характеризовал Сен-Симона: "J'ai connu М. de Saint-Simon; c'est un singulier homme. II a tort se croire un savant, mais personne n'a des idees aussi neuves et aussi hardies" ("Я был знаком с г-ном де Сен-Симоном; это исключительная личность. Он не вправе считать себя ученым, однако ни у кого другого.) не приходилось мне встречать столь свежих и смелых идей"). Среди ученых только двое, кроме Лазаря Карно, еще хоть чем-то поддерживали Сен-Симона. Эти двое -- астроном Алле и, что характерно, Кювье.] После Ватерлоо Сен-Симон снова оказался в стесненных обстоятельствах, но ненадолго. Теперь у него были молодые друзья среди нового поколения банкиров и промышленников, чьи звезды начинали восходить; и отныне он был связан именно с ними. Преклонение перед наукой уступило место преклонению перед промышленностью; впрочем, это ведь была его давняя и, вероятно, не вполне забытая любовь. Так или иначе, он нашел новую силу, достойную вершить мирскую власть, сосуществуя с наукой, призванной распоряжаться властью духовной. Кроме того, он обнаружил, что восхвалять промышленность выгоднее, чем взывать к ученым или же льстить императору. Первым ему стал помогать Лафитт, управляющий "Банк де Франс". Он выхлопотал Сен-Симону солидную субсидию в размере 10000 франков в месяц -- для выпуска нового журнала, который получил название "Литературная и научная деятельность в союзе с деятельностью коммерческой и мануфактурной" ("L'Industrie litteraire et scientifique ligue avec l'industrie coininerciale et. manufacturiere", далее будет обозначаться как "Индустрия"). Вокруг нового редактора собралось несколько молодых людей, и он начал свою карьеру вождя школы. Первоначально группа состояла по большей части из художников, банкиров и промышленников, среди которых были и весьма известные и влиятельные люди. В числе сотрудников, готовивших первый номер "Индустрии", был даже экономист Сент-Обен; тот самый, впрочем, которого Ж.-Б. Сэй с издевкой описывал как "клоуна в политической экономии". Первый номер "Индустрии" был заполнен преимущественно дискуссионными материалами Обена и Тьерри, и речь в них шла о финансах и политике. Для второго номера, который вышел в 1817 г. под несколько измененным названием ["L'lndustrie ou discussions politiques, inorales et philosophiques dans l'interet de tous les homme livres a des travaux independants" ("Индустрия, или политические, моральные и философские рассуждения в интересах всех людей посвятивших себя самостоятельным трудам"). -- OSSE, vol. 18], Сен-Симон подготовил свои собственные соображения об отношениях между Францией и Америкой. Этот очерк в целом отражает дух либеральной группы, с которой Сен-Симон был тогда связан и для которой писал. [Для сравнения взглядов Сен-Симона того периода и взглядов его либеральных современников см.: E.Halevy. L'ere des tyrannies. 1938, p. 33--41.] "Единственной целью, к которой должны быть направлены все наши мысли и все наши усилия, является организация промышленности, понимаемой в самом широком смысле слова", а "организация, наиболее благоприятствующая промышленности" по-прежнему лучше всего достигается с помощью политической власти, которая не занимается ничем, кроме "устранения всех помех полезным работам" и устраивает все так, чтобы "трудящиеся, соединение которых и составляет истинное общество, могли непосредственно и с полной свободой обмениваться между собой продуктами своих различных работ" [OSSE, vol. 18, p. 165]. Однако его попытки обосновать всю политику экономическими соображениями, как он их понимал, то есть, фактически, технологическими соображениями, привели к тому, что его либеральные друзья начали очень быстро терять интерес к нему. Достаточно привести лишь две из тех "самых общих и наиболее важных истин", к которым он пришел. Первая: "производство полезных вещей -- единственная разумная и положительная цель, которую могут ставить себе политические общества и, следовательно, принцип уважения к производству и производителям бесконечно более плодотворен, чем принцип уважения к собственности и к собственникам". И седьмая: "так как все человечество имеет одну цель и общие интересы, то каждый человек должен в общественных отношениях считать себя членом общества работников". "Таким образом, резюмируя в двух словах, политика есть наука о производстве, то есть наука, ставящая себе целью установление порядка вещей наиболее благоприятного всем видам производства." [Ibid., pp. 186, 188, 189. Ср. также: Ibid., vol. 19, p. 126.] Мы вернулись к идеям "Женевского обитателя" - и одновременно подошли к концу того, что можно считать периодом независимого развития идей Сен-Симона. Начавшееся отступничество Сен-Симона от принципов либерализма вскоре обернулось для него потерей первого помощника. Говорят, что во время ссоры, положившей конец их отношениям, Сен-Симон воскликнул: "Я не могу представить себе сотрудничество, в котором отсутствует руководство!", на что Тьерри отгостил, что он "не может представить себе сотрудничество, в котором отсутствует свобода." [См.: a. Augustin Thierry. Augustin Thierry (1795--1856) d'apres sa correspondance et ses papiers de famille. Paris, 1922, p. 36.] Скорое бегство его либеральных ................. Впрочем, раньше, чем это случилось, новый помощник, человек огромной интеллектуальной мощи, начал толкать Сен-Симона вперед по пути, который тот мог лишь наметить, но не мог осилить. Летом 1817 г. секретарем Сен-Симона стал юный, но уже бывший студент Высшей политехнической школы Огюст Конт, первый и самый выдающийся из множества инженеров, впоследствии признававших Сен-Симона своим учителем. С этих пор, в течение восьми лет -- до самой смерти Сен-Симона -- история их интеллектуального поиска слита воедино. Как будет показано в следующем разделе, многое, что принято считать учением Сен-Симона и что благодаря сен-симонистам имело сильнейшее влияние еще до выхода в свет философских трудов Конта, на деле обязано своим появлением Огюсту Конту. 13. Социальная физика: Сен-Симон и Конт I. Пожалуй, самым удивительным в биографии Сен-Симона является тот факт, что перед концом своей жизни он производил громадное впечатление на молодых людей, при том что некоторые превосходили его по интеллекту. И, тем не менее, они годами исполняли при нем роль "негра", признавали его своим лидером и приводили брошенные им мысли в связный и упорядоченный вид. И, кроме того, его влияние определяло всю их интеллектуальную карьеру. Больше, чем к кому бы то ни было, это относится к Огюсту Конту -- что бы он ни говорил потом о "личном влиянии, которое бросало пагубную тень на мои первые усилия" или о "растленном фигляре", каковым стал ему впоследствии представляться Сен-Симон. [См.: a. Comte. Early Essays on Social Philosophy, trans. H. D. Hutton. London, New University Library, 1911, p. 23; Systeme de politique positive. 1851--1854, vol. 3, p. 16.] Попытки точно определить, что из написанного за семь лет сотрудничества принадлежит Сен-Симону, а что -- Конту, бесполезны -- в частности и потому, что, вероятнее всего, в беседе Сен-Симон расшевеливал и воодушевлял гораздо сильнее, чем это удавалось ему на бумаге. Поскольку выяснению подлинного соотношения мешает очень большая неразбериха, возникшая из-за того, что некоторые историки упорно приписывают Сен-Симону мысли, впервые высказанные в работах, вышедших под его именем, но на деле, как мы знаем, принадлежащих Конту, а другие твердят о полной самостоятельности мыслей Конта, нам придется проявлять определенную осторожность, хотя такого рода вопросы сами по себе, возможно, и не имеют особого значения. Огюсту Конту было 19 лет, когда в августе 1817 г. Сен-Симон предложил ему место секретаря. Прошло немногим более года, после того как молодого человека исключили из Высшей политехнической школы, несмотря на блестящую учебу и близость выпускных экзаменов, -- за подстрекательство к неповиновению. С тех пор он зарабатывал на жизнь преподаванием математики, дожидаясь приглашения на работу в Америку, которое так и не пришло, а также переводил с английского языка учебник геометрии. В это же время он с увлечением читал работы Лагранжа и Монжа, Монтескье и Кондорсе и, кроме того, начал проявлять некоторый интерес к политической экономии. Сен-Симону, горевшему желанием создать свою "науку о производстве", такая направленность интересов показалась подходящей, и он привлек Конта к работе над очередным выпуском "Индустрии". [См.: Н. Gouhier. La jeunesse d'Auguste Comte. 1933, vol. I, ch. 6. Поскольку к моменту написания настоящего очерка третий выпуск этой прекрасной работы еще не вышел, изложение биографии Конта после 1817 г. основано главным образом на краткой работе того же автора: Vie d'Auguste Comnte. Paris, 1931.] Как бы то ни было, за три месяца или около того (время, в течение которого он оставался платным секретарем Сен-Симона), новый ученик вполне мог бы написать все четыре тетради третьего и первую и единственную тетрадь четвертого выпуска этого издания [A. Pereire. Autour de Saint-Simon. Paris, 1912, p. 25]. В целом вклад Канта сводится просто к развитию доктрин его нового учителя, которые ученик несколько приближает к логическому завершению. Третий выпуск посвящен главным образом проблемам философии истории, постепенному переходу от политеизма к эре позитивизма, от абсолютной монархии через переходную стадию либерального парламентского строя к новой позитивной организации и, что самое важное, от старой "небесной" к новой земной и позитивной морали [Oeuvres de Saint-Simon et l'Enfantin. -- OSSE, 2nd ed., 1865--1878, vol. l9, pp. 37--38]. Только теперь мы можем наблюдать эти переходы, поскольку мы научились понимать законы, которым они подчиняются. [Ibid., p. 27: "La grand superiorite de l'epoque actuelle... consiste en ce qu'il nous est possible de savoir ce que nous faisons ... Ayant la conscience de notre etat, nous avons celle de ce qu'il nous convient a faire" ("Огромное превосходство нынешней эпохи... заключается в том, что мы имеем возможность понимать то, что мы делаем ... зная состояние, в котором мы находимся, мы знаем и что нам надлежит делать.")] Существование любых институтов любой эпохи находит свое относительное оправдание в том, что они выступают воплощением господствующей социальной философии [Ibid., p. 23]. И, предвосхищая одну из главных особенностей своей позднейшей философии, Конт подытоживает сказанное в этой ранней работе единственной сентенцией, которую впоследствии признает своей: "Нет ничего абсолютно благого или абсолютно дурного; все относительно, и только это есть абсолютная истина." ["L'Industrie", vol. 3, 2me cahier: "II ne s'agit plus de disserter a perte de vue pour savoir quel est le ineilleur des gouvernements: il n'y a rien de bon, il n'y a rien de mauvais, absolument parlant. Tout est relatif, voila la seule chose absolue." ("He нужно больше бесконечных рассуждений о том, какое правление лучше всего: нет ничего абсолютно благого или абсолютно дурного; все относительно, и только это есть абсолютная истина.")] Не менее, чем восхваление "земной морали", сторонников Сен-Симона насторожила статья "Взгляд на собственность и законодательство", опубликованная в четвертом выпуске "Индустрии". В главном все еще выдержанная преимущественно в духе утилитаризма (вполне бентамовского толка [OSSE, vol. 19, p. 13], толкующая о меняющемся содержании прав собственности и о необходимости приспособления этих прав к требованиям времени [Ibid., p. 82--83, 89], она поражает и новым утверждением: что в то время, как парламентское правление есть всего лишь форма, сущностью является "конституция собственности" и что, следовательно, именно этот "институт служит основанием общественного здания" [Ibid., p. 83], -- то есть подразумевается, что, пересмотрев законы о собственности, можно изменить все социальное устройство. [Кстати, как подтверждение данной точки зрения Конт впервые выдвигает теорию, что существующая во Франции система прав собственности сохраняется еще со времен завоевания Галлии франками. Его утверждение (Ibid., р. 87), что потомки победителей до сих пор являются землевладельцами, тогда как потомки побежденных -- это нынешние крестьяне, представляет собой основополагающую идею расовых теорий истории, выдвинутых впоследствии Тьерри и его школой. Именно на это два года спустя ссылался Сен-Симон, отстаивая свой приоритет в споре с историком Гизо (см.: ibid., vol. 21, р. 192).] Едва завершилась работа над третьим выпуском "Индустрии", как большинство ее либеральных покровителей отошло от нее. Был опубликован протест против вторжения журнала в область, выходящую за рамки провозглашенной им программы, и против отстаивания им принципов, "разрушительных для всякого общественного устройства и несовместимых со свободой" [A. Pereire. Op. cit, р. 25--28]. Хотя в предисловии к четвертому выпуску Сен-Симон предпринял неуверенную попытку принести извинения и пообещал вернуться к первоначальному плану, первая тетрадь нового выпуска стала и последней. Средства истощились, и "Индустрия", а вместе с ней и должность Копта, прекратили свое существование. II. Конт, тем не менее, продолжал сотрудничать с Сен-Симоном во всевозможных журнальных начинаниях, которые тот предпринимал в течение нескольких следующих лет. Он был все так же предан своему учителю. Сен-Симон -- это "самый превосходный человек", которого он знает, "самый уважаемый и любимый из людей", которому он поклялся в вечной дружбе. [Lettres l'Auguste Comte a M. Valat. Paris, 1870, pp. 5l, 53. См. также: Ibid., pp. 36--37 (письмо от 17 апреля 1818 г.): "Je puis te dire que jamais je n'ai connude jeune homme aussi ardent ni aussi genereux que lui: s'est un etre origunal sous tous les rapports. J'ai appris, par cette liaison de travail et l'amitie avec un des hommes qui voient le plus loin en politique philosophique, j'ai appris une foule de ehoses que j'aurais en vain cherchees dans les livres, et mon esprit a fait plus de chemin depuis six mois que dure notre liaison qu'il n'en aurait fait en trois ans si j'avais ete seul. Ainsi cette besogne m'a forme le jugement sur les sciences politiques, et, par contre-coup, elle a agrandi mes idees sur toutes les autres sciences, de sorte que je me trouve avoir acquis plus de philosophie dans la tete, un coup d'oeil plis juste, plus eleve." ("Могу сказать, что среди сверстников я не знаю никого, кто был бы столь же пылок и великодушен, как он; это во всех отношениях исключительная личность. Благодаря совместной работе и дружбе с этим человеком, взгляду которого открыты невообразимые дали политической философии, я узнал множество вещей, которые бесполезно было бы искать в книгах, и мой ум за те шесть месяцев, что мы вместе, проделал путь, которого в одиночку мне и за три года было бы не одолеть. Таким образом, эта работа сформировала мои взгляды на политические науки и, заодно, углубила мои представления о других науках, и я чувствую, что в голове стало больше мудрости, взгляд стал более острым, более возвышенным"). Приводя эту цитату, M. Леруа (M. Leroy. La vie veritable de comte Henri de Saint-Simon. 1925, p. 293) после первой фразы добавляет: "Saint Simon est un accoucheur d'idees" ("Сен-Симон -- это акушер идей"). Хотя эта фраза вряд ли принадлежит Конту, мы использовали ее в качестве заголовка для второго очерка этой части.] Следующую издательскую попытку Сен-Симон и Конт предпринимают, сделавшись партнерами-пайщиками. И издание называется "Политика" [A. Pereire. Ор. cit., р. 60].14 Это просто один из либеральных журналов; в те годы они росли как грибы и так же быстро исчезали; и даже остро либеральная направленность журнала и выступления Конта по вопросам экономики и свободы печати поддерживали его жизнеспособность не более пяти месяцев. Но через три месяца после его кончины, в сентябре 1819 г., Сен-Симон, опять же при поддержке Конта, основал еще один, на этот раз более своеобразный, орган [Понятие "журнал" и подобные выражения, употребляемые в связи с деятельностью Сен-Симона, нельзя воспринимать слишком буквально. Все эти издания выходили нерегулярно, часто с нарушением нумерации, были разного формата и вида. К "Организатору" это относится даже больше, чем к другим его издательским начинаниям.], само название которого -- "Организатор" -- было программным. В "Организаторе" опубликованы, пожалуй, самые примечательные произведения Сен-Симона. Безусловно, это было первое из его изданий, привлекшее к себе широкое внимание как во Франции, так и за ее пределами, и принесшее Сен-Симону славу социального реформатора. Вероятно, это произошло главным образом из-за судебных преследований, вызванных публикацией знаменитой "Притчи", открывшей новое издание. В ней Сен-Симон для начала рисует картину того, что было бы с Францией, если бы она лишилась вдруг пятидесяти ведущих в каждой области знания ученых, пятидесяти ведущих инженеров, художников, поэтов, промышленников, банкиров и разного рода ремесленников. Это разрушило бы весь ее уклад и всю культуру. Затем он противопоставляет этому картину похожего несчастья, но уже с исчезновением соответствующего числа аристократов, государственных чиновников, придворных и представителей высшего духовенства, и показывает, как мало это значило бы для процветания Франции [OSSE, vol. 20, pp. 17--26]. Но, хотя "Притча" -- самая известная публикация "Организатора", это не означает, что она же -- самая интересная. Чтобы оправдать название журнала, Сен-Симон для начала помещает в нем серию писем с настоящим планом реорганизации общества, или, по меньшей мере, с планом реорганизации политической системы, в результате которой вся общественная деятельность была бы обеспечена необходимым ей научным руководством [Ibid., pp.50--58]. На сей раз, взяв за точку отсчета английскую парламентскую систему, лучшую из доселе изобретенных, он ломает голову над тем, как преобразовать эту систему в нечто, напоминающее его Совет Ньютона шестнадцатилетней давности. Руководство обществом должно быть передано в руки "индустриалов" [Ibid.], то есть всех, кто занят производительным трудом. Следует организовать их в три отдельные палаты. Первая, Палата изобретений [идея "палаты изобретений", вероятно, позаимствована из "Новой Атлантиды" Бэкона], составляется из 200 инженеров и 100 "художников" (поэтов, писателей, живописцев, скульпторов, архитекторов и музыкантов), и в ее задачи входит разработка планов общественных работ. Палата исследований, включающая по 100 биологов, физиков и математиков, должна изучать и одобрять эти планы. Палата исполнения, состоящая сплошь из богатейших и самых преуспевающих предпринимателей, будет следить за исполнением работ. Среди первоочередных задач нового парламента будет пересмотр законов о собственности, которые "должны основываться на наиболее благоприятных для производства принципах" [OSSE, vol. 20, р. 59]. Новая система воцарится не только потому, что ее преимущества будут признаны всеми, но, что гораздо важнее, и потому, что она есть неизбежный итог того курса, которым цивилизация продвигается в продолжение последних семисот лет [Ibid., р. 63]. Этим подтверждается то, что его план не утопия [Ibid., pp. 69--72], а результат научного подхода к истории, подлинной истории всей цивилизации, как понимал ее Кондорсе, и что, при таком подходе, мы можем следовать по предназначенному пути с открытыми глазами [Ibid., p. 74]. Далее Сен-Симон посвящает два письма (восьмое и девятое) "показ; того, как должна быть устроена промышленность" [Ibid., р. 67]. На самом деле, как мы теперь знаем, эти письма принадлежат Конту, который переиздал позднее под своим именем. [Он включил их в приложение к "Системе позитивной политики" ("Systeme de politique positive", 1854), а позднее выпустил отдельным изданием под названием "Записки по социальной философии, 1819--1828" (Opuscules de philosophie sociae. Paris, 1883). Английский перевод этой последней книги, сделанный Г. Д. Хаттоном со вступительной статьей Ф. Харрисона вышел в серии "New Universal Library" издательства Раутледж под названием: "Early Essays on Social Philosophy". В сносках на "OSSE" цифры, заключенные в скобки, относятся к страницам указанного издания на английском языке.] Главное в них -- это краткие пояснения указанию Сен-Симона на то, что становление новой системы является необходимым результатом закона общественного развития: "Прогресс общества никогда не регулировался системой, придуманной гением принятой массами. Это противоречило бы природе вещей и потому невозможно: все подчиняется закону развития человечества; люди -- всего лишь его орудия". Следовательно, "нам остается только сознательно подчиняться этому закону, являющемуся действительным божественны промыслом для нас, и следовать предначертанным курсом, и постигнув его, не слепо ему повинуясь. Истинное предназначение великой философской революции, происходящей в настоящее время, -- подвести нас к этому." [OSSE, vol. 20, pp. 118--119 (56--57)] Что до остального, то Конт выдвигает очень мало таких идей, которых нет в ранних работах Сен-Симона, зато излагает их кратко и убедительно, не что последний никогда не был способен. Теперь мы видим даже более настойчивое указание на необходимость замены прежней духовной власти "властью науки и позитивного знания" [Ibid., p. 85 (35)], то же самое описание последовательного восхождения науки к позитивной стадии, пока ее наконец-то, не достигают также и философия, мораль и политика которые, тем самым, делают возможным возникновение новой научно управляемой общественной системы [Ibid., pp. 137--139 (68--71)], и ту же самую нетерпимость к свободе мысли -- свободе, несовместимой с духовной властью [Ibid., p. 106 (49)]. Новым оказывается особенный упор на роль нового "класса, занимающего промежуточное положение между учеными, художниками и ремесленниками, а именно класса инженеров", символизирующего возникновение союза между духовной и светской властями, союза, "готовящего почву для совместного руководства обществом". [Ibid., p. 142 (72). О взглядах Конта на ту же проблему спустя несколько лет см. также: ibid., р. 272--274. Опасение, что реализация его предложения могла бы когда-нибудь привести к "деспотизму, основанному на науке", Конт называет "смехотворной и абсурдной химерой, которая может возникнуть лишь в мозгу, абсолютно чуждом позитивным идеям" (ibid.. р. 158 (82).] Под этим объединенным руководством все общество организуется для "наступления на природу", так же как сейчас организованы отдельные его части [Ibid., р. 161 (85)]. В этом объединенном предприятии больше не будет подчиненных, а будут соратники и партнеры [Ibid., p. 150 (77)], и здесь нас впервые подводят к мысли, что тогда больше не будет потребности в "правительстве", а будет нужна просто "администрации". [Ibid., pp. 144--145 (73): "Le peuple n'a pius besoin d'etre gouverne, c'est-a-dire cominande. II suffit, pour le maintien de l'ordre, que les affaires d'un interet commun soient administrees." "Народом не нужно больше править, иначе говоря, властвовать над ним. Для поддержания порядка достаточно осуществлять руководство делами, представляющими общий интерес."] Ко всему, написанному Контом, Сен-Симон добавил (в конце второго письма) всего лишь характерный призыв к ученым и, особенно, к художникам, которые, будучи истинными "инженерами человеческих душ", как назвал их впоследствии Сталин, должны использовать всю силу воображения, "чтобы оказывать достаточное воздействие на широкие массы, побуждая их неуклонно следовать в указанном направлении и вместе со своими естественными вождями принимать участие в великих делах". Здесь впервые угадываются признаки позднейшей сен-симонистской теории об общественной функции искусства. [Ibid., p. 193. См. также пассаж в более поздней работе Сен-Симона "Organisation sociale" (ibit., vol. 39, p. 136) и замечание Конта по тому же поводу в написанном им разделе "Катехезиса промышленников".] В своем дальнейшем описании новой организации общества Сен-Симон достигает ранее недоступных для него высот красноречия. "При новом политическом порядке организация общества будет иметь единственную и неизменную цель -- наилучшим образом использовать все знание, накопленное наукой, изящными искусствами и индустрией для удовлетворения человеческих потребностей" [OSSE, vol. 20, p. 194] и для преумножения самого знания. Он не вдается в подробности того "поразительного уровня процветания, которого общество может достичь благодаря такой организации". [Ibid.,pp. 194--195] Если до сих пор люди прилагали к природе только разрозненные усилия и даже противодействовали при этом друг другу, поскольку человечество разделено на неравные части, из которых меньшая всегда использовала всю свою власть, чтобы господствовать над остальными, то организованные люди не станут приказывать друг другу, а станут покорять природу совместными усилиями. Все, что требуется -- это заменить неясные цели, которым служит современная социальная система, точной и позитивной общественной целью: "В обществе, организующемся, чтобы продвигаться к позитивной цели, каковой является все возрастающее процветание, достигаемое с помощью науки, искусства и ремесел, важнейшее политическое полномочие, а именно -- выбор направления, в котором надлежит двигаться, перейдет от людей, ранее выполнявших общественные обязанности, к самому разумно устроенному обществу... цель и назначение подобной организации столь ясны и определенны, что она исключает всякий произвол людей и даже произвол законов, поскольку и тот, и другой существуют лишь в условиях неопределенности, являющейся их, так сказать, родной стихией. Деятельность государства, заключающаяся в приказах, будет сведена на нет или почти на нет. Все вопросы, которые нужно будет решать в такой политической системе, как то: Что следует предпринимать для увеличения общественного богатства и использовать при этом наличные знания из области науки, искусства и промышленности? Как добиться распространения таких знаний и их дальнейшего усовершенствования? И, наконец, как осуществить эти мероприятия с наименьшими затратами и в кратчайшие сроки? -- Все эти вопросы, как и те, что вытекают из них, вполне позитивны и разрешимы -- я утверждаю это. Решения должны быть результатом научных доказательств, ни в коей мере не зависящих от воли человека, а в их обсуждении должны принимать участие все, кто достаточно образованы для этого... Как все общественно-важные вопросы будут решаться с обязательным использованием самых последних научных достижений, так и все общественные функции будут возлагаться обязательно на самых компетентных и способных исполнять их, как и подобает для достижения главных общественных целей. И тогда мы увидим, что при таком порядке уничтожаются три главных недостатка существующей политической системы: произвол, некомпетентность и интриги." [Ibid., vol. 20, pp. 199--200.] Какое замечательное описание прекрасных иллюзий, со времен Сен-Симона обольщающих воспитанные наукой умы! И как при этом легко нам, сегодняшним, даже в такой первоначальной формулировке, увидеть заблуждение; идея основывается на распространении научных и инженерных методов далеко за подобающие им пределы. Сен-Симон вполне сознает, на что притязает; он знает, что его подход к проблеме организации общества "с точно таким же методом, каким решаются и другие проблемы", является новым [Ibid., pp. 218, 226]. И как великолепно преуспел он в своем намерении "придать XIX веку организаторский характер"! [Ibid., p. 220.] Однако поначалу эти призывы тоже оставались безответными. Он надеялся, что новое движение возглавит король из вернувшейся династии Бурбонов и что таким образом удастся не только отразить все опасности, угрожавшие королевскому дому, но и поставить Францию в авангарде цивилизации. Рядом с той славой, которую благодаря проведению социальных реформ может обрести дом Бурбонов, померкнет даже известность Бонапарта [Ibid., pp. 236--237]. Но единственным, чего добился Сен-Симон, оказался судебный иск, поданный на него как на морального соучастника в убийстве герцога Беррийского [Ibid., pp. 240--242], поскольку в своей "Притче" он подстрекал народ покончить с дворянством. И хотя в конце концов он был оправдан, и процесс только привлек интерес к издателю "Организатора", журнал не пережил этого кризиса. Средства Сен-Симона вновь истощились, и, после того как новая попытка подписать на журнал "Организатор" всех, чувствующих себя призванными развивать философию XIX в. и готовых стать fondateurs de la politique positive <fondateurs de la politiwue positive (фр.) -- основатели позитивной политики>, провалилась, этому предприятию также пришел конец. III. Следующие две крупные публикации Сен-Симона, хоть и считаются самыми основательными из его работ, тем не менее представляют собой скорее детальную разработку идей, намеченных в "Организаторе". Однако по ним можно проследить, как он все больше и больше склоняется к тому авторитарному социализму, которому предстояло обрести четкую форму лишь после его смерти в трудах его учеников. В работе "О промышленной системе" ("Sisteme industriel", 1821) [Ibid., vos. 21, 22], отличающейся большей систематичностью, чем все, что доселе выходило из-под его пера, главной темой его разъяснений становятся "меры, могущие раз и навсегда положить конец революции". Он больше не пытается скрыть свою неприязнь к принципам свободы и ко всем их защитникам, стоящим на пути к осуществлению его планов. "Пустая метафизическая идея свободы... стеснила бы влияние массы на индивидуума" [Ibid., vol. 21, p. 16. Все эти стразы выглядят настолько контовскими, что вряд ли можно сомневаться в его авторстве] и "противоречит развитию цивилизации и созданию хорошею упорядоченной системы" ["Systeme industriel" (первое издание), pp. xiii--xiv]. Теория прав человека [0SSE, vol. 21, p. 83; vol. 22, p. 179] и критические труды легистов и метафизиков достаточно хорошо послужили делу разрушения феодальной и теологической системы и расчистки места для системы индустриальной и научной. Сен-Симон, в отличие от большинства последовавших за ним социалистов, очень ясно понимает, что организация общества во имя единой цели [Ibid., vol. 21, p. 14; vol. 22, p. 184], являющаяся фундаментом для любой социалистической системы, несовместима с личной свободой и нуждается в существовании духовной власти, способной "выбирать направление для применения сил нации" ["Des Bourbons et des Stuarts" (1825), in: "Oeuvres Choisies", vol. 2, p. 447]. Существующая "конституционная, то есть представительная, или парламентская, система" межеумочна: допуская конкуренцию различных целей, она безо всякой пользы продлевает жизнь антинаучным и антииндустриальным тенденциям. [OSSE, vol. 22, p. 248. См. также: Ibid., p. 258; vol. 21, pp. 14, 80; vol. 37, p. 179, где отвращение, вызываемое отсутствием порядка в Англии, выражается в характерной фразе: "Cent volumes in-folio, du caractere le plus fin, ne suffiraient pas pour rendre compte de toutes les inconsequences organiques qui existent en Angleterre." ("Мало было бы ста томов ин-фолио, напечатанных самым мелким шрифтом, чтобы представить все органические противоречия, существующие в Англии.").] Духовная власть, как и прежде, считается осуществимой при наличии философии, изучающей поступательный ход цивилизации [OSSE, vol. 22, р. 188], и остается делом ученых-позитивистов [Ibid., p. 148]; могущих, благодаря пониманию связей между рядами общих исторических фактов [Ibid., vol. 21, p. 20], научно обосновать политику. Однако теперь гораздо больше места отводится организации светской власти, являющейся делом промышленников -- тема, получающая дальнейшее развитие в "Катехизисе промышленников", 1823 [Ibid., vos. 37--39]. Самый хороший способ обеспечить широким массам максимальный уровень занятости и наилучшие жизненные условия -- это доверить все дела, связанные с национальным бюджетом, а, следовательно, и с руководством страной, предпринимателям [Ibid., vol. 22, р. 83; vol. 21, pp. 131--132]. Сама природа их многообразных занятий заставляет индустриалов формировать естественную иерархию, и они не могут не организоваться в одну большую корпорацию, дающую им возможность согласовывать действия ради своих политических интересов. В этой иерархии банкирам, которым по роду их занятий известны связи между различными производствами, проще, чем кому бы то ни было, координировать усилия в различных отраслях производства, и централизованное руководство действиями всех индустриалов призваны осуществлять крупнейшие банки Парижа, занимающие центральное положение [Ibid., vol. 21, p. 47]. Предпринимателям как естественным лидерам предстоит руководить всеми производительными работниками, но надо, чтобы при этом они использовали свою власть в интересах самого бедного и самого многочисленного класса [Ibid., p. 161], существование пролетариев должно обеспечиваться предоставлением работы трудоспособным и помощи инвалидам [Ibid., p. 107]. Во Франции, которая превратится в одну грандиозную фабрику, появится новый вид свободы. Впоследствии благодаря Фридриху Энгельсу получит широкую известность такая обещающая формулировка: при новой четкой организации, являющейся конечным уделом человечества [Ibid., vol. 22, p. 80, 185], государственная, или военная, организация общества будет заменена административной, или промышленной. [Ibid., vol. 37, p. 87; vol. 2, p. 151. По всей вероятности, это формулировка Конта, позже перенятая сен-симонистами см., в частности, Exposition, ed. Bougie and Halevy, p. 162), в публикациях которых она однажды встречается в следующей форме: "II s'agit pour lui (le travailleur) non seulement d'adminictrer des chores, mais de gouverner des hommes, oeuvre defficile, immense, oeuvre saint." ("Для него (трудящегося) речь идет не только о необходимости распоряжаться вещами, но и о руководстве людьми -- трудная, огромная священная работа." ("Globe", April 4, 1831) Энгельс в "Анти-Дюринге" ("Herr Eugen Duhring's Umwalzung der Wissenschaft", 3dd ed., 1894, p. 302) говорит об этом следующими словами: "An die Stelle der Regierung uber Personen tritt die Verwaltung von Sachen. Der Staat wird nicht "abgeschafft", er stirbt ab." ("На место управления лицами становится управление вещами и руководство производственными процессами. Государство не "отменяется", оно отмирает." -- Маркс К., Энгельс Ф. Собр. соч., т. 20, с. 292.] Такой реорганизации мешают представители двух прошедших эпох: дворянство и духовенство, легисты и метафизики, военные и собственники. Совершив революцию и покончив с исключительной привилегией на пользование национальным достоянием, принадлежавшей дворянству, буржуазия слилась с ним в один класс, и теперь осталось только два класса [OSSE, vol. 37, p. 8]. Индустриалы, то есть все, кто работают, не успели принять настоящего участия в политической борьбе за это право пользования, развернувшейся в ходе революции. "Производителям безразлично, тот или другой
класс их грабит. Ясно, что в конце концов эта
борьба превратится в борьбу между всеми
паразитами, с одной стороны, и всеми
производителями, с другой, и что она будет
продолжаться до тех пор, пока не решится,
останутся ли последние жертвами первых или же
они возьмут на себя верховное руководство
обществом, в котором они уже сегодня составляют
самую многочисленную часть. При огромном
превосходстве сил производителей над силами
праздных, этот вопрос должен разрешится
немедленно после того, как будет поставлен прямо
и открыто. IV. В "Катехизисе промышленников", расширяющем и углубляющем эти доктрины, перу Конта принадлежит внушительная по объему третья часть, носящая название "План научных мероприятий по реорганизации общества" [под этим, первоначальным, названием, много позже опубликована в сборнике: Early Essays on Social Philosophy, pp. 88--217], которая два года спустя после первой публикации (1824) вышла отдельной книгой под еще более амбициозным названием "Система позитивной политики" -- "название, хоть и преждевременное, но правильно передающее размах задуманного, как скажет Конт тридцатью годами позже [Ibid., авторское введение, р. 24]. Это, безусловно, самый значительный трактат во всей литературе того направления, которое мы здесь рассматриваем. В этом раннем варианте "позитивная система" есть немногим более, чем блестящий пересказ доктрины Сен-Симона. [Вопрос о том, в какой мере эта "сен-симонистская" доктрина несет на себе печать ранних работ Конта, оставляем открытым.] Конт высказывает здесь еще большее отвращение к догмату о свободе совести, который является очень большим препятствием на пути к реорганизации [Ibid., pp. 96, 98]. Как нет и не может быть никакой свободы совести в астрономии, физике, химии и физиологии [Ibid., p. 97. Конечно, в наши дни это уже превратилось в ортодоксальную марксистскую доктрину; см.: В. И. Ленин "Что делать?": "Люди, действительно убежденные в том, что они двинули вперед науку, требовали бы не свободы новых воззрений наряду с старыми, а замены последних первыми" -- В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 6, с. 9], так и в политике это переходное понятие исчезнет, как только она перейдет в ранг точных наук и истинная доктрина окончательно утвердится [Early Essays, рр. 107, 130, 136]. Эта новая наука -- "социальная физика", или, что то же самое, учение о коллективном развитии человеческой расы, на самом деле есть отрасль физиологии, или учения о человеке, представленного во всей его полноте. Другими словами, история цивилизации есть не что иное, как необходимый результат и дополнение к естественной истории человека [Ibid., pp. 200--201]. Таким образом, политика стоит на грани превращения в позитивную науку в соответствии с законом трех стадий, который теперь, в окончательной форме, звучит так: "Всякая отрасль наших познаний неизбежно должна в своем движении пройти через три различные теоретические состояния: состояние теологическое, или фиктивное; состояние метафизическое, или абстрактное; наконец, состояние научное, или позитивное" -- окончательное состояние всякого знания [Ibid., pp. 131--132]. Предметом социальной физики является обнаружение естественных и непреложных законов прогресса цивилизации -- таких же необходимых, как закон всемирного тяготения [Ibid., pp. 147--149, 157]. Под цивилизацией Конт понимает "развитие человеческого разума и как результат -- возрастающую власть человека над природой", то есть выработку человеком таких способов воздействия на природу, при помощи которых он преобразует ее в своих интересах [Ibid., pp. 144, 133]. Цивилизация, понимаемая как состояние науки, изящных искусств и промышленности, -- это именно то, от чего зависит и с чем сверяется курс социальной организации [Ibid., pp. 144, 149], Социальная физика, которая, как и все науки, имеет целью предсказание, позволяет нам, используя знания о прошлом, определять ту общественную систему, к реализации которой подводит прогресс цивилизации в наши дни [Ibid., p. 180--191]. Превосходство позитивной политики состоит собственно в том, что она открывает все, что с неизбежностью вытекает из естественных законов, тогда как другие системы изобретают. [Ibid., p. 165. Сравните использование тех же понятий Энгельсом при изложении материалистического понимания истории в книге "Анти-Дюринг", где он, говорят о средствах устранения существующего зла, замечает: "Надо не изобретать эти средства из головы, а открывать их при помощи головы в наличных материальных фактах производства." -- Маркс К., Энгельс Ф. Собр. соч., т. 20, с. 278.] Нам остается только помочь позитивной системе, вырабатываемой всем ходом цивилизации, появиться на свет; и мы определенно обеспечиваем лучшую из ныне достижимых систем, коль скоро открываем то, что более всего гармонирует с современным состоянием цивилизации [Ibid., pp. 154, l65, 167, 170]. Нельзя не заметить, до какой степени взгляд Конта на философию истории, который принято считать противоположным "материалистическому пониманию истории", приближается к нему -- особенно если вспомнить, какой смысл он вкладывает в слово "цивилизация". Фактически, предвосхищение материалистического понимания истории в сочинениях Сен-Симона -- а мы считаем их главным источником этой доктрины -- напрямую связано с рассматриваемой и несколькими другими ранними работами Конта. [Хотя роль сен-симонизма в возникновении материалистического понимания истории отмечали многие авторы (см., например: F. Muckle. Henri de Saint-Simon. Jena, 1908; W. Sulzbach. Die Anfange der materialistichen Geschichtsauffassung, Karlsruhe, 1911), они, по-видимому, проглядели тот факт, что самые решительные высказывания на этот счет почти всегда обнаруживаются в тех работах, о которых известно, что они написаны Контом.] Хотя вскоре после публикации "Катехизиса промышленников" Конт окончательно порывает с Сен-Симоном, начавшим превращать свою доктрину в религию, в следующих двух работах, опубликованных через короткое время после смерти Сен-Симона в сен-симонистском "Производителе" ["Producteur", vol. 1, 1825, pp. 289, 596; vol. 2, 1825, pp. 314, 348; vol. 3, 1826, p. 450. Эти очерки из сборника "Ранние очерки" ("Early Essays"), включенные Контом в приложение к "Системе позитивной политики", можно найти в английском издании (pp. 217--275, 276--332) под названиями "Философские размышления о науках и людях науки" ("Philosophical Considerations of the Sciences and Men of Science") и "Размышления о духовной власти" ("Considerations on the Spiritual Power.")], Конт все еще придерживается общего для них обоих направления мысли. Первая из этих работ интересна главным образом тем, что в ней дается более тщательный анализ продвижения к позитивному методу. Он показывает, что "поначалу человек неизбежно относится ко всем привлекшим его внимание телам так, будто они являются одушевленными существами вроде него самого" [Early Essays, p. 229], и интересно, что Конт, который лишь несколько лет спустя будет отрицать возможность какой бы то ни было интроспекции [в рецензии на книгу: F. J. V. Broussais. De l'irritation et de la folie. 1828, опубликованной в том же году и также включенной в "Early Essays"; см.: ibid., p. 339], здесь все еще объясняет это тем, что "личное воздействие, оказываемое человеком на другие существа, есть единственный вид взаимодействия, modus operandi <modus operandi (лат.) -- здесь: механизм>, которого понимается просто путем его осознания." [lbid., p.219.] Но он уже становится на путь отрицания законности тех научных дисциплин, которые основываются именно на такого рода знании. Теперь он наступает не просто на "возмутительную чудовищность" -- антиобщественную догму свободы совести [Ibid., pp. 281, 295] и вообще на анархию неуправляемого индивидуализма [Ibid., p.250], но, уже более избирательно, на учение политической экономии [Ibid., pp. 306, 320--324]. Объяснить, как мог возникнуть этот "странный феномен" -- идея, будто общество не должно быть сознательно организовано, можно только историческими обстоятельствами [Ibid., p. 282]. Поскольку "все, что спонтанно образуется в течение определенного периода, закономерно для него" [Ibid., p. 281; от читателя не ускользнет любопытное сходство этого утверждения с известными мыслями Гегеля, к которым мы обратимся позже], то и существование в прошлом критической доктрины было относительно оправданно. Однако совершенный общественный порядок может быть установлен лишь, если мы научимся "каждому индивидууму или нации вменять в обязанность тот самый род деятельности, для которого они созданы" [Ibid., р. 307]. Но это предполагает наличие духовной власти, морального кодекса, который, опять же, представляется Конту не иначе как преднамеренно сконструированным [Ibid., pp. 319--320: "Каждое учение предполагает основоположника."]. Отсюда следует, что необходимый моральный порядок может быть создан только правительством мнений, устанавливающим "целую систему идей и привычек, необходимых для встраивания индивидуумов в общественный порядок, в условиях которого они должны жить" [Ibid., р. 301]. Эти идеи, в конце концов так возмутившие Дж. С. Милля, что после двадцати лет пребывания под весьма сильным влиянием Конта, он написал о них как о "самой совершенной системе духовного и светского деспотизма из всех, когда-либо произведенных человеческим мозгом, за исключением, может быть, той, которую придумал Игнатий Лойола" [J. S. Mill. Autobiography. 1873, p. 213], изначально присутствовали у Конта. Они являются обязательным следствием всей системы мышления, воспринятой от Конта не только Дж. С. Миллем, но и всем миром. V. Немного можно добавить к рассказу о последнем периоде жизни Сен-Симона. Когда печатался "Катехизис промышленников", еще один финансовый кризис, расстроивший его дела и грозивший ему голодом, привел к тому, что в начале 1823 г., будучи старым и теперь действительно сломленным человеком, он попытался пустить себе пулю в лоб. Он выжил; правда, из-за нанесенной себе раны потерял один глаз; а вскоре подоспела помощь от нового, восторженного и на сей раз богатого, ученика. Молодой банкир и бывший преподаватель Высшей политехнической школы Олинд Родриг не только обеспечивал Сен-Симона всем необходимым на протяжении двух последних лет его жизни, но также сделался центральной фигурой в небольшой группе учеников, которая после смерти Сен-Симона превратилась в школу сен-симонистов. Вскоре к нему присоединились поэт Леон Галеви, физиолог д-р Байи, адвокат Дювейрье и другие. Вместе с ними Сен-Симон подготовил "Рассуждения литературные, философские и промышленные" ("Opinions litteraires, philosophiques et industrielles", 1825), где каждый: банкир, поэт, физиолог -- развивал ту часть доктрины учителя, которая относилась к его профессиональной области. Немного позже в том же году вышла последняя работа Сен-Симона, ознаменовавшая заключительный этап его творческого пути, -- "Новое христианство". Уже за некоторое время до этого обнаружилась
все возрастающая тенденция Сен-Симона к отходу
от узко "научного" характера своей доктрины
и к приданию ей более мистической и религиозной
формы. Это как раз и было причиной окончательного
отчуждения между ним и Контом, с которым, впрочем,
к концу карьеры произошла такая же перемена. В
случае с Сен-Симоном подобный поворот событий до
некоторой степени означал возврат к
первоначальным идеям. После появления "Нового христианства"
Сен-Симон прожил всего несколько недель. Он умер
в мае 1825 г. в возрасте 65 лет, окруженный новыми
учениками, дождавшись своей смерти за
умиротворенным обсуждением с ними планов на
будущее. Жизнь, сделавшаяся примером следования
заповедям, которые он оставил всем будущим
социологам: "пройти через все классы общества,
испытать самого себя в каких только можно
общественных положениях и даже создать для себя
и других отношения, никогда прежде не
существовавшие" [Ibid., vol. 15, p. 82], --
завершилась в мире, в сносных условиях и даже в
почете. 14. Религия инженеров: Анфантен и сен-симонисты I. Не прошло и месяца со смерти Сен-Симона, как его друзья и последователи создали ассоциацию с целью реализовать проект еще одного журнала, который Сен-Симон успел обсудить с ними. Редколлегию журнала "Производитель" ("Producteur"), издававшегося в 1825--1826 гг. (вышло 6 номеров), возглавил Олинд Родриг. Ассоциация сотрудничала с Огюстом Контом и некоторыми другими, формально в ней не состоявшими. Вскоре другой молодой инженер, видевший Сен-Симона всего один раз, когда Родриг представлял его, стал выдающимся членом группы и редактором ее журнала. Бартелеми-Проспер Анфантен был сыном банкира. Он поступил в Высшую политехническую школу, но оставил ее в 1814 г., двумя годами раньше, чем Конт и, так же, как он, не закончив курса обучения. После этого он занялся делом, провел несколько лет, путешествуя и работая в Германии и России, начал изучать политическую экономию, в особенности труды Иеремии Бентама. Хотя его инженерное образование осталось незаконченным или, возможно, как раз поэтому, вера в безграничные возможности математических и технических наук навсегда осталась одной из самых характерных черт его интеллектуального облика. Однажды он высказался об этом так: "Когда я встречаю слова "вероятность", "логарифм", "асимптота", я бываю счастлив опять оказаться на пути, ведущему меня к формулам и формам." [Цитату приводит Ж. Пине (G. Pinet. Ecrivains et penseurs polyachnicians. 2nd ed. Paris, 1898, p. 180), который ссылается на: Livre nouveau, Resume des conferences faites a Menilmnontant.] Будучи необычайно красивым, по мнению современников, человеком, он, по-видимому, обладал также огромным личным обаянием, благодаря которому ему удалось постепенно направить все движение сен-симонистов в сторону своих сентиментальных и мистических устремлений. Но он был наделен и мощным интеллектом, что позволило ему значительно обогатить сен-симонизм, прежде чем это учение перешло от философской стадии к религиозной. [Об Анфантене и сен-симонистах вообще см.: S. Charlety. Histoire du Saint-Simonisme. Paris, 1896 (повторное издание вышло в 1931 г.) -- книга, которая до сих пор является лучшей работой о сен-симонизме. Как ни удивительно, о самом Анфантене до сих пор не написано ни одной монографии. Работа: S. Charlety. Entantin. Paris, 1930 -- это просто сборник статей с кратким предисловием.] Существует утверждение, что сен-симонизм родился после смерти Сен-Симона, и в этом есть доля правды [S. Charlety. Enfantin, р. 21]. При всей россыпи намеков и указаний, содержащихся в писаниях Сен-Симона, он так и не пришел к связной и последовательной системе. Вполне вероятно и то, что одной из самых важных причин, побудивших его последователей развивать его учение, была изрядная невразумительность его писаний. Этим же объясняется, почему так нечасто получал должную оценку тот факт, что усилия Сен-Симона и его учеников объединялись. Для тех, кто признавали его значение, естественным было слишком многое приписывать самому Сен-Симону. Другие, кого интерес к этим работам побудил изучать произведения самого Сен-Симона, отворачивались от них в разочаровании. Хотя почти все идеи школы можно отыскать в работах, вышедших под именем Сен-Симона [См.: H. Grossmann. The Evolutionist Revolt afainst Classical Economics. -- "Journal of Political Econom", 1943, October. Автор утверждает, что я переоцениваю оригинальность сен-симонистов в ущерб самому Сен-Симону. Я вполне готов согласиться с тем, что почти все элементы их философской системы можно обнаружить в работах, вышедших при жизни Сен-Симона под его именем (хотя на самом деле они были частично написаны Коптом, а возможно, и другими); но там эти элементы так перемешаны с другими -- во многом противоречащими им -- идеями, что я склонен значительно выше, чем д-р Гроссманн, оценивать работу его учеников, которым удалось на основании этих разрозненных идей создать некое подобие стройной системы.], реальной силой, которая решительно повлияла на европейскую мысль, был сен-симонизм, а не сам Сен-Симон. И не следует забывать, что в ранние годы сен-симонистов самым значительным из них и к тому же посредником, через которого многие воспринимали доктрину учителя ["Le travail de M. A. Comte... a servi a plusieurs entre nous d'introduction a la doctrine de Saint-Simon" ("Труды г-на О. Конта... для многих из нас были введением в учение Сен-Симона") -- Doctrine de Saint-Simon, Exposition, Premiere Annee. Ed. Bougie and E. Halevy. Paris, 1924, p. 443. В своем письме к Г. Д'Эйшталю от 11 декабря 1829 г. Конт претендует даже на большую роль в становлении взглядов сен-симонистов: "Vous savez fort bien que je les ai vus naitre, si je ne les ai formes (ce dont je serais du reste fort loin de me glorifier)...; les pretedues pensees de ces messierurs ne sont autre chose qu'une derivation ou plutot une mauvaise transformation de conceptions quo j'ai prsentees et qu'ils ont gatees en у mattant les conceptions heterogenes dues a ... Saint-Simon.") ("Вы прекрасно знаете, что я был свидетелем их рождения, если не сказать, что я их и воспитал (гордиться здесь, впрочем, совершенно нечем)...; так называемые мысли этих господ есть не что иное, как отголоски или скорее даже плохое переложение выдвинутых мною концепций, которые они испортили, примешав к ним чужеродные идеи, идущие от... Сен-Симона.") -- E. Littre. Auguste Comte et la philosophie positive. Paris, 1863, pp. 173--174.], был Огюст Конт, который, как мы знаем, продолжал публиковаться в "Производителе", хотя не был больше членом группы, а скоро и вовсе порвал с нею. II. Издатели нового журнала имели четко выраженную цель: "совершенствовать и распространять принципы философии человеческой природы, основанные на осознании того, что уделом нашей расы является эксплуатация и изменение, к величайшей нашей выгоде, внешней природы," -- и верили, что лучше всего это достигается путем "непрерывного расширения ассоциации -- одного из самых мощных инструментов, имеющихся в распоряжении человечества" ["Procducnteur", 1825, vol. 1, Introduction]. Чтобы привлечь широкие круги читателей, программные статьи в журнале перемежались со статьями по проблемам техники или статистики, зачастую написанными авторами со стороны. Но основная часть публикаций писалась узким кругом последователей. При этом почти не подлежит сомнению, что даже в тот год, когда "Производитель" занимал центральное место в их деятельности, Анфантен уже принимал самое большое участие в деле совершенствования сен-симонистских доктрин, хотя какое-то время он был в одинаковом положении с другим новобранцем или даже в тени этой сильной личности. Сент-Аман Базар [о Базаре см.: W. Spuhler. Der Saint-Simonismus: Lehre und Leben von Saint-Amand Bazard ("Zurcher Volkswirtschaftliche Forschungen", hg. M. Saitzew, no. 7, Zurich. 1926)], участвовавший в движении французских карбонариев, опытный революционер, был ненамного старше Родрига и Анфантена, когда вошел в число сотрудников "Производителя", среди которых к тому времени уже было несколько бывших бабувистов и карбонариев. Но хотя и они, и, в особенности, Базар играли важную роль в радикализации взглядов сен-симонистов, вклад Базара в развитие доктрины, по-видимому, принято преувеличивать, и, скорее всего, степень его участия точно отражена в словах современника, который сказал, что "г-н Анфантен находил идеи, а г-н Базар формулировал их. [См.: Louis Reybaud. Etudes sur les reformateur contemporians ou socialistes modernes. Brussels, 1841, p. 61: "M. Enfantin trouvait la pensee, M. Bazard la formulait". Ср.: С. Gide and C. Rist. Histoire des do ctrines economiques. 4th ed., l922, p. 251.] Статьи Базара в "Производителе" не содержат почти ничего нового, если не считать нападок на свободу совести ["Producteur", vol. 1, p. 83; статьи Базара послужили непосредственным поводом для одного из самых проникновенных очерков Бенжамена Констана в защиту свободы], гораздо более свирепых, чем у Сен-Симона и даже у Конта. То же самое можно сказать и о большинстве других авторов, за исключением Анфантена и, разумеется, Конта. Впрочем, нельзя не отметить разработку Леоном Галеви сен-симонистского учения об общественной функции искусства. Он провидит приближение времен, когда "искусство волновать массы" достигнет такого совершенства, что у художника, музыканта и поэта "появится возможность доставлять удовольствие и приводить в волнение так же уверенно, как математик решает геометрическую задачу или химик исследует какое-либо вещество. Только тогда мораль прочно утвердится в обществе" [Ibid., p. 399 et seq; vol. 3, pp. 110, 526 et seq.]. В то время в подобных случаях еще не употреблялось слово "пропаганда", однако мастерство современных министерств пропаганды получило бы весьма высокую оценку сен-симонистов, тем более, что они даже предвидели появление подобных институтов. Очень большое значение имели экономические статьи Анфантена, опубликованные в "Производителе". По этим статьям можно проследить развитие почти всех новых элементов сен-симонистской социальной доктрины, получивших свою окончательную формулировку в знаменитом "Изложении", о котором мы поговорим чуть ниже. Общий интерес к проблемам организации промышленности, энтузиазм по поводу расширения числа акционерных компаний, доктрина об ассоциации в масштабах всего общества, усиливающиеся сомнения в полезности частной собственности и банковского процента, планы подчинения всей экономической деятельности руководству банков -- все эти идеи постепенно отрабатывались и обретали все более и более громкое звучание. Позволим себе привести два высказывания, особенно характерных для его подхода к этим проблемам. В первом высмеивается представление, будто "человеческое общество могло бы существовать без управляющего им интеллекта" [Ibid., vol. 3, p. 74]. В другом речь идет о понятиях, находившихся в ту пору в центре внимания политической экономии, а именно о "ценности, цене и производстве, которые не содержат никакой конструктивной идеи, пригодной для построения, или организации, общества", являясь "ничего не значащими мелочами" [Ibid., vol. 4, p. 86]. III. "Производитель", выходивший сперва еженедельно, а потом ежемесячно, перестал издаваться в октябре 1826 г. С этого момента начался перерыв в публичной деятельности группы, длившийся три года. Впрочем, к этому времени уже была выработана общая доктрина, которая могла служить основой для интенсивной устной пропаганды. Именно в это время они впервые добились большого успеха у студентов Высшей политехнической школы, которая была объектом приложения их особенных усилий. Позже Анфантен выразил это так: "Высшая политехническая школа должна стать каналом, через который наши идеи распространятся в обществе. То молоко, которое мы впитали в нашей любимой Школе, должно вскормить и грядущие поколения. Именно там мы научились позитивному языку и методам исследования и доказательства, которые сегодня служат залогом прогресса политических наук". [OSSE, vol. 14, р. 86. В июне 1832 г. в письме к Форнелю (цитируем по: G. Pinet. L'Ecole polytechnique et les Saint-Simoniens. "Revue de Paris". May 15, 1894, p. 85). Анфантен пишет о Высшей политехнической школе так: "la source precieuse ou notre famille nouvelle, germe de l'humanite future, a puise la vie. Or, le proletaire et le savant aiment et respectent cette glorieuse Ecole." ("драгоценный источник, наша новая семья, прообраз человеческого будущего... И пролетарий, и ученый любят и уважают эту славную Школу.")] Эти усилия оказались настолько успешными, что через несколько лет группа состояла из нескольких сотен инженеров; правда, в ней были и врачи -- считанное количество -- да несколько художников и банкиров. По большей части это были оставшиеся ученики самого Сен-Симона или же люди, связанные с ними родственными, либо дружескими отношениями, к примеру, братья Перейра - кузены Родрига или его друг Гюстав Д'Эйшталь. Среди первых инженеров, примкнувших к движению, были два друга -- Абель Трансон и Жюль Лешевалье [См.: С. Pellarin. Jules Lechevalier et abel Transon. Paris, 1877, где, впрочем, больше внимания уделяется той роли, которую эти двое позднее сыграли в движении фурьеристов. Лешевалье, после изучения немецкой философии во Франции, провел год в Берлине (1829--1830), посещая лекции Гегеля.], которые, используя свое знание немецкой философии, смогли придать сен-симонистским догмам некий гегельянский налет, что впоследствии весьма способствовало их успеху в Германии. Через короткое время последовал Мишель Шевалье, позже получивший известность как экономист, и Анри Фурнель, который, примкнув к движению, расстался с постом директора компании "Крезо". Позже он стал биографом Сен-Симона. Ипполит Карно, хоть он сам и не был учеником Высшей политехнической школы, проведя юность в изгнании со своим отцом, тоже должен быть причислен к этой группе, но не открываться только как сын Лазаря Карно, а скорее даже как брат выпускника - Высшей политехнической школы Сади Карно -- "основателя науки об энергии", "цикла Карно" -- цикла с идеальным кпд. Братья жили вместе именно в те годы, когда Сади занимался разработкой своих замечательных теорий, питая в то же время живой интерес к политическим и социальным дискуссиям своих друзей, в которых, впрочем, сам никогда не принимал активного участия. [См.: Sadi Carnot. Biographie et manuscrit, publies sous les auspices de l'Academie des sciences avec uvec preface de M. Emile Picard. Paris, 1927, pp.17--20. См. также: G. Mouret Sadi Catnot et la science de l'energie. Paris, 1892. Работа "Reflexions sur la puissance motrice de feu" вышла в 1824 г., однако достойную оценку получила гораздо позже.] Если уж не по образованию, то, по крайней мере, по семейным традициям и связям Ипполит Карно был инженером в не меньшей степени, чем другие. Одно время квартира братьев Карно была местом, где Анфантен и Базар вели занятия с юными энтузиастами, число которых все возрастало. [См.: H. Carnot. Sur le Saint-Simonisme. "Seances et travaux de l'Academie de sciences morales at politiques", 47e annee, n. s., 1887, vol. 28, p. 132.] Но к концу 1828 г. это помещение стало для них мало, и было решено поосновательнее оформить устный курс и с его помощью ознакомить со своими взглядами более обширную аудиторию. Возможно, это было подсказано успешным экспериментом Копта, начавшего в 1826 г. излагать свою "Позитивную философию" перед избранной аудиторией, в состав которой помимо таких ученых, как Александр фон Гумбольдт и Пуансо, входил также Карно, отправленный туда Анфантеном для получения первого знакомства с сен-симонистскими идеями [Ibid., p. 129]. Хотя начинание Конта вскоре было остановлено обнаружившимся у него психическим расстройством, которое не позволяло ему вернуться к работе в течение трех лет, оно привлекло к себе достаточное внимание, чтобы послужить примером для подражания. Курс лекций, составленный сен-симонистами в 1829 и 1830 гг. и дошедший до нас в виде двухтомного сборника "Учение Сен-Симона. Изложение" [Doctrine de Saint-Simon. Exposition, premiere annee, Paris, 1829; 1830. Deuxieme annee, 1829--1830. Paris, 1831. Замечательное издание с весьма ценным вступлением и содержательными примечаниями С. Бугле и Э. Алеви вышло в серии "Collection des economistes et reformateurs francais". Paris, 1924. Ниже мы будем ссылаться именно на это издание. 19 С. Бугле в предисловии к: Е. Halevy. L'Ere des Tyrannies. Paris, 1938, p. 9.], безусловно является самым важным документом из всего, сделанного Сен-Симоном или его учениками, и одной из величайших вех в истории социалистических идей и заслуживает гораздо большей известности, чем та, которой он пользуется за пределами Франции. Если это и не Библия социализма, как назвал его один французский ученый,19 то по крайней мере на роль Ветхого Завета оно может претендовать. А в некоторых отношениях это издание сделало для развития социалистической мысли даже больше, чем было сделано после его выхода в свет почти за сто лет. IV. Как и подобает труду, сыгравшему роль фундамента для коллективистских теорий, "Изложение" не является произведением одного человека. Хотя больше всего лекций, будучи самым одаренным оратором, прочитал Базар, их содержание было результатом дискуссий, происходивших в группе. Опубликованные тексты написаны фактически Ипполитом Карно по его собственным и чужим конспектам, сделанным на лекциях, и, по всей вероятности, именно ему "Изложение" обязано своей стройностью и убедительностью. Важным добавлением к "Изложению" стали пять лекций о религии сен-симонизма, прочитанные примерно в то же время студентам Высшей политехнической школы Абелем Трансоном. [{Abel Transon} De la religion Saint-Simonienne: Aux Eleves de l'Ecole polytechnique. Впервые эти лекции были опубликованы во втором выпуске "Организатора" ("Organisateur", July-September, 1829), позже выходили отдельными изданиями в Париже (1830) и Брюсселе (1831), а также были напечатаны в конце второго издания "Изложения" ("Exposition", deuxieme annee, 1829--1830). На немецком языке они впервые были опубликованы в Геттингене в 1832 г.] В некоторых публикациях "Изложения" тексты этих лекций составляют приложение. Трудно дать точное представление об этом самом полном отображении сен-симонистской мысли, не прибегая к скучным повторам, поскольку многое в нем, само собой, является, более или менее верным воспроизведением тех взглядов, о которых мы уже говорили. Но это вопреки утверждению авторов не просто единственная публикация, приводящая идеи Сен-Симона (а также, добавим, и молодого Конта в законченную систему; у Анфантена и его друзей они получают дальнейшее развитие и именно это будет занимать нас больше всего. Значительная часть первого более важного тома "Изложения" посвящена широкому философскому рассмотрению истории и закона "развития человечества", открывшегося "гению Сен-Симона" [Exposition, ed. Bougie and Halevy, p. 127], закона, который основан на рассмотрении человечества как "коллективного существа" [Ibid., pp. 131, 160], и показывает нам со всей определенностью исполнение судеб человеческих [Ibid., p. 89]. Из этого закона прежде всего следует, что на смену "критическому" состоянию общества приходит "органическое" его состояние. В органическом состоянии возникают "новые узы, дабы в порядке сочетать усилия, дабы направлять всю общественную деятельность к одной цели", тогда как общество, находящееся в критическом состоянии, представляет собой агломерацию разобщенных людей, ведущих друг против друга борьбу [Ibid., p. 27]. Повинуясь этому закону, человечество неизбежно придет к такому конечному состоянию, в котором антагонизм между людьми совсем исчезнет, а эксплуатация человека человеком сменится совместной и гармоничной деятельностью по освоению природы [Ibid., p. l62]. Но к этому предельному состоянию, когда "систематизация усилий" [Ibid., p. 206], "организация труда" [Ibid., pp. 89, 139], ради общей цели [Ibid., pp. 73, 124, 153] достигнет совершенства, продвигаются лишь поэтапно. По существу неуклонное ослабление антагонизма между людьми, в итоге приводящее к "всеобщей ассоциации" [Ibid., pp. 203, 206, 234, 253], подразумевает постепенное "уменьшение эксплуатации человека человеком" -- эта фраза становится лейтмотивом всего "Изложения" [Ibid., pp. 236, 350]. Если поступательное движение к всеобщей ассоциации проходит через стадии, когда сперва семья, затем город, нация, а потом и федерация наций обретают общее верование и церковь [Ibid., pp. 208--209], то уменьшение эксплуатации проявляется в изменении классовых отношений. От стадии, когда пленные становились жертвами каннибальской практики, через рабство и крепостное право к современным отношениям между пролетариями и собственниками, степень эксплуатации постоянно уменьшалась [Ibid., pp. 214--216, 238]. Но люди все еще разделяются на два класса: эксплуататоров и эксплуатируемых [Ibid., p. 225]. До сих пор еще существует класс неимущих пролетариев [Ibid., pp. 239, 307]. Красноречивый Абель Трансон, высказал это в своей лекции студентам Высшей политехнической школы с помощью пассажа, в котором лучше, чем где бы то ни было в тексте "Изложения", суммируется главное: "Крестьянин или ремесленник уже не прикреплен ни к хозяину, ни к земле, его не подвергают порке, как раба; по сравнению с крепостным ему принадлежит большая часть его труда, но, тем не менее, закон к нему жесток. Ему принадлежат не все плоды его труда. Ему приходится делить их с другими людьми, которые не приносят ему никакой пользы ни своими знаниями, ни своей властью. Короче говоря, у него нет ни хозяев, ни господ, а есть буржуа -- и вот, что такое буржуа. Как владелец земли и капитала, буржуа распоряжается ими по своему усмотрению и не отдает их в руки трудящихся иначе как при условии, что он получит долю от цены их труда, долю за счет которой живет и он, и его семья. Будь он прямым наследником завоевателей или выходцем из крестьян -- роли не играет; у того типа людей, который я только что описал, разница в происхождении стирается; только в первом случае титул собственности основан на ныне осуждаемом факте, на силе меча; во втором случае истоки более благородны, это развитие промышленности. Но с точки зрения будущего этот титул и в том, и в другом случае незаконен и бесполезен, поскольку он отдает на милость привилегированного класса всех тех, чьи отцы не оставили им никаких орудий производства." [De la religion Saint-Simonienne. Paris, 1830, pp. 48--49.] Причина, по которой все еще существует подобное положение дел, заключается в "устройстве собственности, в передаче богатства путем наследования в пределах семьи." [Exposition, ed. Bougie and Halevy, p. 243.] Но институт собственности "есть социальный факт, подверженный, как и все другие социальные факты, закону прогресса" [Ibid., p. 244]. Согласно "Изложению", для создания нового порядка "право наследования, ныне ограниченное пределами семьи, должно перейти к государству, превращенному в ассоциацию трудящихся. Привилегии происхождения, которым в столь многих отношениях уже нанесены такие сильные удары, должны совершенно исчезнуть." [Ibid., pp. 253--254.] Если, как мы утверждаем, человечество шествует к такому состоянию, при котором положение индивидуумов будет определяться сообразно их способностям и вознаграждение сообразно их делам, то ясно, что собственность в ее нынешнем виде должна быть упразднена, ибо давая известному классу людей возможность жить в полной праздности чужим трудом, она поддерживает эксплуатацию одной части населения -- наиболее полезной -- той, которая трудится и производит, в интересах другой, умеющей только разрушать" [Ibid., р. 255]. Сен-Симонисты объясняют, что с их точки зрения земельные владения и капиталы являются всего лишь "орудиями производства; землевладельцы и капиталисты ... являются хранителями этих орудий: их функция [французское слово "fonction", кроме всего прочего, означает "обязанность"], заключается в распределении последних между трудящимися." [Exposition, ed. Bougle and Halevy, p. 257.] Но они выполняют эту функцию совсем неэффективно. Сен-Симонисты штудировали работу Сисмонди "Новые принципы политической экономии" ("Nouveaux principes d'economie politique"), второе издание которой вышло в 1826 г., где автор впервые говорит о том, что опустошительные экономические кризисы вызываются "хаотической конкуренцией". Но если Сисмонди не может предложить подходящего средства против этого, а впоследствии, похоже, даже сожалеет о воздействии своего учения [В письме к Чаннингу (1831 г.) он признает: "Я показывал изъяны системы свободной конкуренции; я разрушил, но у меня нет сил восстанавливать" (J. C. L. Sismonde de Sismondi. Fragments de son journal et de sa correspondance. Geneve-Paris, 1857, p. 130). Подробнее о влиянии Сисмонди, которого мы не можем здесь в достаточной мере обсудить, см. в: J. B. de Salis. Sismondi. Paris, 1932.], то у сен-симонистов такое средство есть. Их описание недостатков конкуренции чуть ли не полностью заимствовано у Сисмонди: "При настоящем положении вещей, когда распределение <орудий производства> осуществляется капиталистами и землевладельцами, ни одна из этих функций не осуществляется и не может осуществляться иначе, как ощупью, после частых ошибок и разорительных опытов; даже -- в данном случае получаемый результат бывает несовершенным, кратковременным. Каждое отдельное лицо предоставлено своим личным познаниям; производство не руководствуется никаким общим взглядом; оно осуществляется без здравого смысла, без предвидения; в одном месте оно недостаточно, в другом чрезмерно." [Exposition, р. 258.] Таким образом, экономические кризисы происходят оттого, "что распределение орудий труда производится обособленными индивидами, не знающими ни нужд промышленности, ни людей и средств, пригодных для их удовлетворения." [Ibid., pp. 258--259.] Предложенное сен-симонистами решение было в то время совершенно новым и оригинальным. В новом мире, картину которого они разворачивают перед нашим взором, "выбор предприятий и судьбу трудящихся определяют уже не отдельные собственники, не капиталисты, по своим привычкам чуждые промышленному труду. Этими функциями, столь плохо выполняемыми в настоящее время, облечено общественное учреждение; оно является хранителем всех орудий производства; оно стоит во главе материальной эксплуатации; благодаря этому оно занимает позицию, с которой можно сразу обозревать все стороны промышленной мастерской. Посредством своих разветвлений оно вступает в контакт со всеми местностями, со всеми видами промышленности, со всеми работниками, следовательно, оно может составить себе точное представление об общих нуждах и о нуждах индивидуальных, перевести рабочие руки и орудия производства туда, где в них ощущается необходимость, -- словом, может направлять производство, приводить его в согласие с потреблением и предоставлять орудия производства наиболее достойным промышленникам, ибо оно постоянно старается распознавать их способности и по своему положению имеет наибольшую возможность развивать их ... В новом мире ... исчезает беспорядок, происходивший от недостатка общей согласованности и от слепого распределения агентов и орудий производства, а вместе с ним исчезают и бедствия, превратности судьбы, банкротства, от которых в настоящее время не может себя считать застрахованным ни один труженик. Словом, промышленность организована, все тесно связано с другим, все предусмотрено: разделение труда усовершенствовано, сочетание усилий становится с каждым днем все более мощным." [Ibid., р. 261.] "Общественное учреждение", которому предстоит выполнять все эти функции, не остается туманным и расплывчатым понятием, как будет у большинства позднейших социалистов. На эту роль предлагается банковская система, соответствующим образом реорганизованная, централизованная и возглавленная единственным "banque unitaire, directrice" (объединенным, руководящим банком), призванным служить органом планирования: "Теперь нетрудно будет составить себе общее представление о том социальном институте будущего, который будет управлять всеми отраслями промышленности в интересах всего общества и специально в интересах мирных промышленных работников. Мы предварительно обозначаем этот институт названием общей системы банков -- оговариваясь всячески против узкого истолкования, которое могли бы теперь придать этому слову. Эта система включает, во-первых, центральный банк, представляющий в материальной области правительство; банк этот является хранителем всех богатств, всего производственного фонда, всех орудий производства -- словом, того, что ныне составляет всю совокупность индивидуальной собственности." [Exposition, pp. 272-273. Заметим, что здесь, кажется, впервые появляется выражение "центральный банк".] Нет нужды углубляться в детали предлагаемой организации. [ Следующий отрывок из "Изложения" (Exposition, deuxieme annee. (Premiere Seance, Resume de l'exposition de la premiere annee. 1854, pp. 338--339) заслуживает, однако, того, чтобы привести его полностью: "Pour que cette association industrielle soit realisee et produise tous ses fruits, il faut qu'elle constitue une hierarchie, il taut qu'une vue generale preside a ses travaux et les harmonise ... il faut absolument que l'Etat soit en possession de tous les instruments de travail qui forment aujourd'hui le fonds de la propriete individuelle, et que les directeurs de la societe industrielle soietn charges de la distribution de ces instruments, fonction que remplissent aujourd'hui d'une maniere si aveugle et a si grands frais les proprietaires et capitalistes ... alors seulement on verra cesser la scandale de la concurrence illimitee, cette grande negation critique dans l'ordre industriel, et qui cosideree sous son respect le plus saillant, n'est autre chose qu'une guerre acharnee et meurtriere, sous une forme nouvelle, que continuent se faire entre eux les individus et les nations." ("Чтобы эта производственная ассоциация была реализована и могла приносить свои плоды, ей необходима иерархическая структура, необходимо, чтобы все работы в ней были подчинены общей цели и согласовывались, исходя из этой цели ... совершенно необходимо, чтобы Государство владело всеми орудиями труда, которые сегодня образуют частные производственные фонды, и чтобы распределение этих орудий -- функция, которую так бездарно и с такими огромными издержками выполняют сегодня землевладельцы и капиталисты, -- было поручено руководителям индустриального общества ... только в этом случае будет положен конец позору неограниченной конкуренции, этого великого критического отрицания промышленного порядка, конкуренции, которая в своих самых выпуклых чертах есть не что иное, как ожесточенная война не на жизнь, а на смерть, принявшая новую скорму, война, которую ведут между собой отдельные люди и целые нации.") Из начала отрывка ясно, что здесь они используют термин "ассоциация" именно в том смысле, в котором два года спустя они стали использовать слово "социализм".] Приведенных здесь главных положений вполне достаточно, чтобы показать, что, описывая организацию планового общества, сен-симонисты прошли гораздо дальше, чем все позднейшие социалисты вплоть до нынешних времен, а также -- как медленно поздние социалист приближались к их идеям. Вплоть до недавней дискуссии по проблеме экономических расчетов в социалистическом обществе к описанию его механизмов, сделанному сен-симонистами, ничего не добавлялось. И обзывать эту вполне реалистическую картину планового общества "утопической" было по меньшей мере не вполне оправданным. Характерно, что Маркс добавил к ней как раз ту часть английской классической политической экономии, которая шла вразрез с общим анализом конкуренции самих классиков, а именно -- "объективную", или трудовую, теорию ценности. Главными результатами слияния сен-симонистских и гегельянских идей, самым известным примером которого является, конечно, учение Маркса, мы займемся позже. [См. часть третью настоящей книги.] Но, если говорить по существу о сегодняшней общепринятой теории социализма, то она не содержит почти ничего, не продуманного в свое время сен-симонистами. Чтобы еще нагляднее показать, сколь глубоко влияние сен-симонистов на современную мысль, достаточно упомянуть о том, как широко используются всеми европейскими языками слова из их лексикона. "Индивидуализм" [Exposition, р. 377; впрочем, пример, неформального использования этого термина мы находим уже в письме Конта Валату, датированном 30 марта 1825 г. (Lettres a Valat, pp. 164--165)], "индустриализм" [Ibid., p. 275; слово "индустриализм" придумано самим Сен-Симоном для описания явления, противоположного "либерализму". См.: OSSE, vol. 37, pp. 178, 195], "позитивизм" [Exposition, pp. 183, 487], и "организация труда" [Ibid., pp. 98, 139] -- все эти выражения впервые встречаются в "Изложении". Понятие "классовая борьба" и, соответственно, противопоставление "буржуазии" и "пролетариата" в узко специальном смысле этих обозначений изобретены сен-симонистами. Само слово "социализм", хотя оно еще не появляется в "Изложении" (где в очень похожем смысле используется термин "ассоциация"), в современном своем значении впервые [Строго говоря, оба термина: "социалист" и "социализм" -- использовались в итальянском языке уже 1803 г. (G. Guiliani), но потом они были забыты. Совершенно независимое слово "социалист" появляется однажды в журнале Коуэнитов "Кооператив" ("Cooperative") в ноябре 1829 г., а "социализм" (правда, в другом смысле) -- в одном французском католическом журнале в ноябре 1831 г. Но только после появления в "Глобусе" оно было подхвачено и его стали широко употреблять, особенно Леру и Рейбо. См.: С. Grunberg. Der Ursprung der Worte "Sozialismus" und "Sozialist". -- "Archiv fur die Geschichte des Sozialismus und der Arbeiterbewegling", vol. 2, 1912, p. 378; см. также: Exposition, ed.Bougle and Halevy, p. 205, n.] появляется чуть позже в сен-симонистском "Глобусе". ["Globe", 1932, February 2. Мы впервые встречаем его в статье Н. Joncieres, и контекст, в котором оно встречается, столь многозначителен, что следует привести целиком фразу: "Nous ne voulons pas sacrifier la personalite aux socialisme, pas plus que ce dernier a la personalite." ("Мы не хотим приносить личность в жертву социализму, но и жертвовать социализмом ради личности отказываемся.")] V. С выходом "Изложения", а также ряда статей Анфантена [надо сказать, что некоторые статьи Анфантена в "Глобусе", вышедшие отдельным сборником под названием "Политэкономия и политика" (Economie politique et politique. Paris, 1832) все-таки заслуживают специального упоминания] и прочих в новых сен-симонистских журналах "Организатор" и "Глобус" (эти статьи нам рассматривать необязательно), развитие тех идей, которые интересуют нас, прекратилось, причем довольно-таки неожиданнее. Если мы бросим беглый взгляд на дальнейшую историю школы, а вернее, сен-симонистской церкви, в каковую она вскорости превратилась, то увидим, почему ее непосредственное влияние было не таким уж значительным, а точнее -- почему это влияние не было безусловно признанным. Причина -- в том, что под влиянием Анфантена доктрина превратилась в религию [Любопытное объяснение причин подобного превращения приводит Эдуард Ганс (Paris in Jahre, 1830. Ruckblicke auf Personen und Zustande. Berlin, 1836. p. 92): "Benjamin Constant erzahite mir, dass, als die St.-Simonisten ihn vor etwa einem Jahr um Rath gefragt hatten, wie sie ihre Grundsatze verbeiten konnten, er ihnen gesagt habe: macht eine Religion daraus." ("Бенжамен Констан рассказывал мне, что, когда примерно год назад сен-симонисты спрашивали у него совета, как им распространить свои основные идеи, он сказал: сделайте из них религию.")]; сентиментальные и мистические элементы взяли верх над прежней якобы научностью и рациональностью, в точности, как было под конец жизни с Сен-Симоном, а потом и с Контом. Усиление такой тенденции заметно уже во втором выпуске "Изложения". А в дальнейшем литературная деятельность становится для сен-симонистов все менее важной, на первый план выходит организация церкви и применение на практике ее учениях, причем живописные черты новой церкви и ее сенсационные деяния привлекли к сен-симонизму куда больше внимания, чем первый и более важный этап его развития [см.: Н. R. d'Allemagne.Les Saint-Simoniens 1827--1837. Paris, 1931]. Поначалу новая религия сводилась просто к неотчетливому пантеизму и пламенной вере в человеческую солидарность. Но догматика не была так важна, как культ и иерархия. Школа превратилась в семью с двумя верховными отцами во главе: Анфантеном и Базаром -- новоявленными папами в окружении апостолом и всевозможных чинов помельче. Проводились службы, и на них члены церкви не только обучались доктрине, но вскоре начали публично исповедоваться в своих грехах. Странствующие миссионеры распространяли доктрину по всей стране и создавали местные центры. Одно время их успехи были значительны, причем не только в Париже, но и по всей Франции и даже в Бельгии. Среди членов группы тогда были П. Леру, Адольф Бланки, Пекер и Кабе. Входил в нее также Ле Плей [см.: G. Pinet. Ecrivains et penseurs polytechniciens. 2nd ed., Paris, 1898, p. 176; S. Charlety. Histoire du Saint-Simonisine. 1931, p. 29], а в Брюсселе новым энтузиастом социальной физики стал астроном и статистик А. Кетле, который к тому времени уже находился под глубоким влиянием кружка Высшей политехнической школы.[См.: g. Weill. Le Saint-Simonisine hors de France. -- "Revue l'histoire economique et sociale", vol. 9, 1921, p. 105. Группа миссионеров в составе П. Леру, И. Карно и других посетила Брюссель в феврале 1831 г., и, хотя прямых свидетельств влияния сен-симонистов на Кетле, за исключением тех, что отмечены Вейлем, у нас нет, нельзя не заметить, что, начиная именно с этого момента, его идеи приняли направление очень близкое к идеям Конта. По этому вопросу см.: .J. Lottin. Quetelet: statisticien et sociologue. Lolivain et Paris, 1912, pp. 123, 356--367, а также 10, 21.] Июльская революция 1830 г. застала их врасплох, но они наивно посчитали, что она могла бы привести их на вершину власти. Говорят, что Базар и Анфантен даже предложили Луи-Филиппу предоставить им дворец Тюильри, поскольку они являются единственно законной властью на земле. Воздействие революции на их доктрину выразилось, в частности, в том, что им пришлось пойти на некоторые уступки демократическим тенденциям века. Так изначально авторитарный социализм стал временным попутчиком либеральной демократии. Причину этого шага сен-симонисты объясняли с изумительной откровенностью, на которую редко отваживались позднейшие социалисты: "На данный момент мы требуем свободы вероисповедания, чтобы на развалинах религиозного прошлого человечества было легче возвести единую религию; ... свободы прессы, поскольку это является необходимым условием для последующего создания правильного направления мысли; свободы преподавания, чтобы наша доктрина могла беспрепятственно распространяться и однажды стала единственным учением, признаваемым и почитаемым всеми; уничтожения монополий, без которого недостижима четкая организация промышленных единиц." ["Organisateuir", vol. 2, pp. 202, 213. Цит. по: С. Charlety. Histoire clu Saint-Simonisme. 1931, p. 83.] Однако, для их действительных взглядов показательнее сделанное ими ранее открытие, относящееся к организационному гению Прусского государства ["Globe", June 3 and 8, 1831. Цит. по: Charlety. Ор. cit, р. 110] и восхищение этим гением. Эту их симпатию, как мы вскоре увидим, разделяли также младогерманцы, один из которых не без оснований заметил, что пруссаки давно уже сен-симонисты. [Karl Gutzkow. Briefe eines Narren an eine Narrin. 1832. Цит. по: E. M. Butler. The Saint-Simonian Religion in Germany. Cambridge, 1926, p. 263.] Кроме вышесказанного, следует отметить еще только один новый момент в эволюции доктрины в рассматриваемый период -- это их все возрастающий интерес к железным дорогам, каналам и банкам, интерес, который у столь многих из них превратится в дело жизни после того, как школа развалится. Уже первые попытки Анфантена превратить школу в религию создали определенную напряженность среди ее лидеров и привели к уходу нескольких членов. Когда он принялся развивать новые теории о положении женщин ii отношении между полами, разразился настоящий кризис. В учении самого Сен-Симона не было практически ничего, могущего оправдать подобный поворот, исходные элементы этой доктрины были, по-видимому, позаимствованы у Фурье с его теорией о том, что только пара -- мужчина и женщина -- является истинным социальным индивидуумом. От принципа эмансипации женщин Анфантену оставался только крохотный шаг до доктрин о "реабилитации плоти" и о "постоянных" и "непостоянных" типах среди обоих полов, каждый из которых имеет право вести себя по-своему. Эти теории, а также распространившиеся слухи об их практическом применении (для которых, надо сказать, сен-симонисты в своих писаниях давали предостаточно поводов) [Так, Дювейрье, один из старейших сен-симонистов пишет ("Globe", January 12, 1832): "On verrait sur la terre ce qu'on n'a jamais vu. On verrait des hommes et, des femmes unis par un amour sans example et sans nom, puisqu'il ne connaitrait ni le refroidissement, ni la jalousie; des hommes et des femmes se donneraient a plusieurs sans jamais cesser d'etre l'un a l'autre et dont l'amour serait au contraire comme un divin banquet augmentant en magnificence en raison du nombre et du choix des convives." ("Мы станем свидетелями того, чего никогда не бывало на земле. Мужчин и женщин соединит любовь, какой никто прежде не знал, для которой даже нет названия, ибо она не будет знать ни охлаждения, ни ревности; мужчины и женщины будут принадлежать многим, не переставая при этом быть друг для друга единственными, -- наоборот, любовь их будет подобна божественному пиршеству, тем более великолепному, чем больше будет званых и чем шире их выбор.")] вызвали большой скандал. Последовал разрыв между Анфантеном и Базаром, и последний оставил движение, а девять месяцев спустя умер. Честь занять освободившуюся вакансию и стать Mere supreme <Mere supreme (фр.) -- настоятельница монастыря; на арго это выражение значит "содержательница публичного дома">, была предложена Жорж Санд, но отклонена ею. С Базаром ушли и некоторые из самых именитых членов: Карно, Леру, Лешевалье и Трансон, причем последние двое примкнули к фурьеристам; а спустя еще несколько месяцев с Анфантеном порвал даже Родриг, олицетворявший живую связь с Сен-Симоном. Из-за финансовых трудностей пришлось прекратить издание "Глобуса", а членами группы начала интересоваться полиция. Встретившись со столь серьезными неприятностями, Анфантен с сорока преданными апостолами удалился в местечко Менильмонтан в окрестностях Парижа, чтобы начать новую жизнь в соответствии с заповедями учения. Они основали нечто вроде коммуны -- жили без прислуги, распределив все обязанности по дому между собой, и строго блюли безбрачие, чтобы покончить с мерзкими слухами. Но если в одних отношениях их жизнь строилась по образцу монастырской, то в других она была похожа на порядки в нацистской Fuhrerschule <Fuhrerschule (нем.) -- школа вождей (фюреров)>: к более деятельной будущей жизни им помогали готовиться занятия спортом и изучение доктрины. Добровольно удалившись в свое поместье, они все-таки не оставили своих попыток снискать сомнительную известность. Сорок одетых в фантастические костюмы апостолов, которые трудятся в огороде и работают по дому, на некоторое время стали сенсацией для парижан, тысячами стекавшихся посмотреть на спектакль. Понятно, что такой "уход от мира" ни в коей мере не успокоил полицию. Анфантена, Шевалье и Дювейрье обвинили в попрании общественной морали и в конце концов приговорили к тюремному заключению сроком на один год. Шествие к зданию суда целой группы в причудливых костюмах с лопатами и другим инвентарем на плечах и сенсационная речь обвиняемых -- все это оказалось фактически последним публичным выступлением группы. После того как Анфантен во исполнение приговора был заключен в тюрьму Сен-Пелажье, движение быстро пошло на убыль и хозяйство в Менильмонтане вскоре расстроилось. Еще один повод для сплетен группа последователей дала, отправившись путешествовать в Константинополь и дальше на Восток pour chercher la femme libre (на поиски свободной женщины). [Не отсюда ли выражение "ищи(те) женщину"?] Выйдя из тюрьмы, Анфантен еще раз организовал путешествие на Восток, но на этот раз с более разумной целью. Вместе с группой сен-симонистов он провел несколько лет в Египте, пытаясь организовать строительство канала через Суэцкий перешеек. И хотя на первых порах их предложения не встретили поддержки, основанная позже Компания Суэцкого канала возникла во многом благодаря их усилиям. [См.: J. Lajard de Puyjalon. Linfluence des Saint-Simoniens sur la realisation de I'lsthme de Suez. Paris, 1926.] Как мы еще увидим, большинство сен-симонистов в дальнейшем посвятили себя подобным полезным делам: Анфантен был одним из основателей железнодорожной компании Париж-Лион-Средиземноморье, а многие из его учеников занялись строительством железных дорог и каналов во Франции и за ее пределами. [См.: M. Wallon. Les Saint-Simoniens et les chemins de fer. Paris, 1908; H. R. d'Allemagne. Prosper Enfantin et, les grandes entreprises du XIX siecle. Paris, 1935.] 15. Влияние сен-симонизма I. Сегодня нам нелегко представить огромную продолжавшуюся два-три года суматоху вокруг движения сен-симонистов, причем не только во Франции, но и во всей Европе, или оценить масштабы влияния, оказанного их учением. Но можно не сомневаться, что это влияние было гораздо обширнее, чем принято считать. Если судить о нем по количеству ссылок в литературе того времени, то может показаться, что известность сенсимонистов была столько же недолговечной, сколько громкой. Однако не нужно забывать, что в последние годы своего существования школа выставила себя на посмешище, что из-за их псевдорелигиозных арлекинад, всяческих эскапад и безрассудств многим проникшим в суть ее социального и философского учения могло быть попросту неловко признавать свою причастность к этим чудаковатым из Менильмонтана и к молодцам, отправившимся на Восток в поисках "femme libre". Вполне естественно, что люди стали относиться к своему увлечению сенсимонизмом как к юношескому безрассудству, хвастаться которым не хотелось. Но это не означает, что усвоенные ими идеи перестали действовать на них самих и через них, и тщательное исследование, которое еще ждет своего часа, вероятно, показало бы, как удивительно широко распространилось это влияние. Мы не стремимся здесь проследить за влиянием отдельных лиц или групп. Более того, если бы удалось обнаружить, что аналогичная ситуация порождала аналогичные идеи без какого бы то ни было влияния сенсимонистов, для нас это имело бы гораздо большее значение. Однако при исследовании аналогичных современных сен-симонизму движений, где бы они ни разворачивались, всякий раз быстро обнаруживается их тесная связь с французским прототипом. И даже если мы не имеем права утверждать, что во всех этих случаях речь действительно идет о влиянии, а не о том, что все, кого посещали подобные идеи, быстро находили свой путь к сен-симонизму, стоит все же ненадолго остановиться на тех разнообразных каналах, по которым передавалось это влияние, -- хотя бы потому, что его размеры недостаточно оценены, и особенно потому, что распространение сен-симонизма означало также распространение позитивизма Копта в его ранней форме. Прежде всего необходимо понять, что это влияние ни в коем случае не ограничивалось кругом людей, склонных главным образом к размышлениям на социальные и политические темы, но что оно было даже сильнее в среде литераторов и художников, которые, зачастую почти неосознаннее, становились посредниками, переносившими сен-симонистские концепции в иные сферы. Во Франции идеи сен-симонизма об общественной функции искусства произвели глубокое впечатление на целый ряд крупнейших писателей того времени и стали причиной основательнейших изменений в тогдашней литературной атмосфере. [Подробнее см.: М. Thibert. La Role social de l'art d'apres les Saint-Simonieiis. Paris, 1927; H. J. Hunt. Le socialisme et le romantisme en France. Etude de la presse socialiste de 1830 a 1848. Oxford, 1935; J.-M. Gros. Le Mouvement litteraire socialiste depuis 1830. Paris, 1904.] Требование, чтобы искусство стало насквозь тенденциозным, чтобы оно служило социальной критике и чтобы с этой целью показывалась жизнь как она есть -- - со всем ее безобразием, привело к настоящей революции в словесности. [О развитии сен-симонистской теории искусства см., в частности: Е. Barrault. Aux artistes du passe et de l'avenir des beaux arts. 1830.] Многое из сен-симонистского учения было усвоено и практиковалось не только тесно связанными с сен-симонизмом авторами, такими как Жорж Санд или Беранже, но и некоторыми из самых знаменитых писателей того времени, такими как О. де Бальзак [см.: R. Curtius. Balzac, 1923], В. Гюго и Эжен Сю. Среди композиторов частым посетителем их собраний был Ференц Лист, а Берлиоз, сочинивший "Кантату по случаю открытия железных дорог" ("Chant d d'mauguration des chemins de fer") применил их заповеди к музыке. II. Также отчасти через литературу осуществлялось влияние сенсимонизма в Англии. Здесь главным выразителем их идей на время стал Томас Карлейль, который, как хорошо известно, был многим обязан сен-симонистскому ученики и даже перевел и попытался опубликовать работу Сен-Симона "Новое христианство" со своим предисловием, правда, анонимным. [См.: D. В. Cofer. Saint-Simonism in the Radicalism of T. Carlyle. College Station (Texas), 1931; V. Muckle. Henri de Saint-Simon. Jena, 1908, pp. 345--380; E. d'Eichthal. Carlyle et le Saint-Simonisme. "Revue historique", vol. 82--83 (английский перевод опубликован в "New Quarterly", vol. 2, London, April, l909; E. E. Neff. Carlyle and Mill. New York, 1926, p. 210; Hill Shine. Carlyle and the Saint-Simonians: The Concept of Historical Periodicity. Baltirnore, Johns Hopkins University Press, 1941; и заметки того же автора в: "Notes & Queries", 171, 1931, pp. 290--293. Почему во взглядах Карлейля, как и во взглядах многих других, влияние сен-симонистов так легко соединялось с влиянием немецких философов, станет понятно позднее. Интересен контраст между сочувственным восприятием Карлейля и вполне неприязненной реакцией на сен-симонистские идеи Р. Саути, который в своей статье "Повое распределение собственности" ("Quarterly Review", vol. 456, July, 1831, рр.407--450) очень подробно и толково разбирает доктрину Сен-Симона. См. также его письмо от 31 июня 1831 г. (E. Hodder. The Life and Work of the 7th Earl of Shaftesbury. London, 1886, vol. 1, p. 126.). Теннисон в письме, датированном 1832 годом, все еще утверждает, что "реформа и сен-симонизм привлекают и будут привлекать к себе острейший интерес... существование секты сен-симонистов является одновременно и показателем того, как много зла сохранилось еще в XIX в., и тем фокусом, который собирает все лучи этого зла. Влияние этой секты быстро распространяется во Франции, Германии и в Италии, даже в Лондоне у нее есть свои миссионеры" (Alfred Lord Tennyson. A Memoir, London; 1897, vol. 1, p. 99). Примечательно, что социальный роман возникает в Англии благодаря Дизраэли, как и следовало ожидать, именно тогда, когда сен-симонизм оказывал соответствующее воздействие, хотя, насколько мне известно, не существует никаких свидетельств о влиянии сен-симонистов на Дизраэли.] Пример Карлейля первый из множества показывающих, как легко сен-симонизм или контианство соединяется с немецким влиянием. Его подход к философии истории и представления о законах прогресса, изложенные в "Сарторе Резартусе", его деление истории на позитивные и негативные периоды -- все это имеет преимущественно сен-симонистское происхождение, и его интерпретация французской революции пропитана сен-симонизмом. У нас нет необходимости задерживаться на влиянии, которое в свою очередь оказал Карлейль, но следует отметить, что позднейшие английские позитивисты признавали, что его учение во многом подготовило для них дорогу. [См.: С. G. Higginson. Auguste Comte: An Address on His Life and Work. London, 1892, p. 6; M. Quinn. Memoirs of a Positivist. London, 1924, p. 38.] Больше известно о влиянии, оказанном сен-симонистами на Дж. С. Милля. В своей "Автобиографии" [J. S. Mill. Autobiography. 1873, pp. 163--167; см. также: ibid. p. 61, где Милль описывает, как в 1821 г. в возрасте пятнадцати лет он встретил в доме Ж.-Б. Сэя самого Сен-Симона, "еще не создавшего ни философии, ни религии, а считавшегося просто одаренным оригиналом"] он называет их "писателями, сделавшими больше, чем кто-либо, для того, чтобы новый образ мышления дошел до <его> сознания", и при этом особенно выделяет одну из их публикаций, показавшуюся ему гораздо более значительной, чем остальные, -- ратною работу Конта "Система позитивной политики", которая "прекрасно гармонировала с моими тогдашними понятиями, помогая им обрести наукообразную форму. Я стал считать методы физической науки моделью, подходящей для наук политических. Но важнее всего для меня тогда было то, что, следуя за рассуждениями сенсимонистов и Конта, я получил более четкое, чем до этого, представление об особенностях периода смены мнений, и перестал принимать моральные и интеллектуальные характеристики подобного периода за общечеловеческую норму." Далее Милль говорит, что хотя он на время потерял из вида Конта, его держал au courant <au courant (фр.) -- в курсе> сен-симонистских успехов Г. д'Эйшталь (который познакомил с идеями сен-симонизма также и Карлейля) [Г. д'Эйшталь и К. Дювейрье посетили Лондон с официальной сен-симонистской миссией в 1831 г. См.: address to the British Public by the Saint-Simonian Missionaries. London, 1832; S. Charlety. Histoire du Saint-Simonisme. Paris, 1931, p. 93; см. также: St. Simonism in London. London, 1834, книгу Фонтана (который был главой миссии) и Прати, проповедника религии сен-симонизма в Англии; Дж. С. Милль писал о ней в "Exarniner", February 2, 1834.], что он читал почти все, что они писали, и что "частично благодаря их сочинениям <у него> открылись глаза на то, насколько ограниченную и преходящую ценность имеет прежняя политическая экономия, считающая частную собственность и право наследования нерушимыми, а свободу производства и обмена -- dernier mot (последним словом) в совершенствовании общества." Как далеко он зашел в своей убежденности, видно из письма к д'Эйшталю. [The Letters of John Stuart Mill, ed. H. S. R. Elliot. 1910, vol. 1, p. 20. См. также: J. C. Mill. Correspondance inedite avec Gustave d'Eichthal, 1828--1842, 1864--1871, ed. E. d'Eichthal. Paris, 1898; "Cosmopolis". London, 1897--1898, особенно vol. 5, pp. 356, 359--360, где часть писем приводится в оригинале по-английски.] Он пишет, что "склонен полагать, что <их> общественная организация, в той или иной модификации... по всей вероятности станет окончательным и непреходящим состоянием рода человеческого, правда, он не во всем сходился с ними; прежде чем человечество сумеет реализовать это, считал он, потребуется пройти через много, или, во всяком случае, через несколько, стадий. Несомненно, здесь мы сталкиваемся с зачатками социалистических наклонностей Дж. С. Милля. Но и в случае с Миллем это было преимущественно подготовкой к еще более глубокому воздействию, позднее оказанному Контом. III. Однако ни в одной другой стране (за исключением Франции) учение Сен-Симона не вызвало большего интереса, чем в Германии. [Уже 16 марта 1832 г. "Глобус" сообщает, что "ни одна страна не уделила сен-симонизму более пристального внимания" ("nul pays n'a consacreune attention plus profonde au Saint-Silnonisme"), чем Германия.] Этот интерес начал проявляться удивительно рано. Похоже, что в этой стране у первого же выпуска "Организатора" оказалось довольно много читателей. [См.: H. Fournel. Bidlographie Saint-Simonienne. Paris, 1933, p. 22.] Несколько лет спустя, в 1824 г., Гюстав д'Эйшталь, бывший, по-видимому, учеником Конта, приезжал в Берлин и сумел вызвать у нескольких человек интерес к контовской "Системе позитивной политики"; это было еще до поездки с похожей целью в Англию и привело к появлению достаточно подробной рецензии, единственной, которой эта книга когда-либо удостаивалась на каком бы то ни было языке, опубликованной в "Лейпцигской литературной газете". [См.: P. Lafitte. Materiaux pour la biographie d'Auguste Comte. I. Relations d'Auguste Comte avec l'Allemagne. "Revue occidentale", vol. 8, 1882, p. 227, и Correspondance "Auguste Comte et Gusta". -- Ibid, vol. l2, 1891, pp. l86--276.] Кроме того, усилиями д'Эйшталя Копт приобрел горячего почитателя в лице Фридриха Бухгольца, известного тогда публициста, который не только написал Конту лестное письмо с выражением полного одобрения [Ibid., p. 228; pp. 223 et seq., где приводится текст вышеупомянутой рецензии от 27 сентября 1824 г., в которой среди прочего подробно разбирается "закон о трех стадиях"], но также в 1826 и 1827 гг. опубликовал в своем "Новом немецком ежемесячнике" четыре анонимные статьи о Сен-Симоне вместе с переводом заключительной части его "Промышленной системы". ["Neue Monatsschrift fur Deutschland", vol. 21, 1821 (три статьи); vol. 22, 1827 (три статьи); см. также: vols. 34 и 35 с более поздними статьями на ту же тему. О Фридрихе Бухгольце, который в начале века был одним из самых влиятельных публицистов Пруссии и который в 1802 г. выпустил "Darstellung eines neuen Gravitationsgestzes fuer die moralische Welt", см.: К. Bahrs. Friedrich Buchholz, ein preussischer Publizist 1768--1843. Berlin, 1907, а подробнее о связях с д'Эйшталем -- Correspondancel d'Auguste Comte et Gustave d'Eichthal. "Revue occidentale", Paris, 1891, vol. 22, p. l86--276.] Тем не менее, широкий интерес к сен-симонизму пробудился в Германии только осенью 1830 г.; и потом, в течение двух-трех лет, с быстротой молнии распространился по ее литературному миру. Июльская революция опять сделала Париж центром притяжения для всех прогрессивных сил, а движение сен-симонистов, находившихся тогда в зените славы, было в этой Мекке всех либералов самым заметным интеллектуальным явлением. Настоящий поток книг, памфлетов и статей о сен-симонистах [См. список из примерно пятидесяти публикаций о сен-симонизме, вышедших в Германии между 1830 и 1832 г.: Е. М. Butler. The Saint-Simonian Religion in Germany. Cambridge. 1926, pp. 52--59. Причем данный список нельзя считать исчерпывающим. Об этом см. рецензию Р. Палжена на указанную книгу в "Revue de litterature comparee", vol. 9, 1929; a также: W. Suhge. Der Saint-Simonisinus und das junge Deutschland. Berlin, 1935.] и переводов некоторых из их работ захлестнул Германию [см.: [Abel Transon). Die Saint-Simonistische Religion. Funf Reden an die Zoglinge der polytechnischen Schule, nebst einem Vorbericht ueber das Leben und den Charakter Saint-Simons. Gottingen, 1832], и из немецких источников можно было узнать о них почти все. Волна возбуждения докатилась даже до Гете, который, будучи уже очень старым, подписывался на "Глобус" (вероятно, еще со времен, когда это было либеральное издание). Еще в октябре 1830 г. Гете советовал Карлейлю "держаться подальше от сен-симонистского общества" [цит. по: Butler. Op. cit., где он ссылается на: Briefe. Weimarer Ausgabe, vol. 42, p. 300; письмо датировано 17 октября, 1830], а в мае 1831 г. несколько раз возвращался к этой теме в беседах, сохранившихся в записях, но и после этого счел необходимым провести день за чтением, чтобы до конца разобраться в сен-симонистской доктрине. [См.: И. П. Эккерман. Разговоры с Гете, запись от 20 октября 1830 г. и Гетевский Tagebucher, запись от 31 октября 1830 г. и 30 мая 1831 г.] Казалось, будто весь литературный мир Германии того времени с нетерпением ожидает известий о новейших французских идеях. А для некоторых, по словам Рахеля фон Варнхагена, сен-симонистский "Глобус" стал просто интеллектуальным хлебом насущным [Rahel von Varnhagen. Ein Buch des Andenkens fur ihre Freunde. Berlin, 1834 (запись датирована 25 апреля 1832 г.) ]. Похоже, что и Генрих Гейне прибыл в 1831 г. в Париж с целью узнать что-нибудь новое о сен-симонистах [см.: Butler. Op. cit, p. 70], и, как он потом говорил, не пробыв в Париже и двадцати четырех часов, он оказался в окружении сен-симонистов [К. Grun. Die soziale Bewegung in Frankreich und in Belgien. Darmstadt, 1845, p. 90]. Живя в Париже, Гейне и Л. Берне немало сделали для распространения информации о сен-симонистах в литературных кругах Германии. Другим важным источником информации для живущих не в Париже, в частности для группы Варнхагена, был американец Альберт Брисбейн, тогда еще не фурьерист, но уже путешествующий распространитель социалистических идей. [См.: Margaret A. Clarke. Heine et la monarchie de juillet. Paris, 1927, особенно прил. 2; Butler. Op. cit., p. 71. Некоторые слишком восторженные немецкие поклонники Сен-Симона, кажется, даже ставили его рядом с Гете, что вынудило Меттерниха (в письме к князю Виттгенштейну, датированном 30 ноября 1835 г.) колко заметить, что Сен-Симон, которого он знал лично, "был настолько же циничным дураком, насколько Гете -- великим поэтом". (См.: О. Draeger. Theodor Mundt und seine Beziehungen zum jungen Deutschland. Marburg, 1909, p. 156.] Как сильно повлияли эти идеи на Г. Лаубе, К. Гуцкова, Мундта, Л. Вибарга, входивших в литературный кружок "Молодая Германия", прекрасно показала Э. Батлер в своей книге "Религия сен-симонизма в Германии", где она приводит веские основания, позволяющие отнести всю школу младогерманцев к движению сен-симонистов. [Ibid., p. 430. Помимо уже упомянутой книги Зуге, см. также: F. Gerathevwhol. Saint-Simonistische Ideen in der deutschen Literatur, Ein Beitrag zur Vorgeschichte des Sozialisinus. Munich, 1920; H. V. Kleinmayr. Welt -- und Kunstanschauung des jungen Deutschlands. Vienna, 1930; о еще одном немецком поэте, Георге Бюхнере, который не был членом группы младогерманцев, но также, по-видимому, испытал на себе влияние идей Сен-Симона, см.: J. Dresch. Gutzkow et la Jeune Allemagne. Paris, 1904. Наверное, стоит упомянуть и о том, что Георг Бюхнер был старшим братом Людвига Бюхнера, автора "Kraft und Stoff" (1855) и одного из главных представителей крайнего материализма в Германии. О Г. Бюхнере см. также: G. AdIer. Die Geschichte der ersten sozialpolitischen Arbeiterbewegung in Deutschand, 1885, pp. 8 et seq., где говорится также о некоторых других ранних немецких социалистах, в частности, о Людвиге Галле, Георге Кульмане и Юлиусе Трайшлере, чьи связи с сен-симонистами еще необходимо исследовать (ibid., pp. 6, 67, 72).] В качестве группы они существовали недолго (с 1831 по 1835 гг.), но ярко: неуклонно и, пожалуй, более прямолинейно, чем их французские современники, проводили в жизнь принцип сен-симонистов об обязательной тенденциозности искусства и особенно старались популяризировать их феминистские доктрины и их призывы к "реабилитации плоти". [Любопытным свидетельством масштабов влияния сен-симонизма в Германии является циркуляр архиепископа Трирского от 13 февраля 1832 г., направленный против этого движения. См.: "Allgemeine Kirchenzeitung" (Darinstadt), March 8, 1832.] IV. Гораздо более важным для наших целей, но, увы гораздо менее исследованным, является соотношение между сен-симонистами и другой немецкой группой, младогегельянцами [см.: B. Croce. History of Europe in the 19th century. 1934, p. 147]. О поразительном и отчетливо ощущавшемся современниками сходстве между гегельянскими и сен-симонистскими идеями мы будем говорить позже. Сейчас нас интересует только степень воздействия, действительно оказанного сен-симонистскими идеями на младогегельянских философов и, соответственно, то, до какой степени отделение младогегельянцев от ортодоксальных последователей философа обусловлено переменами, вызванными этим воздействием. Нам сегодня мало что известно об этом, но коль скоро между младогерманцами и членами кружка, позже оформившегося в группу младогегельянцев, существовали тесные личные контакты, и поскольку некоторые из младогерманцев, а также некоторые из авторов работе Сен-Симоне, выходивших в Германии, были гегельянцами [Младогерманцы Т. Мундт и Г. Кюне читали в универсчитете лекции по гегелевской философии, равно как и авторы большинства работ о философских аспектах сен-симонизма, в частности: М. Veit. Saint-Simon undder Saint-Simonismus. Leipzig, 1834; F. W. Carove. Der Saint-Simonismus und die neure franzosische Philosophie. Leipzig, 1831. Мне не удалось найти другую работу того же периода: S. R. Schneder. Das Problem der Zeit und dessen Losung durch die Association. Gotha, 1834, в которой, судя по названию, речь, скорее всего, идет о социалистических аспектах сен-симонизма.], вряд ли можно сомневаться, что в группе младогегельянцев интерес к сен-симонизму был никак не меньше, чем среди младогерманцев. Этот период в немецкой мысли, так мало до сих пор исследованный, но столь существенный для понимания дальнейших событий, приходится на тридцатые годы XIX в. Похоже, что именно в это время были посеяны семена, принесшие свои плоды в следующем десятилетии [B. Groethuysen. Les jeunes Hegeliens et les origines du socialisme en Allemagne. "Revue philosophique", vol. 95, no. 5/6, 1923, p. 379]. Здесь мы встречаемся с трудностью: после того, как сен-симонисты дискредитировали себя, люди стали крайне неохотно признавать, что обязаны им чем бы то ни было, тем более, что и прусская цензура могла не пропустить упоминаний об этой опасной группе. Еще в 1834 г. Г. Кюне, философ-гегельянец, тесно связанный с младогерманцами, говорил о сенсимонизме, этом "французском двойнике гегельянства", что "отныне вряд ли следует упоминать название, и, тем не менее, сами основы такого подхода к жизни, который в теперешней своей форме превратился в карикатуру, найдут полное воплощение в общественных отношениях." [Из рецензии Кюне на сочинение его друга Мундта "Lebenswirren" (цит. по: W. Grupe. Mundts und Kuehnes Verhaltnis zu Hegel und seinen Gegnern. Halle, 1928, p. 76).] А если вспомнить, что, когда волна увлечения сен-симонизмом прокатилась по Германии, тем, кому предстояло решительно выступить против ортодоксального гегельянства, а также сыграть важную роль в рождении немецкого социализма: А. Руге, Л. Фейербаху, Д. Штраусу, Мозесу Гессу и К. Родбертусу -- не было и тридцати [В 1831 г., когда началось немецкое движение сен-симонистов, Руге было 29, Фейербаху -- 27, Родбертусу -- 26, Штраусу -- 23, Гессу -- 19, а Карлу Марксу -- 12 лет. Лидерам младогерманцев тогда же было: Лаубе -- 25 лет, Куне -- 25, Мундту -- 23, Гуцкову -- 20.], то можно чуть ли не с полной уверенностью заявить, что все они в свое время воспитывались на сен-симонистском учении. Только об одном из них достоверно известно, что он посетил Париж в начале 30-х годов [см.: Т. ZIocisti. Moses Hess. Berlin, 1920, p. 13], зато этим человеком был Мозес Гесс, сделавший, как известно, больше, чем кто-нибудь еще в Германии того времени для распространения социалистических идей; и отголоски сен-симонистского и фурьеристского учений без труда различаются в его первой книге, вышедшей в 1837 г.30 Что касается ряда других, в частности, самого влиятельного из младогегельянцев, Людвига Фейербаха, который так полно объединил позитивизм и гегельянство и оказал огромное влияние на Маркса и Энгельса, то мы не располагаем прямыми свидетельствами о его знакомстве с произведениями сен-симонистов. Если бы этот гегельянец, так много сделавший для того, чтобы у следующих поколений немецких ученых выработалось позитивистское Weltanschauung <*> и, следовательно, сыгравший в Германии ту же роль, какую Конт -- во Франции, пришел к своим взглядам независимо от современного ему направления французской мысли, это было бы куда более значительным фактом. Но у него практически не было возможности не узнать об этом направлении в тот период, когда вырабатывалось его собственное мировоззрение. Трудно поверить, что в 1832 г., когда Германию сотрясали дискуссии о сен-симонизме, молодой университетский преподаватель философии, который, готовясь к предстоящему визиту в Париж [31] провел летние месяцы во Франкфурте за чтением, оказался бы чуть ли не единственным (из людей своего круга), избежавшим сен-симонистского влияния. Гораздо более вероятно, что его, как и других, влекла в Париж именно известность этой школы. И хотя намечавшаяся поездка не состоялась, Фейербах вполне мог к тому времени так пропитаться сен-симонистской мыслью, что оказался подготовлен к тому, чтобы вытеснить влияние сен-симонизма на своих младших современников, заменив его собственным влиянием. Если читать его работы с учетом такой возможности, то почти не остается места для сомнений в том, что очевидное сходство между его работами и трудами Конта, не случайно. [См.: Т. G. Masaryk. Die philosophischen und soziologischen Grundlagen des Marxismus. Vienna, 1899, p. 35.] Важную роль в распространении французской социалистической мысли в Германии в этот период сыграли и всевозможные представители обширной колонии немецких паломников в Париже: их организации оказались весьма важными для становления социалистического движения, и среди них выдающейся фигурой в это время был В. Вейтлинг [G. Adier. Die Geschichte der ersten sozialpolitischen Arbeiterbewegung in Deutschland. Leipzig, 1885; К. Mielcke. Deutscher Fruhsozialismus. Stuttgart, 1931, pp. 185--189]. Он и многие другие путешествующие, должно быть, обеспечивали непрерывный приток информации о развитии французского учения задолго до того, как в начале сороковых годов Лоренц фон Штейн и Карл Грюн отправились в Париж для того, чтобы систематически изучать французский социализм. Две книги [Lorenz von Stein. Der Sozialismus und Kommunismus des heutigen Frankreich. Leipzig, 1842; К. Grun. Die soziale Bewegung in Frankreich und Belgien. Darmstadt, 1845. По поводу последней работы см. также: К. Маркс, Ф. Энгельс. Немецкая идеология. -- Маркс К., Энгельс Ф. Собр. соч., т.3, сс. 489-- 532], появившиеся в результате этих поездок, в особенности широко читавшийся подробнейший и в высшей степени сочувственный отчет Лоренца фон Штейна "Социализм и коммунизм в современной Франции" (1842), сделали сен-симонистскую доктрину во всей ее полноте общенемецким достоянием. Хорошо известно, что Штейн, -- кстати, еще один гегельянец, с величайшей готовностью принявший и распространявший сен-симонистские идеи, -- как и Фейербах, оказал сильнейшее влияние на формирование взглядов молодого Карла Маркса [В. Foeldes. Bemerkungen zu dem Problem Lorenz von Stein -- Karl Marx. "Jahrbucher fur Nationalokonomie und Statistik", vol. 102, 1914; H. Nitschke. Die Geschichtsphilosophie Lorenz von Stein. "Historische Zeitschrift", supp. no. 26, Munchen, l932]. Тем не менее полагать, что Маркс только через Штейна и Грюна (и позднее, возможно, через Тьерри и Минье) познакомился с сен-симонистскими идеями и что их источник был изучен им лишь позднее в Паричке, скорее всего, неверно. Представляется весьма вероятным, что тринадцати-четырнадцатилетним мальчиком он был непосредственно захвачен ранней волной сен-симонистского энтузиазма. Он сам рассказывал своему другу, русскому историку М. Ковалевскому, как приятель его отца (а впоследствии тесть К. Маркса ), барон Людвиг фон Вестфален, был заражен всеобщим энтузиазмом и беседовал с мальчиком об этих новых идеях. [См. воспоминания Максима Ковалевского в сборнике: Karl Marx. Eine Sammlung von Erinnerungen und Aufsatzen. Zurich: V. Adoratskij, 1934, p. 223. Судя по замечанию В. Зульцбаха, в его "Die Anfange der inaterialistischen Geschichtsauffassung". Stuttgart, 1911, p. 3, должны быть и другие независимые свидетельства того, что Маркс изучал труды Сен-Симона, еще учась в школе, но у меня не было возможности заняться их поисками.] Факт, на который часто указывают немецкие ученые [Кроме ранних работ Мукле, Экштейна, Кюнова и Зульцбаха, см. также: Kurt Breysig. Vom historischen Werden. vol. 2, pp. 64 et seq., 84; W. Heider. Die Geschichtslehre von Karl Marx. "Forschungen" etc., ed. K. Breysig, no. 3. 1931, p. 19. Эти предположения подтверждаются тщательным исследованием В. Волгина (Ueber die historische Stellung Saint-Simons. "Marx-Engels Archiv", vol. 1/1, Frankfurt a. M., 1926. pp. 82--118).], что многие разделы учения Маркса, в частности, теория классовой борьбы и, соответственно, определенные аспекты в его интерпретации истории, обнаруживают гораздо больше сходства с тем, как понимал все это Сен-Симон, а не с тем, как Гегель, станет гораздо интереснее, если мы будем исходить из того, что влияние Сен-Симона на Маркса по времени, по-видимому, предшествовало влиянию Гегеля. Фридрих Энгельс, в самостоятельных сочинениях которого сен-симонистские элементы, пожалуй, еще заметнее, чем у Маркса, одно время был тесно связан с несколькими младогерманцами, в частности, с Гуцковым, а позднее познакомился с началами социалистической теории благодаря M. Гессу [G. Mayer. Friedrich Engels, Eine Biographie. Berlin, 1920, vol. 1, p. 40, 108]. Подобным образом обязаны сен-симонизму и другие лидеры немецкой социалистической мысли. Часто отмечалось, до какой степени многое в доктринах Родбертуса сходится с сен-симонистскими доктринами, и, рассмотрев ситуацию в целом, вряд ли можно сомневаться в прямых заимствованиях. [См.: H. Dietzel. Rodbertus. 1888, vol. 1, p. 5; vol. 2, pp. 40, 44, 51, 66, 132 et seq., 184--189; C. Andler. Les origines du socialisme d'etat en Allemange. Paris, 1897, p. 107, 111; С. Gide and C. Rist. Histoire des doctrines economiques. Paris. 1909, pp. 481, 484, 488, 490; F.Muckle. Die grossen Sozialisten. Leipzig, 1920, vol. 2, p. 77; W. Eucken. Zur Wurdigung Saint-Simons. "Jahrbuch fur Volkswirtschaft. und Gesetzgebung", l921, vol. 45, p. 1052. Возражения, недавно выдвинутые против этого утверждения Э. Тиром (Е. Thier. Rodbertus, Lassalle, Adolf Wagner, Zur Geschichte des deutschen Staatssozialismus. Jena, 1930, pp. 15--16), объясняются скорее всего тем, что он слабо знает труды сен-симонистов.] Если говорить о тех, кто возглавляли организованное социалистическое движение Германии, то известно, по меньшей мере, что, будучи совсем молодым человеком, сенсимонизмом увлекся В. Либкнехт [см.: F. Meliring. Geschichte der deutschen Sozialdemokratie. 1909, 4th ed., vol. 2, p. 180] и что очень многое передали своему ученику Лассалю Лоренц фон Штейн и Луи Блан. [См.: Cp. Andler. Op. cit., p. 101. Другой, странный и пока совершенно неисследованный случай, когда, по-видимому, имело место влияние сен-симонизма на немецкую мысль, связан с экономистом Фридрихом Листом. По крайней мере существуют свидетельства о его прямых контактах с сен-симонистскими кругами. Лист приехал в Париж (в котором уже бывал в 1823--1824 гг.) в декабре 1830 г., возвращаясь из Америки. Еще в свой прошлый визит он познакомился с первым редактором журнала "Revue encyclopaedique", который во время его второго визита перешел в руки сен-симонистов, и, начиная с августа 1831 г., его главным редактором стал И. Карно. Лист, как и сен-симонисты, очень интересовался железнодорожными проектами, поэтому попытки свести знакомство с людьми таких же интересов в продолжение его визита неизбежно должны были привести его прямо к сен-симонистам. Мы знаем, что Лист и прежде встречался с Шевалье и что он по меньшей мере пытался познакомиться с д'Эйшталем (См. его: Schriften, Reden, Briefe, ed. Friedrich List Gesellschaft, vol. 4, p. 8). В "Revue encyclopaedique" были две его статьи о железных дорогах. В одной из них есть цитата с отсылкой к "Глобусу". Ничего не подозревавший редактор его сочинений тщетно пытался отыскать соответствующее место в английском журнале "Globe and Traveller" ("Земной шар и путешественник"). Мне не удалось установить, имелся ли в виду сен-симонистский "Глобус" (что представляется гораздо более вероятным) или нет. (См.: schriften, vol. 5, 19281, pp. 62, 554). Несколько лет спустя Лист перевел работу Луи Наполеона "Идеи наполеонизма" ("Idees Napoleoniennes"), о сен-симонистских тенденциях которых нам еще предстоит поговорить. Нам известно, что первую версию своего главного труда "Национальная система политической экономии" Лист написал как конкурсную работу во время третьего, наиболее продолжительного пребывания в Париже в тридцатых годах, и что он счел необходимым оградить себя в ней от каких бы то ни было подозрений в "сен-симонизме", понимаемом как коммунизм (а именно так тогда и было принято его понимать) (Schriften, vol. 4, р. 294). Можно почти не сомневаться, что все те места в его поздней работе, где так заметно сходство его идей с идеями сен-симонистов, перенесены из этого варианта. И таких совпадений у него более чем достаточно. Очевидно, в частности, сен-симонистское происхождение представлений Листа о "естественных законах исторического развития", согласно которым социальная эволюция обязательно проходит через вполне определенные стадии, -- идея, с готовностью воспринятая исторической школой немецких экономистов. О том, насколько подвержен был Лист влиянию французской мысли вообще, свидетельствуют его речи, направленные против "идеологии".] О том, что другой немецкий автор, подтолкнувший историческую школу немецких экономистов к поиску предопределенных стадий экономического развития, Б. Гильдебрант, черпал свои идеи из сенсимонизма, говорилось еще в: J. PIenge. Stammformen der vergleichenden Wirtschaftstheorie. Essen. 1919, p. 15. V. Мы до сих пор ничего не сказали о соотношении между сенсимонизмом и более поздними французскими социалистическими школами. Но об этом их влиянии так много и так хорошо известно, что мы можем быть краткими. Среди ранних французских социалистов единственным независимым от Сен-Симона был, конечно, его современник Шарль Фурье [см.: Н. Louvancour. De Henri Saint-Simon a Charles Fourier, Chartres, 1913; Н. Bourgin. Fourier: Contribution а l'etude du socialisme francais. 1905, pp. 415 et seq.],42 который наряду с Робертом Оуэном и Сен-Симоном считается обычно одним из трех основателей социализма. Но хотя сен-симонисты и позаимствовали у него некоторые элементы учения -- особенно это касается отношений между полами, -- ни Фурье, ни, в общем-то, Роберт Оуэн не сделали значительного вклада в ту часть теории социализма, которую мы здесь рассматриваем, то есть в учение о сознательной организации и управлении экономической деятельностью. Вклад Фурье носил скорее негативный характер. Фанатик экономии, он не видел в конкурентных институтах ничего, кроме расточительства, а в своей вере в безграничные возможности технического прогресса превзошел даже сен-симонистов. У него был воистину инженерный склад ума, и, как и Сен-Симон, он набирал себе учеников в основном среди слушателей Высшей политехнической школы. По-видимому, он был родоначальником мифа о "скудости посреди изобилия", которая 120 лет назад представлялась инженерному уму столь же очевидной, как и сегодня. Виктор Консидеран, лидер школы фурьеристов (придавший доктринам своего учителя более связный вид), учился в Высшей политехнической школе, а большинство самых влиятельных ее представителей, в том числе, Трансон и Лешевалье, были старыми сен-симонистами [см.: М. Dommanget. Victor Considerant, sa vie, son oeuvre. Paris, 1929]. Словом, в соперничающих социалистических сектах почти все лидеры были недавними сен-симонистами, развивающими отдельные аспекты этого учения: Леру, Кабе, Буше и Кекер, -- или же многое заимствовали из него, подобно Луи Блану, чье сочинение "Организация труда" ("Organisation du Travail") является чисто сен-симонистским. Даже у самого оригинального из позднейших французских социалистов, Прудона, как бы ни был велик его вклад в политическое учение, собственно социалистические доктрины были по преимуществу сен-симонистскими. [Об элементах сен-симонизма в учении Прудона см., в частности: К. Diehl. Proudhon. 1888--1896, vol. 3, pp. 159, 176, 280.] Можно утверждать, что примернее к 1840 г. идеи Сен-Симона перестали быть достоянием какой-то отдельной школы и превратились в фундамент для всех социалистических движений. А что касается доктрины и действующих лиц социализма 1848 года, то -- если вычесть сильные демократические и анархистские элементы, которые к тому времени были привнесены в него как новые и чуждые, -- он все еще оставался очень сен-симонистским. VI. Возможно, у читателя уже создалось впечатление, будто мы придаем слишком большое значение этой маленькой группе людей, а между тем, мы еще не рассмотрели их влияние в полной мере. Они вдохновляли практически все социалистические движения [Не исключено, что они оказали непосредственное влияние и на ранний английский социализм. Во всяком случае, в одном из писем Т. Годскина, написанном в 1820 г. вскоре после его возвращения из Франции, обнаруживаются достаточно отчетливые следы сен-симонистских идей. См.: Е. Halevy. Thomas Hodgskin. Paris, 1903, p. 58--59. Этой ссылкой я обязан д-ру У. Старку.] истекшего столетия, и этого хватило бы, чтобы обеспечить им важное место в истории. Но вряд ли менее важно влияние, оказанное Сен-Симоном через Конта и Тьерри, а сен-симонистами -- через Кетле и Ле Плея на исследование социальных проблем, и нам стоит к нему вернуться. Дать полное представление о распространении их идей в Европе -- это значит уделить довольно много внимания тому огромному влиянию, которое они оказали на Дж. Мадзини [Между 1830 и 1835 гг., особенно в продолжение своей ссылки во Францию, Мадзини пребывал в тесном контакте с сен-симонистами П. Леру и Ж. Рейно, и это отразилось на всех сторонах его деятельности. По этому вопросу см.: G. Salvemini. Mazzini (в: G. l'Acandia. La Giovine Europa. Rome, 1915, passim; O. Vossler. Massini's politisches Denken und Wollen. Historische. Zeitung, Munchen, 1927, supp. no. 11, pp. 42--52; B. Croce. History of Europe, pp. 118, 142. О более позднем критическом отношении Мадзини к сен-симонизму см. его "Мысли о демократии" в: Joseph Mazzini. A Memoir by Е. A. V[enturi]. London, 1875, pp. 205--217.], и движение "Молодой Италии" в целом, на Сильвио Пеллико, Джоберти, Гарибальди и других [см.: G. Wiell. Le Saint-Simonisme hors de France. "Revue d'histoire economique et sociale", 1921, vol. 9, p. 109; O. Vossler. Op. cit, p. 44] и проследить их роль в становлении таких выдающихся личностей, как А. Стриндберг в Швеции [см.: N. Mehlin. Auguste Strindberg. "Revue de Paris", 1912, vol. 19, October 154, p. 857], А. Герцен в России [см.: A. Herzen. Le monde Russe et la revolution. Paris, 1860--1862, vol. 6, p. 195 et seq.] и ряда других в Испании и Южной Америке [см.: g. Weill. Op. cit., J. F. Normano. Saint-Simonian America. "Social Forces", October 1932, vol. 9]. Нельзя не упомянуть здесь и о многих близких к сенсимонизму деятелях, которые время от времени вставали под его знамена, как это сделал бельгийский промышленник, социолог и меценат Эрнест Сольвей [см.: Ernest Solvay. A propos de Saint-Simonisme (Principes liberosocialistes d'action sociale). Projet de lettre au journal "Le Peuple", 1903 (напечатано в 1916). Ср.: P. Heger and C. Lefebure. Vie d'Ernest Solvay. Brussels. 1929, pp. 77, 150], или неосенсимонисты, выпускавшие в послевоенной Франции новый "Производитель". [Послевоенный "Производитель" начал выходить в Париже в 1919 г. и издавался группой в составе Г. Дарке, Г. Гро, А. Клуар, М. Леруа и Ф. Делези. Подробнее см.: М. Bourbonnais. Les Neo-Saint-Simoniens et la vie sociale l'aujourd'nui. Paris, 1923.] С подобным намеренным или ненамеренным возрождением мы сталкиваемся на протяжении всего последнего столетия. [См. также: G. J. Gignoux. L'Industrialisme de Saint-Simon a Walter Rathenau. "Revue d'histuire des doctrines economiques et sociales". 1923; G. Salomon. Die Saint-Simonisten. "Zeitschrift fur die gesamte Staatswissenschaf", 1927, vol. 82, pp. 550--576. О влиянии сен-симонистских идей на возникновение корпоративистских теорий фашизма см.: Hans Reupke. Unternehmer und Arbeiter in der fascistischen Wirtschaftsidee. Berlin, 1931, pp. 14, 18, 22, 29--30, 40.] Кроме всего прочего прямым следствием распространения сенсимонизма оказалось одно обстоятельство, заслуживающее более пристального рассмотрения. Дело в том, что основатели современного социализма немало сделали также, чтобы придать континентальному европейскому капитализму его особенную форму; так называемым монополистическим, или финансовым, капитализмом, выросшим из тесной связи между банковской системой и промышленностью (когда банки, владея контрольными пакетами акций в фирмах, составляют из этих фирм промышленные концерны), быстрым развитием акционерных предприятий и крупных железнодорожных синдикатов -- всем этим мы в немалой степени обязаны сен-симонизму. Проследить за становлением такого капитализма можно, обратившись к истории банков типа парижского "Креди мобилье", то есть тех, которые брали на себя и депозитную, и инвестиционную функции. Первый из них был создан братьями Перейра во Франции, а затем либо под их влиянием, либо стараниями других сен-симонистов подобные банки распространились почти по всему европейскому континенту. Можно, пожалуй, сказать, что после того, как сен-симонисты не добились осуществления желаемых реформ с помощью политического движения, или после того, как они стали более опытными и приземленными, они взялись за трансформацию капиталистической системы изнутри -- с помощью индивидуальных усилий, стараясь при этом максимально задействовать свою доктрину. И нельзя не признать, что им удалось преобразовать экономический механизм стран континентальной Европы в нечто, заметно отличающееся от английского капитализма с его свободной конкуренцией. Даже при том, что "Креди мобилье" братьев Перейра в конце концов разорился, этот банк и созданные им промышленные концерны не без участия других сенсимонистов превратились в модель для развития банковских и капиталистических структур в большинстве промышленных стран Европы. Братья Перейра видели в "Креди мобилье" прежде всего средство для создания административного и контролирующего центра по комплексному управлению системой железных дорог, городским строительством, коммунальным хозяйством и другими отраслями, которые они собирались консолидировать в несколько крупных предприятий путем последовательного проведения политики слияний. [См.: Jogan Plenge. Grundung und Geschichte des Credit Mobilier. Tubingen. 1903, pp. 79 et seq., а также приведенный на с. 139 отрывок из ежегодного отчета "Креди Мобилье" за 1854 г.: "Quand nous touchons a une branche de 1'industrie, nous desirous surtout obtenir son developpement non par la voie de la concurrence, mais par voie d'association et de fusion; par l'emploi le plus economique des forces et non par leur opposition et leur destruction reciproque." ("Когда нам приходится иметь дело с новой отраслью промышленности, наша главная цель -- добиться ее развития не путем конкуренции, но путем ассоциации и слияния, путем наиболее экономного использования сил, а не путем их сталкивания и взаимного разрушения.") Мы не можем обсуждать здесь сен-симонистские теории кредита в понимании братьев Перейра и вынуждены отослать интересующихся к работам: J. В. Vergeot. Le Credit comme stimulant et regulateur de l'industrie, la conception Saint-Simonienne, ses realisations, etc. Paris, 1918; К. Moldenhauer. Kreditpolitik und Gesellschaftsreform. Jena, 1932. Упомянем только, что братья Перейра, после приобретения "Банк де Савой", обладавшего правом эмиссии банкнот, чтобы иметь возможность применять свои теории на практике, стали горячими защитниками "свободной банковской системы", чем вызвали бурную полемику между французскими школами "свободной банковской системы" и "центральной банковской системы", начавшуюся в 1864 г. и не стихавшую несколько лет. Об этом см.: V. С. Smith. The Rationale of Central Banking. London, 1936, pp. 33 et seq.] В Германии по аналогичному пути пошли рано попавшие под влияние сен-симонизма Г. Мевиссен и А. Оппенгейм - основатели Дармштадтского банка и других банковских предприятий [см.: J. Hansen. G. v Mevissen. Berlin, 1906, vol. 1, p. 60, 606, 644--646, 655; W. Daebritz. Grundung und Anfange der Discontogesellschaft. Berlin -- Muenchen, 1931, pp. 34--36]. В том же направлении работали другие сен-симонисты в Голландии [см.: H. M. Hirschfelt. Le Saint-Simonisme dans les Pays-Bas. Le Credit mobilier Neerlandais. "Revue d'economie politique", 1923, pp. 364--374], а в Австрии [см.: F. G. Stemer. Die Entwicklung des Mobilbankwesens in Oesterreich von den Anfangen bis zur Krise von 1873. Wien, 1913, pp. 38--78], Италии, Швейцарии и Испании [см.: H. M. Hirschfeld. Der Credit-Mobilier Gedanke mit besonderer Berucksichtigung semes Einflusses in den Niederlanden. "Zeitschrift fur Volkswirtschaft und Sozialpolitik", N. F. Vol. 3. 1923, pp. 438--465] подобные институты были созданы самой компанией братьев Перейра или ее ответвлениями. То, что ныне известно как банк "немецкого" типа с. его тесными связями с промышленностью и вся так называемая система Eftektenkapitalismusy (финансового капитализма) в сущности представляет собою реализацию сен-симонистских планов [см.: G. v SchuIze-Gaevernitz. Die deutsche Kreditbank. "Grundriss der Sozialokonomik", 1915, V/2, p. 146]. Эти предприятия были тесно связаны с другим делом, более всего нравившимся сен-симонистам в их поздний период, -- строительством железных дорог [см.: M. Wallon. Les Saint-Simoniens et les chemins de fer. Paris, 1908; H. R. d'Allemagne. Prosner Enfantin et les grandes entreorises du XIX siecle], а также с их интересом ко всякого рода гражданскому строительству [см. брошюру: "Vues politiques et pretiques sur les travaux publiques en France", опубликованную в 1832 г. четырьмя инженерами сен-симонистами: Г. Ламом, Б. Клапейроном и братьями Флаша], которое с годами все сильнее и сильнее завладевало их вниманием. Вслед за Анфантеном, организовавшим железнодорожное сообщение на участке Париж -- Лион -- Средиземноморье, братья Перейра строили железные дороги в Австрии, Швейцарии, Испании и России, а П. Талабо -- в Италии. При этом они старались пользоваться инженерными услугами местных сен-симонистов. Оглядывая все сделанное сен-симонистами, Анфантен в конце жизни имел полноте право сказать, что они "покрыли землю сетью из железных дорог, золота, серебра и электричества" [цит. по: G. Pinet. Ecrivains et penseurs polytechniciens. Paris, 1887, p. 165]. To, что они, несмотря на свои далеко идущие планы организации промышленности, не преуспели в создании крупных комбинатов, как это благодаря поощрению со стороны правительств произошло позже в процессе картелизации, было связано прежде всего с политикой свободной торговли, избранной Францией и одобренной некоторыми прежними сен-симонистами. M. Шевалье, а также братья Перейра, оказались еще в числе ее приверженцев, в то время как другие из этого же кружка, особенно Пекер [см.: C. Pecqueur. Economie sociale: des interets du commerce, de 1'industrie et de l'agriculture, et de la civilisation en general, sous 1'influence des applications de la vapour. Paris, 1838], отстаивали то же направление, что и их друг Фридрих Лист в Германии. Однако это направление не могло преуспеть до тех пор, пока другие ответвления от того же ствола: позитивизм и "историцизм" -- не преуспели в дискредитации "ортодоксальной" политической экономии. Как бы то ни было, все аргументы, которыми впоследствии оправдывалась политика стимулирования картелей, были выдвинуты еще сенсимонистами. Как бы далеко ни простиралось их практическое влияние, сильнее всего оно сказывалось во Франции времен второй Империи. В этот период они не только пользовались поддержкой прессы, благодаря тому что некоторые из ведущих журналистов были сен-симонистами со стажем [в частности Журдан, близкий друг Анфантена, и Геро. О последнем см. также: Saint-Beuve. Nouveaux Lundis, 4; а об отношении самого Сент-Бева к сен-симонизму см.: M. Leroy. Le Saint-Simonisme de Saint-Beuve "Zeitschrift fur Sozialwissenschaft", 1938, vol. 7, pp. 132--147], но -- и это важнее всего -- сам Наполеон III находился под таким сильным влиянием сен-симонистских идей, что Сент-Бев имел основания говорить о нем "Сен-Симон на коне". [Cм.: a. Guerard. Napoleon III. Harvard University Press, 1943, p. 215, где он называет эту характеристику Наполеона III "удивительно точной"; Н. N. Boon. Reve et realite dans l'oeuvre economique et sociale. The Hague. 1936.] Император поддерживал дружеские отношения с некоторыми сен-симонистами и даже отчасти отразил их идеи в своей программной работе "Наполеоновские идеи" и в некоторых других памфлетах [Des Idees Napoleoniennes, 1839; L'idee Napoleonienne. 1840; De l'extinction du pauperisme, 1844]. Неудивительно поэтому, что годы второй Империи оказались великим периодом реализации сен-симонизма, который и впрямь стал так прочно ассоциироваться с режимом, что конец последнего ознаменовал, по существу, и конец непосредственного влияния сенсимонизма во Франции. [Подробнее об этом этапе деятельности сен-симонистов см.: G. Weill. Les Saint-Simoniens sous Napoleon III. "Revue des etudes Napoleoniennes", 1931, May, pp.391--406.] Если к факту этого влияния на французскую Империю добавить тот факт, что социальная политика и идеи Бисмарка были во многом заимствованы у Лассаля, а, стало быть, через Луи Блана, Лоренца фон Штейна и Родбертуса у Сен-Симона [Е. Halevy. "La doctrine economique Saint-Simonienne". L'Ere des tyrannies. Paris. 1938, p. 91], а также тот, что теорию soziale Konigtum (гсоциального государства) государственный социализм, способствовавший проведению политики Бисмарка, можно через Л. фон Штейна, Родбертуса и других возвести к тому же источнику [см.: L. Brentano. "Die gewerbliche Arbeiterfrage", в: Schonberg. Handbuch der politischen Oekonomie. 1882, pp. 935 et seq.], нам наконец станут видны масштабы этого влияния в XIX в. Даже если оно сочеталось с другими (которые все равно действовали бы в том же направлении), утверждение К. Грюна, которым можно завершить настоящее исследование, пожалуй, ни в коей мере не преувеличивает значения сен-симонизма. "Сен-симонизм, -- писал он в 1845 г., -- подобен раскрывшемуся стручку: шелуха слетела, а зерна всюду находили благодатную почву и одно за другим давали всходы." И в его перечне различных движений, оплодотворенных таким образом, мы впервые встречаем термин "научный социализм" [K. Grun. Die soziale Bewegung in Frankreich und Belgien, 1845, p. 182. Интересно сопоставить это высказывание с замечанием, содержащимся в рукописях лорда Актона (Cambridge University Library, Acton 5487), где он говорит, имея в виду Базара: "Система развалилась. Плодоносят ее рассыпанные обломки." См. также: J. S. Mill. Principles of Political Economy, 2d ed., 1849, vol. 1, p.250: сен-симонизм "за те несколько лет, в течение которых он насаждался, посеял семена чуть ли не всех социалистических тенденций, так широко распространившихся с тех пор во Франции"; W. Rescher. Geschichte der Nationalokonornik in Deutschland. 1874, p. 845: "Und es lasst sich nicht leugnen, wie diese Schriftsteller [Bazard, Enfantin, Comte, Considerant] an praktischem Enfluss auf ihre Zeit mit den heutigen Socialistenfuhrer gar nicht verglichen werden konnen, ehenso sehr uberragen sie die letztereren a wissenchaftlicher Bedeutung. Es kommen in der neuesten socialistischen Literatur sehr wenig erhebliche Gedanken vor, die nicht bereits von jenen Franzosen ausgesprochen waren, noch dazu meist in einer viel wurdigern, geistreichen Form." ("Нельзя не признать, что эти авторы [Базар, Анфантен, Конт, Конссидеран] не только совершенно несравнимы с современными социалистическими вождями по практическому влиянию на свою эпоху, но так же превосходят они последних по научному значению. В новейшей социалистической литературе очень мало значительных идей, которые не были бы высказаны вышеназванными французами, причем высказны в большинстве случаев в гораздо более достойной и остроумной форме.")], в применении к работе Сен-Симона, "посвятившего всю свою жизнь поискам новой науки." 16. Социология: Конт и его последователи I. Через восемь лет после выхода первого варианта "Системы позитивной политики" [первоначально издано в 1822 г. под названием "Prospectus des travaux necessaires pour reorganiser la societe" ("План мероприятий по реорганизации общества") и переиздано под указанным названием только в 1824] началась публикация того труда Конта, которому он больше всего обязан своей известностью. "Курс позитивной философии", литературная запись курса лекций, к чтению которых он приступил в 1826 г. и затем, после перерыва, вызванного психическим расстройством, дочитывал в 1829, потребовал шести томов, выходивших с 1830 по 1842 гг. [Ссылаясь на "Курс", я буду указывать страницы по второму изданию (под ред. Е. Littre, Paris, 1864), в котором нумерация совпадает с третьим и четвертым изданиями, но отличается от первого и пятого. Иногда я буду также цитировать весьма удачное сокращенное переложение "Курса" на английский язык, сделанное мисс Мартино ("The Positive Philosophy of Auguste Comte". Freely translated and condensed by Harriet Martineau 3d ed., 2 vols., London, 1893. При ссылках на это издание название будет сокращаться до "P.P." -- "Positive Philosophy", в отличие от ссылок на французский оригинал, обозначаемых словом "Cours".] Посвятив этому теоретическому труду лучшие зрелые годы, Конт подтвердил свою верность убеждению, которое привело его к разрыву с Сен-Симоном: что политическая реорганизация общества может осуществиться только после того, как реорганизация всей совокупности человеческих знаний создает для этого духовный фундамент [Cours, vol. 2, p. 438]. Но он никогда не забывал и о политической задаче. За его главной философской работой закономерно последовала основательная "Система позитивной политики" (4 тома, 1851--1854), в которой, при всех ее причудливых вывертах, тем не менее последовательно выполняются планы его молодости. А за этим последовала бы и третья часть первоначального плана -- столь же тщательно продуманный трактат о технологии или "воздействии человека на природу"; но в 1857 г. он умер. Хотя точное совпадение дат - не более, чем случайность, пожалуй все-таки стоит отметить, что 1842 - год выхода завершающего тома "Курса", и для нас, стало быть, год завершающий "французскую фазу" того течения мысли, с которым мы здесь имеем дело, -- есть также год, который с большим правом, чем любой другой, может считаться открывающим "немецкую фазу" этого же направления, фазу, с которой мы надеемся разобраться в другой части нашего исследования. В 1842 г. опубликованы "Sozialismus und Communismus im beutigen Frankreich" ("Социализм и коммунизм в сегодняшней Франции") Лоренца фон Штейна и "Zur Erkenntnis unserer staatswirtschaftlichen Zustande" ("К познанию наших государственно-хозяйственных порядков) -- первая работа И. К. Родбертуса, а первые опыты Карла Маркса отправлены издателю. За год до этого Фридрих Лист опубликовал "Национальную систему политической экономии", а Людвиг Фейербах -- "Сущность христианства". В следующем году вышла книга В. Рошера "Grundriss zu Vorlesungen uber die Staatswirtschaft nach historischer Methode" ("Набросок лекций о государственном хозяйстве с позиций исторического метода"). Особое значение этого года в истории немецкой мысли отмечает также Г. Френд (Н. Freund) в своей работе: Soziologie und Sozialismus: Ein Beitrag zur Geschichte der deutschen Sozialtheorie um 1842. Wurzburg, 1934. Мы не можем задерживаться ни на достаточно подробном пересказе философии Копта в целом, ни на ее эволюции. Нас занимает только рождение новой дисциплины, о которой Сен-Симон и молодой Конт только мечтали, но которую вызвали к жизни зрелые работы последнего. Правда, что бы ни делал Конт, в итоге всегда имелась в виду именно эта цель и, стало быть, наша задача не может считаться слишком узкой. Нам придется сосредоточить внимание лишь на тех аспектах его обширнейшего наследия, которые особенно значительны либо из-за их влияния на взгляды других ведущих мыслителей того времени, либо потому, что были весьма показательны для интеллектуальных тенденций эпохи. Речь пойдет в основном о методах изучения социальных явлений. Об этом предмете "Курс" толкует очень обстоятельно. Но, возможно, стоит отметить, что мы собираемся ограничиться содержанием этой работы потому, что в ней рассматриваются предметы, занимающие нас более всего, и что мы не можем согласиться с широко распространенным когда-то мнением, будто между нею и более поздними трудами Конта имеются существенные различия, вызванные обострением его психического расстройства. [Исследование Г. Дюма (Psychologie de dux messies positivistes. Paris, 1905) подвело итог дискуссиям, и теперь практически все интересующиеся данным вопросом научные школы Франции соглашаются, что в существе своем мышление Конта осталось целостным. Сторонники такого подхода существовали всегда. Подробнее об этом см.: Н. Gouhier. La jeunesse l'Auguste Conite.Paris, 1933, vol.1, рp. 18--29; P. Ducasse. Methode et intuitioni chez Auguste Cointe. Paris, 1939; P. Ducasse. Essai sur l'origine intuitive du positivisine. Paris, 1939.] Можно напомнить ряд фактов из жизни Конта, чтобы они помогли нам понять его взгляды и разобраться в вопросах, связанных с распространением и с пределами его влияния. Возможно, главная особенность его карьеры заключается в том, что, получив математическое образование, он и был профессиональным математиком. Почти всю жизнь основным источником его доходов было репетиторство и прием экзаменов по математике в Высшей политехнической школе, однако должности профессора, которой он домогался, ему получить не удалось. Из-за то и дело происходивших недоразумений и раздоров с коллегами он в конце концов утратил и это незавидное положение, чем до известной степени и объясняется его постепенно усиливавшаяся изоляция, его открытое презрение к большинству ученых-современников и тот факт, что при его жизни в его собственной стране о его работе почти ничего не знали. Хотя в конце концов у него появилось несколько восторженных учеников, в общем-то нетрудно понять, почему большинству людей представляется, что он должен был казаться на редкость непривлекательной фигурой, часто всем стилем своего мышления отталкивавшей и тех, кто имел с ним много общего. [См. интересное признание, сделанное Гербертом Уэллсом в его "Попытке автобиографии" (Experiment in Autobiographpy. London, 1934, p. 658): "Возможно, я несправедлив к Конту и мне не хочется признавать своего рода приоритет этого человека обрисовавшего современное мировоззрение. Однако к нему, равно как и к Марксу, я испытываю неподдельную личную неприязнь."] Человека, гордившегося тем, что он в течение нескольких лет своей юности приобрел все знания, необходимые для создания грандиозной классификации всех наук, и на протяжении огромной части своей жизни практиковавшего "гигиену ума" -- то есть вообще не читавшего никаких новых публикаций, вряд ли могли с готовностью признать тем praeceptor mundi et universae scientiae <praeceptor mundi et universae sciential (лат.) -- учителя, вместившего все знание мира>, на звание которого он претендовал. Чрезмерные длинноты, многословие и неуклюжий стиль его зрелых работ создавали дополнительные преграды между ним и читателем. Но, если все вышеназванное ограничивало круг людей, сумевших ознакомиться с его трудами непосредственно, то это было с успехом возмещено благодаря тому основательному воздействию, какое они оказали на некоторых из наиболее влиятельных мыслителей эпохи. В XIX в. его влияние, хотя и было чаще всего опосредованным, оказалось в числе самых сильных, во всяком случае, в области социальных исследований. II. Вся философия Конта держится, конечно, на его знаменитом законе трех стадий, о котором мы уже говорили в связи с его ранними опытами. Даже его собственная задача определялась этим законом: поскольку все сравнительно простые науки, такие как физика, химия и биология, уже достигли позитивной стадии, Конту оставалось сделать то же самое с венчающей все построение наукой о роде человеческом и поставить таким образом точку в конце магистрального пути развития человеческого разума. Впрочем, упор, который самим Контом и -- еще сильнее -- его толкователями делается на три отдельные стадии, скорее всего, необоснован. Весьма заметная разница существует между, с одной стороны, теологической и метафизической стадиями (поскольку последняя является просто "модификацией" [см.: Cours, vol. 1, p. 9: "L'etat metaphysique,quin'est au fond qu'une simple modificatoin general du premier" ("Метафизическая стадия, которая, в сущности, есть не более, чем простое видоизменение теологической"); см. также: Cours, vol. 4, р. 213] первой), и, с другой стороны, позитивной стадией. Его интерес сосредоточен на непрерывном и последовательном освобождении от антропоморфного толкования каких бы то ни было явлений [L. Levy-Bruhl. La philosophie d'Auguste Comte. 4th ed., Paris, 1921, p. 42; Cours, vol. 5, p. 25], вполне доступном для любой науки при условии достижения ею позитивной стадии. Метафизическая стадия -- это не более, чем фаза распада теологической стадии, та критическая фаза, на которой человек, уже отказавшийся от примитивного персоналистического подхода, заставляющего искать во всех явлениях духов и богов, просто-напросто заменил их абстрактными понятиями или сущностями, которым тоже нет места в подлинно позитивистском научном подходе. Позитивная фаза означает окончательный отказ от попыток объяснять явление его причинами или указанием на "способ его возникновения" [Cours, vol. 2, p. 312; vol. 4, p. 469]; задача этой фазы -- устанавливать непосредственные связи между наблюдаемыми явлениями, руководствуясь законами их сосуществования и сменяемости, или, пользуясь современным оборотом, еще не встречающимся у Конта, просто "описывать" их соотношения, исходя из общих и неизменных законов. Другими словами, поскольку человек, интегрируя действия себе подобных, выработал установки, которые долгое время мешали изучению окружающей природы (а прогресс последнего достигается в той мере, в какой удается избавляться от этих установок), путь к прогрессу в изучении человека должен быть таким же: мы должны отказаться от антропоморфного подхода к человеку и исследовать его так, как если бы знали о нем не более, чем о других явлениях внешнего мира. И, хотя Копт не говорит об этом столь обстоятельно, он бывает очень близок к тому, чтобы это сделать, и, таким образом, остается только задаваться вопросом: как это он оказался не в состоянии заметить парадоксальность такого вывода. [Cours, vol. 3, pp. 188--189: "Le veritable epsprit general de toute philosophie theologique ou metaphysique consiste a prendre pour principle dans l'explication des phenomenes du monde exterieur, notre sentiment..." ("Поистине главный смысл всякой теологической или метафизической философии заключается в том, что при объяснении явлений внешнего мира она берет в качестве первоосновы наше непосредственное понимание человеческих явлений, тогда как для позитивной философии не менее характерной чертой является, напротив, необходимое и осознанное подчинение представлений о человеке представлениям о внешнем мире. Каково бы ни было основное противоречие между этими двумя философиями, столь многообразно проявляющееся в ходе их последовательного развития, на самом деле у него нет никакого другого первоисточника и никакой другой устойчивой основы, кроме простого различия в очередности этих двух в равной степени необходимых представлений. Если представления о человеке доминируют над представлениями о мире, как человеческий разум поначалу и должен был неизбежно допускать из-за своей неразвитости, мы бываем вынуждены приписывать все явления соответствующим желаниям, сперва естественным, затем сверхестественным, и именно в этом и состоит теологическая система. Напротив, одно только непосредственное изучение внешнего мира помогло выработать и развить великое понимание законов природы, необходимый фундамент всякой позитивной философии, а по мере своего непрерывного и последовательного распространения на явления все менее и менее упорядоченные, оно должно было в конце концов сказать свое последнее обобщающее слово и в исследовании собственно человека и общества. ... Наиболее характерной чертой позитивного исследования является его самопроизвольная и неизменная тенденция при всяком настоящем изучении человека опираться на предварительно полученные знания о внешнем мире." См. также: Cours, vol. 4, pp. 468--469.] Однако то, что позитивное рассмотрение социальных явлений запрещает рассматривать человека не с тех позиций, с каких мы подходим к явлениям неодушевленной природы, есть лишь негативная черта той формы, которую примет новая "естественная наука" об обществе [Ibid., vol. 4, p. 256]. Рассмотрим теперь позитивные характеристики "позитивного" метода. Это гораздо более трудная задача, так как высказывания Конта по большинству охватываемых эпистемологических проблем нестерпимо наивны и неудовлетворительны. В основе воззрений Конта лежит простое с виду утверждение о том, что "фундаментальной особенностью всей позитивной философии является рассмотрение всех явлений как подчиненных неизменным естественным законам, и нам следует приложить все усилия для того, чтобы с точностью раскрыть эти законы и свести их количество к наименьшему из возможных" [Ibid., vol. 1, p. 16; vol. 2, p. 312; vol. 4, p. 230]. Все науки имеют дело с фактами, полученными путем наблюдения [Ibid., vol. i, p. 12], и, как он заявлял в своей работе 1825 г., которую теперь с гордостью цитирует, "любое утверждение, которое не сводится к простому сообщению факта, либо частного, либо общего, лишено какого бы то ни было реального, или умопостигаемого, смысла." [Ibid., vol. 6, p. 600. См. также: Comte. Early Essays on Social Philosophy, trans. H. D. Hutton. London, New Universal Library, 1911, p. 223. Поскольку то обстоятельство, что чуть ли не все основные идеи Конта были четко сформулированы уже в его ранних работах, представляет определенный интерес, мы будем иногда добавлять к ссылкам на "Курс" ссылки на соответствующие пассажи из "Early Essays".] Однако вопрос, ответ на который чрезвычайно трудно найти в сочинениях Конта, заключается в том, что именно следует понимать под "явлениями", которые подчиняются неизменным законам, иначе говоря, что он считает "фактами". Утверждение, что все явления подчиняются неизменным естественным законам, очевидно имеет смысл, только если мы знаем, чем руководствоваться, решая, какие из индивидуальных событий следует относить к одному и тому же явлению. Ясно, что не все, кажущееся нашим чувствам одинаковым, должно и вести себя одинаково. Задача науки состоит как раз в том, чтобы переклассифицировать чувственные впечатления, основываясь на фактах их сосуществования либо следования друг за другом, -- чтобы иметь возможность устанавливать закономерности в поведении этих за ............ единиц внешнего мира (units of reference). Однако именно это вызывает у Конта протест. Конструирование таких новых сущностей, как "эфир", -- для него явно метафизическая процедура, а всякая попытка объяснить "способ возникновения" явлений независимо от законов, связывающих непосредственно наблюдаемые факты, находится под запретом. Упор делается на установление явных связей между непосредственно данными фактами. Но, похоже, вопрос о том, что представляют собой эти факты (которые могут быть "частными" или же "общими"!), не составляет проблемы для Конта. Он подходит к этому вопросу с позиций вполне наивного и некритичного реализма. Как и во всем позитивизме XIX века [см.: L. Grunicke. Der Begriff der Tatsache in der positivistichen Philosophie des 19. Jahrhunderts. Halle, 1930], понятие об этом остается у него чрезвычайно темным. III. Указание на то, что означает термин "факт" в понимании Конта, извлекается нами единственно из постоянства, с каким он сочетает это слово с прилагательным "наблюдаемый", и рассуждений о том, что он понимает под наблюдением. Очень важно прояснить, какое значение придается этому термину в приложении к интересующей нас области исследования человеческих и социальных явлений. "Подлинное наблюдение, -- сообщается нам, -- должно быть обязательно внешним по отношению к наблюдателю", а "пресловутое внутреннее наблюдение -- это не более чем пустая пародия на него", предполагающая ту "до смешного противоречивую ситуацию, когда наш ум созерцает сам себя во время привычного выполнения им собственных действий." [Cours, vol. 6, pp. 402--403; см. также: vol. 1, pp. 30--32: "L'organe observe et l'organe observateur etant, dans ce cas, identique, comment l'observation pourrait-elle avoir lieu?" ("Поскольку в этом случае орган наблюдаемый и орган наблюдающий тождественны, каким образом вообще может иметь место наблюдение?"); см. также: vоl. 3, pp. 538--541; "P. P.", vol. 2, p. 385; vol. 1, pp. 9--10, 381--382.] Как и следовало ожидать, Конт соответственно отвергает возможность самого существования психологии (являющейся "последней трансформацией теологии" [Cours, vol. 1, p. 30] или, во всяком случае, -- возможность какого бы то ни было интроспективного знания о человеческом уме. Есть только два пути позитивного исследования явлений собственно индивидуального человеческого ума: либо через изучение органов, делающих возможными эти явления, то есть с помощью "френологической психологии" [Ibid., vol. 3, p. 535], либо, раз уж "аффективные и интеллектуальные функции" в силу их характерных особенностей "не поддаются непосредственному наблюдению в ходе их отправления", через изучение "их более или менее прямых и более или менее отдаленных результатов" [Ibid., p. 540], то есть способом, напоминающим то, что теперь называют бихевиористским подходом. К этим двум единственно законным путям изучения индивидуального ума позднее добавляется возникающее как результат создания социологии исследование "коллективного ума" -- единственная форма собственно психологии, которая допускается в позитивной системе. Что касается первого из этих способов, то нам достаточно выразить удивление тем, что даже Конт попал под влияние отца "френологии" -- "прославленного Галля", чьи "бессмертные труды навсегда запечатлелись в памяти человечества" [Ibid., pp. 533, 563, 570], причем влияние столь основательное, что Конт счел попытки Галля соотнести отдельные "способности" с отдельными участками мозга могущими дать адекватную замену всем другим формам психологии. "Бихевиористский" подход Конта заслуживает несколько более пристального внимания, так как эта его примитивная форма позволяет особенно ясно увидеть его слабость. Конт заявляет, что изучение деятельности индивидуального ума должно ограничиваться наблюдением ее "более или менее прямых и более или менее отдаленных результатов", а всего через несколько страниц это превращается в непосредственное наблюдение "последовательности интеллектуальных и нравственных актов, что принадлежит скорее к области собственно естественной истории", причем эти акты он, похоже, считает в определенном смысле объективно данными и известными безо всякого использования интроспекции или иных методов, отличных от "внешнего наблюдения". Таким образом, Конт не только молчаливо относит интеллектуальные явления к своим "фактам", которые следует трактовать так же, как любые (объективно наблюдаемые природные факты; он даже признает, что на самом деле наше знание о человеке, которым мы обладаем только потому, что мы сами люди и думаем так же, как другие, является совершенно необходимым условием нашего понимания социальных явлений. Только так можно истолковать его слова о том, что всякий раз, когда мы имеем дело с "животной" жизнью (в отличие от растительной жизни), то есть с явлениями, возникающими на более высоком отрезке зоологической шкалы [Ibid., pp. 429--430, 494; "P. P.", vol. 1, p. 354], исследование может быть успешным лишь в том случае, если мы начнем с "рассмотрения человека -- единственного существа, для которого этого рода явления могут когда-нибудь стать вполне понятными." [Cours, vol. 3, рр. 336--337, 216--217; Early Essays, p. 219. Стоит отметить, что, если в отрывке из ранней работы говорится просто: "L'action personnelle de l'homme sur les autres etres est la seule dont il comprenne le mode, par le sentiment qu'il en a ("Личное воздействие человека на другие существа есть единственный вид воздействия, механизм которого он постигает, поскольку обладает непосредственным о нем представлением" "A. Comte. Opuscules de la philosophie cociale, 1819--1828, p. 182."), то в "Курсе" (vol. 4, p. 468) соответствующее место выглядит так: "Ser propres actes, les seuls dont il puisse jamais croire commprendre le mode essentiel de production" ("Он <человек> может надеяться когда-либо понять механизм возникновения только своих собственных действий" -- курсив мой).] IV. Контовская теория трех стадий тесно связана с еще одной важной особенностью его системы -- с классификацией, или теорией "позитивной иерархии", наук. В начале "Курса" он еще играет с сен-симонистской идеей объединения всех наук путем подведения любых явлений под один-единственный закон -- закон всемирного тяготения [Cours, vol. 1, р. 10, 44]. Но постепенно он перестает верить в нее, а в конце концов она даже становится предметом страстных обличений и называется "нелепой утопией" [Ibid., vol. 6, p. 601].. Вместо нее выдвигается другая идея: "фундаментальные", или теоретические, науки (в отличие от прикладных) выстраиваются в единый линейный порядок по признакам убывания общности и возрастания сложности, начиная с математики (включающей теоретическую механику), за которой следуют астрономия, физика, химия и биология (включающая в себя все науки о человеке как об индивидууме), и кончая новой и последней (final) наукой -- социальной физикой, или социологией. Поскольку каждая из этих фундаментальных наук в такой иерархии "базируется" на предшествующих ей, в том смысле, что она использует все результаты предыдущих наук, добавляя к ним некоторые новые элементы, свойственные ей самой, вывод, что разные науки могут достигать позитивной стадии только по очереди, устанавливаемой этим неизменным и обязательным порядком", является "совершенно необходимым дополнением к закону о трех стадиях". Но, так как объектом последней из этих наук является развитие человеческого ума, а значит в частности -- поступательное движение самой науки, то, однажды возникнув, она превращается в универсальную науку со все усиливающейся тенденцией к сосредоточению и систематизации всех знаний. Правда, этот идеал может так никогда и не реализоваться полностью. Нас интересует только смысл утверждения, что социология "опирается" на результаты всех других наук и, следовательно, может быть созданной только после того, как все другие науки достигнут позитивной стадии. Это не имеет никакого отношения к неоспоримому положению о том, что биологический подход к изучению человека как одного из самых сложных организмов должен включать в себя использование результатов всех других естественных наук. Социология Конта, как мы вскоре увидим, имеет дело не с человеком как с физической единицей, а с эволюцией человеческого ума как с проявлением "коллективного организма", образуемого всем человечеством. Предполагается, что именно при изучении организации общества и законов эволюции человеческого ума придется использовать результаты всех прочих наук. Это могло бы быть ныне оправданным, если бы Конт действительно полагал, что целью социологии (и той части биологии, которая в его системе заменяет индивидуальную психологию) является объяснение явлений ментального характера в физических терминах, то есть если бы он всерьез хотел исполнения своей юношеской мечты об унификации всех наук на основе некоего единого универсального закона. [Ср.: С. Monger. Untersuchungen uber die Methoden der Sozialwisseirschaften. Leipzig, 1883, p. 157 n (сноска), где он пишет, что в точных общественных науках "предельными элементами нашего анализа являются человеческие индивидуумы и их стремления. Они носят эмпирический характер, и потому точные науки об обществе имеют большое преимущество перед точными науками о природе. "Границы познания" и вытекающие отсюда трудности теоретического осмысления природных феноменов на деле не имеют отношения к точным исследованиям социальных явлений. Когда О. Конт представляет "общества" как реальные организмы, причем как организмы особо сложного рода, и характеризует их теоретическое объяснение как научную проблему, не имеющую равных по сложности и тяжести, он глубоко ошибается. Его теория справедлива только для социальных исследователей, которые, оглядываясь на сегодняшнее состояние теоретических наук о природе, развивают прямо-таки безрассудные идеи об интерпретации социальных феноменов не специфическим общественно-научным, а природоведчески-атомистическим образом".] Но он открыто отказывается от этого. На деле из его схемы следует, что ни одно явление, принадлежащее к какой-либо науке, находящейся на более высокой ступени в его иерархии, не может ни полностью сводиться к предшествующим наукам, ни объясняться в их терминах. По его мнению, объяснить социологические явления в чисто биологических терминах так же невозможно, как невозможно было бы когда-либо полностью свести химические явления к физическим. При том, что не сводимые к законам механики или биологии социологические законы будут существовать всегда, этот разрыв между социологией и биологией не больше, чем признаваемое различие между химией и физикой. Когда Конт все-таки пытается обосновать свое утверждение, что социология зависит от уровня, достигнутого другими науками, он терпит полную неудачу, а примеры, приводимые им для иллюстрации, выглядят чуть ли не ребячеством. То, что для понимания какого-нибудь социального явления мы должны знать объяснение смены дня и ночи, а также смены времен года тем обстоятельством, что "Земля совершает суточное вращение и имеет годовой цикл", или что "само понятие устойчивости в человеческом сообществе не могло было быть положительно установлено до открытия закона всемирного тяготения" [Cours, vol. 4, pp. 356--357; P. P., vol. 2, p. 97], попросту неверно. Результаты, полученные естественными науками, могут быть существенными для социологии в той мере, в какой они реально влияют на действия людей, пользующихся этими результатами. Однако последнее верно независимо от состояния, в котором пребывает естествознание, и социологу совсем необязательно иметь более обширные познания в области естественных наук, чем имеют те, чьи действия он пытается объяснить, а, стало быть, нет причин, по которым изучение общества, прежде чем двинуться вперед, должно дождаться, пока естественные науки достигнут определенной стадии развития. Конт объявляет, что применение позитивного метода к социальным явлениям приводит к установлению методологического единства всех наук. Но, кроме общей характеристики позитивного метода, состоящего в "отказе от всякого заведомо тщетного поиска причин, будь они хоть первичными, хоть конечными, и ограничении себя изучением неизменных отношений, которые в свою очередь образуют законы, управляющие всеми наблюдаемыми событиями" [Ibid., vol. 6, p. 599], трудно найти что-нибудь, помогающее уяснить, в чем же именно заключается этот позитивный метод. Ясно, что речь не идет об использовании во всех областях математических методов, как можно было бы предположить. Хотя математика послужила для него главным источником позитивного метода и была той областью, где этот метод появился впервые, причем в самой чистой своей форме [Ibid., vol. 1, p. 122; vol. 3, p. 295], Конт не считает, что ее можно с пользой применять в более сложных дисциплинах, даже в химии [Ibid., vol. 3, p. 29], и с пренебрежением относится к попыткам применять статистику в биологии [Ibid., p. 291], а теорию вероятности -- при анализе социальных явлений [Ibid., vol. 4, pp. 365--367; Early Essays, pp. 193--198]. Даже наблюдение -- единственный общий для всех наук элемент -- не ведется одинаково в каждой из них. По мере усложнения наук в их распоряжении оказываются новые методы наблюдений, а старые, пригодные для менее сложных явлений, делаются бесполезными для новых наук. Так, если в астрономии правят математический метод и чистое наблюдение, то на помощь физике и химии приходит эксперимент. А если пойти еще дальше, то биология приносит с собой сравнительный метод и, наконец, социология -- "исторический метод", тогда как математика и эксперимент оказываются, в свою очередь, в ней неприменимыми [Cours, vol. 3, 40-e lecon; vol. 6, p. 671]. У иерархии наук есть и другой аспект; о нем следует кратко упомянуть, так как он имеет отношение к моментам, о которых нам придется говорить чуть ниже. По мере того, как мы поднимаемся по иерархической шкале наук, и явления, с которыми эти науки имеют дело, становятся все сложнее, они также становятся все более подверженными воздействию со стороны человека и, в то же время, менее "совершенными", а стало быть, все более нуждаются в том, чтобы человек взял на себя ответственность за их улучшение. Конте питает ничего, кроме презрения, к людям, восхищающимся "мудростью природы", и вполне уверен, что несколько толковых инженеров несоизмеримо более преуспели бы в создании организма с заданными функциями [Ibid., vol. 3, pp. 321--322]. И это же, само собой, относится к наиболее сложному и, соответственно, наименее совершенному из всех природных феноменов -- к человеческому обществу. Тот парадокс, что самое несовершенное из всех явлений, каковым, согласно вышеизложенной теории, является человеческий ум, должно одновременно быть и уникальным инструментом, способным управлять собою и улучшать себя, не доставляет Конту ни малейшего беспокойства. V. Конт не только признает, но даже подчеркивает, разницу между методом не только социологии, но вообще всех наук об органической материи, и методом наук неорганических в одном отношении. Правда, при том, что эта грань проходит между химией и биологией, подобная "инверсия" процедуры, как называет это сам Конт, приобретает гораздо большее значение в случае с социологией, и мы процитируем целый фрагмент, в котором он сам это объясняет, ссылаясь непосредственно на исследование социальных явлений. "Между всем учением о неорганическом мире и всем учением об органической жизни, -- объясняет он, -- не может не быть фундаментального различия. В первом случае из-за того, что общность явлений, как мы показали, выражена слабо, и может лишь незначительно содействовать изучению предмета, нам приходится исследовать систему, элементы которой известны нам лучше, чем целое, причем, как правило, только их и удается наблюдать непосредственно. Во втором же случае, когда, наоборот, основными объектами становятся человек и общество, чаще всего единственно разумной делается (и это другое следствие из того же логического принципа) противоположная процедура, ибо на сей раз нам, несомненно, гораздо лучше известен и непосредственно доступен объект в целом [Ibid., vol. 4, p. 258; ср.: "Early Essays", p. 239]. Это поразительное утверждение, что, имея дело с социальными явлениями, мы знаем о целом больше, чем о частях, выдвигается как неоспоримая аксиома без лишних объяснений. Этот факт исключительно важен для понимания новой науки социологии, как она была создана Контом и воспринята его непосредственными продолжателями. Его значимость еще больше возрастает в связи с тем, что подобный коллективистский подход характерен для большинства ученых, рассматривающих подобные явления с той точки зрения, которую мы назвали "сциентистской". [Это часто отмечалось и комментировалось. См., в частности: Е. Bernheim. Geschichtsforschung und Geshichtphilosophie. Gottingen, 1880, p. 48; Lehrbuch der historischen Methode. 5th ed., l908; index s. v. "Sozialistisch-naturwissenschaftliche oder kollektivistische Geschichtsauffassung".] Но надо признаться, что нелегко понять, почему должно быть именно так, и Конт не очень-то помогает нам в этом. Одно возможное оправдание такого взгляда, которое первым приходит в голову современного человека, играло в лучшем случае очень незначительную роль в образе мыслей Конта. Речь идет об идее, что массовые явления могут указывать на статистические закономерности, в то время как образующие их элементы, похоже, не следуют каким-либо поддающимся выявлению законам. [В "Курсе" есть одно невнятное упоминание об этом. См.: Cours, vol. 4, pp. 270--271.] Эта идея, получившая известность благодаря современнику Конта Кетле [см. ниже, с. 555--557], отнюдь не является фундаментом для рассуждений самого Конта. Более чем сомнительно, чтобы Конт по-настоящему обратил внимание на работу Кетле; вместо этого он выразил свое возмущение тем, что в качестве подзаголовка к своей работе, посвященной "обычной статистике" [Cours, vol. 4, p. 15], Кетле употребил термин "социальная физика", который Конт считал своей интеллектуальной собственностью. Но хотя Кетле из-за этого и выглядит косвенным виновником того, что в конце "Курса" новое слово "социология" [Defourny. La Philosophie positiviste, Auguste Comte. Paris, 1902, p. 57] вытесняет "социальную физику" [термин "социология" впервые вводится в четвертом томе "Курса" нас. 185, а несколькими страницами раньше встречается упоминание о "социологических законах" (ibid., р. 180)] -- обозначение, служившее Конту в I--III и еще в начале IV-го тома, -- его главной идее, которая должна бы очень удачно сочетаться с общим подходом Конта и которой предстояло сыграть столь важную роль в более поздней сциентистской социологии, не нашлось места в контовской системе. Возможно, мы найдем объяснение этому в общей установке Конта на то, чтобы относиться к любым явлениям, с которыми приходится иметь дело науке, как к непосредственно данным "объектам", и в его желании установить сходство между биологией -- наукой, находящейся непосредственно перед социологией в позитивной иерархии, -- и наукой о "коллективном организме". И поскольку биологические организмы бесспорно известны нам лучше, чем их составные части, о социологии приходилось утверждать то же самое. VI. Социология, изложение которой Конт собирался уместить в четвертом томе "Курса", на практике заняла у него три тома, каждый из которых значительно превышает по объему любой из первых томов, посвященных прочим наукам. Четвертый том, опубликованный в 1839 г. содержит главным образом общие соображения о новой науке и о ее разделе, посвященном статике. В двух остальных томах содержится очень полное и подробное изложение социологической динамики -- представляющей собой ту общую теорию исторического развития человеческого сознания, которая и была основной целью предпринятых Контом трудов. Разделение предмета на статику и динамику [Ibid., vol. 1, р. 29, vol. 4, pp. 230--231], свойственное, по мнению Конта, всем наукам, он позаимствовал не непосредственно из механики, а из биологии, к которой этот принцип был применен физиологом Де Бленвиллем, оказавшим на Конта влияние, сопоставимое лишь с влиянием Лагранжа, Фурье и Галля. ["Курс" посвящен Фурье и Де Бленвиллю -- двум из этих четверых, которые были еще живы к моменту его публикации.] Для разграничения, в биологии, согласно Де Бленвиллю, проходящего между анатомией и физиологией, или организацией и жизнью, в социологии находится соответствие в двух знаменитых ключевых словах позитивизма -- порядок и прогресс. Статическая социология имеет дело с законами сосуществования социальных явлений, тогда как динамическая занята законами сменяемости в ходе закономерной эволюции общества. Впрочем, когда дело доходит до реализации этой схемы, выясняется, что Конту почти нечего сказать о статической части своей дисциплины. Его рассуждения и обобщения относительно необходимой согласованности между всеми частями социальной системы -- эта "idee mere" <idee mere (фр.) -- ключевая идея> солидарности (как он часто ее называет), выраженной в области социальных явлений даже сильнее, чем в области явлений биологических, -- остаются довольно бессодержательными, так как Конт не имеет возможности (или желания) установить, почему отдельные институты -- и какие именно -- существуют всегда вместе, а другие несовместимы. Пояснения по поводу отношений между индивидуумом, семьей и обществом в той единственной главе, которая посвящена социальной статике, практически сводятся к общим местам. [Можно отметить, впрочем, то, на что, судя по всему, до сих пор не обращали внимания: вошедшее в научный обиход благодаря немецкому социологу Ф. Теннису различение между Gemeinschaft (община) и Gesellschaft (общество) встречается уже у Конта, который подчеркивает то обстоятельство, что "семейные отношения образуют не ассоциацию, а союз" (Cours, vol. 4, р. 419; P. P., vol. 2, p. 116).] Когда речь заходит о разделении труда, мы хоть и улавливаем отдаленное эхо идей Адама Смита [Влияние Смита обнаруживается в отчетливой, хотя и несколько неожиданной, форме, когда Конт вопрошает: ("Действительно, если говорить о естественных явлениях вообще, можно ли представить себе зрелище, более восхитительное, чем это размеренное и постоянное движение к единой цели множества отдельных людей, которые, имея каждый свою судьбу, отличающуюся от судеб других и до известной степени от них независимую, все же склонны, при более или менее сильно выраженном несходстве способностей и, тем более, характеров, без устали и без внешнего принуждения самыми разными способами устремляться в своем развитии к одной и той же общей цели, как правило, совершенно об этом не договариваясь и, чаще всего, даже неосознанно для большинства из них, убежденных, что ничему другому, кроме собственных порывов, они не подчиняются?") (Coirs, vol. 4, pp. 417--418).], не находим и намека на понимание регулирующих его факторов. Насколько мало он в этом разбирается, становится очевидным, когда он недвусмысленно заявляет о невозможности сходства между разделением труда в области материального производства и разделением интеллектуального труда [Ibid., p. 436; P. P., vol. 2, p. 121]. Однако вся его статика не более чем краткий набросок, имеющий второстепенное значение по сравнению с социологической динамикой, этим воплощением главного из его устремлений. Это попытка доказать основополагающее утверждение, высказанное еще молодым Контом (в возрасте 26 лет) в письме к другу, где он обещает показать, что "развитие рода человеческого управлялось законами, столь же непреложными, как и законы, которыми обусловлено падение камня." [Lettres d'Auguste Comte a M. Valat, 1815--1844. Paris, l870, pp. 138--139 (письмо датировано 8 сентября 1824 г.).] Историю предстояло сделать наукой, а сущность всякой науки в том, чтобы уметь предсказывать [Cours, vol. 1, p. 51; vol. 2, p. 20; vol. 6, p. 618; Early Essays, p. 191]. Таким образом, отдел социологии, посвященный динамике, должен был превратиться в то, что по обыкновению, правда, не совсем удачному, называют философией истории (вернее было бы говорить о теории истории). Идея, которой предстояло вдохновить столь многих мыслителей второй половины девятнадцатого века, заключалась в том, чтобы написать "абстрактную историю", "историю без выдающихся имен и вообще без людей." [Cours, vol. 5, p. 14; см. также p. 188, где объясняется, что ("в данном случае все эти греческие и латинские наименования по существу обозначают не случайно возникавшие конкретные общества, а относятся главным образом к ситуациям общим и необходимым, абстрактное описание которых потребовало бы чрезвычайно усложненных оборотов речи.] Новая наука была призвана выработать теоретическую схему, выявить абстрактный порядок, в котором должны неукоснительно следовать друг за другом важнейшие этапы в развитии человеческой цивилизации. Основой этой схемы является, само собою, закон о трех стадиях, а главное предназначение социологической динамики -- тщательно разработать этот закон. Таким образом, у системы Конта оказывается любопытная черта: тот самый закон, который предположительно доказывает необходимость новой науки, одновременно представляет собой главный и чуть ли не единственный результат. Нам незачем подробно останавливаться на этом, скажем лишь, что у Конта история во многом отождествляется с развитием естествознания [Ibid., vol. 1, р. 65]. Все, что нам нужно, это в общем разобраться с самой идеей естествознания, имеющего дело с законами интеллектуального развития рода человеческого, и понять, какие из нее следуют практические выводы относительно будущей организации общества. В соответствии с идеей о познаваемости законов не только развития индивидуального ума, но и роста и совершенствования знаний человечества в целом, предполагается, что человеческий ум способен, так сказать, взглянуть на самого себя сверху и при этом не просто понять механизм своего действия изнутри, а еще и наблюдать за его действием извне. Курьезность такого утверждения, особенно в контовской формулировке, состоит в том, что при открытом признании, что взаимодействие индивидуальных умов может привести к возникновению чего-то, в определенном смысле превосходящего достижения, доступные отдельному уму, этот самый индивидуальный ум, тем не менее, объявляется не только способным охватить целиком картину общечеловеческого развития и познать принципы, по которым оно совершается, и даже курс, которым оно должно следовать, но также и способным контролировать это развитие и направлять его, добиваясь таким образом, чтобы оно шло успешнее, чем было без контроля. На деле это представление означает, что можно просто разом увидеть все результаты умственных процессов, не ступая на многотрудный путь размышления о них, и что индивидуальный ум, взглянув на них со стороны, сможет непосредственно связать эти целостности с помощью законов, применимых к ним как самостоятельным сущностям, и, наконец, экстраполируя наблюдаемое развитие, найти своего рода кратчайший путь к развитию будущему. Такая эмпирическая теория развития коллективного разума является одновременно и самым наивным, и самым значительным по своему влиянию результатом применения метода естественных наук к социальным явлениям, и основана она, разумеется, на ошибочном представлении, будто умственные явления -- это такая же объективная данность, как и физические, и так же поддаются внешнему наблюдению и контролю. Отсюда следует, что наши знания надо рассматривать как "относительные" и обусловленные какими-то поддающимися установлению факторами, причем не только с точки зрения некоего гипотетического, более высоко организованного разума, но и с нашей собственной точки зрения. Отсюда и берет начало убежденность, что мы сами можем познать "изменчивость" [ср.: Ibid., vol. 6, pp. 620, 622] нашего ума (mutability) и законы, по которым эти изменения происходят, а также вера в то, что род человеческий в состоянии сам управлять своим развитием. Подобное представление, будто человеческий ум может, так сказать, сам себя вытянуть за волосы, сохранилось как доминирующая характеристика большей части социологических учений до наших дней [Так, проф. Моррис Гинзберг завершает свою недавно вышедшую книгу "Социология" (Morris Ginsberg. Sociology. Home University Library, 1934, p. 244) следующими словами: "концепция руководящего самим собой человечества является новой и все еще крайне туманной. Можно сказать, что конечная цель социологии -- полностью прояснить ее теоретическое значение и при помощи других наук выявить возможности ее реализации."] и является корнем (точнее, одним из корней, другой -- философия Гегеля), от которого произросла современная самонадеянность, нашедшая свое наиболее завершенное выражение в так называемой социологии познания. Такое представление о человеческом разуме, контролирующем свое собственное развитие, с самого начала было одним из ведущих в социологии, и как раз оно всегда служило звеном, столь тесно связывающим социологию с социалистическими идеалами, что для обывателя "социологическое" зачастую смыкается с "социалистическим". [Правда, это относится больше к европейским странам, в которых практически всем было известно, что в разных "социологических обществах" состоят почти исключительно социалисты.] Именно этот поиск "общих законов непрерывной изменяемости человеческих воззрений" [Cours, vol. 6, p. 670] Конт называет "историческим методом", "необходимейшим дополнением к позитивной логике" [Ibid., p. 671]. Но, хотя (отчасти под влиянием Конта) во второй половине девятнадцатого века термин "исторический метод" стал все чаще употребляться именно в этом значении, мы не можем не отметить, что, конечно же, такое понимание чуть ли не противоположно тому, что на самом деле означает "исторический подход" или что он означал для великих историков, которые в начале прошлого века пытались с помощью исторического метода понять генезис социальных институтов. VII. Неудивительно, что, имея столь претенциозную концепцию предназначения единой теоретической науки об обществе, которую он включает в свою систему, Конт вряд ли мог испытывать что-либо, кроме презрения, к уже существующим общественным дисциплинам. О подобном отношении не стоило бы и рассуждать, если бы с момента появления социальных наук и по сию пору это не было столь характерной чертой всех ослепленных сциентистскими предубеждениями и если бы его собственная позиция не объяснялась, по крайней мере, отчасти, почти полной неосведомленностью о достижениях существовавших тогда социальных наук. Некоторые, в частности, языкознание, он считает едва ли заслуживающими упоминания. ["Грамматисты даже более нелепы, чем логики" ("Systeme de politique positive", vol. 2, pp. 250--251).] Однако он берет на себя труд разоблачать политическую экономию и старается делать это достаточно обстоятельно, правда, его суровость пребывает в странном противоречии с его чрезвычайно слабым знанием предмета своих поношений. Действительно, как не мог не подчеркнуть даже один из его почитателей, посвятивший отношению Конта к экономической науке целую книгу [R. Maudut. Auguste Comte et la science economique. Paris, 1929, pp. 48--69. Обстоятельный ответ на выпады Конта против политической экономии дал Дж. Кэрнс в своем эссе "Г-н Конт и политическая экономия" ("М. Comte and Political Economy"), впервые опубликованном в "Fortnightly Review", May, 1870, и перепечатанном в его "Essays on Political Economy", 1873, pp. 265--311.], экономических знаний у того в сущности не было. Он знал и даже почитал Адама Смита -- отчасти за его описательные экскурсы в труде по экономике, но главным образом за его "Историю астрономии". В молодости Конт познакомился с Ж.-Б. Сэем и некоторыми другими членами того же кружка, в частности -- с Дестютом де Траси. Однако, когда последний в своем обширном трактате по "идеологии" отвел экономической теории место между логикой и моралью, Конту это показалось просто откровенным признанием "метафизического" характера экономической науки [Cours, vol. 4, p. 196]. А в общем-то экономисты не представлялись ему заслуживающими интереса. Он a priori знал, что они просто исполняют предназначенную им роль разрушителей -- типичные представители негативного, или революционного, духа, характерного для метафизической фазы. Никакого позитивного вклада в реорганизацию общества от них ждать не приходилось, это со всей очевидностью следовало из того, что у них не было научной подготовки: "Будучи чуть ли не сплошь юристами или литераторами, они не имели возможности воспитать себя в том духе позитивной рациональности, который, по их мнению, они вносят в свои изыскания. Их образование помешало им получить какое-либо представление о научном наблюдении хотя бы мельчайших явлений, хоть какое-то понятие о законах природы или о том, что такое доказательство, они, разумеется, совершенно неспособны применить метод, которым не владеют, к анализу самого сложного из всех предметов" [Ibid., p. 194; P. P., vol. 2, p. 51]. Конт действительно позволил бы изучать социологию только тем людям, которые последовательно и успешно освоили все другие науки и таким образом как следует подготовились к наиболее трудной задаче -- изучению самых сложных из всех явлений [Cours, vol. 1, p. 84; vol. 4, pp. 144--145, 257, 306, 361]. Хотя дальнейшее развитие новой науки и не может встретить на своем пути такие же громадные трудности, как те, которые преодолевал он сам, пока создавал эту науку [Ibid., vol. 6, p. 547; P. P., vol. 2, p. 412], все же только наилучшие умы могут надеяться на успех в схватке с ними. Особенно трудна эта задача из-за абсолютной необходимости иметь дело со всеми аспектами общества одновременно -- необходимости продиктованной чрезвычайно тесной "согласованностью" между всеми социальными явлениями. Главная его претензия к экономистам заключается в том, что они погрешили против этого принципа и пытались заниматься экономическими явлениями изолированно, "в отрыве от анализа интеллектуального, морального и политического состояния общества" [Cours, vol. 4, pp. 197--198, 255]. Их "как бы наука" предстает перед "всеми компетентными и опытными судьями бесспорно как пользующаяся понятиями чисто метафизического характера" [Ibid., p. 195]. "Если беспристрастно приглядеться к их бесплодным столкновениям по поводу самых элементарных понятий о ценности, полезности, производстве и т. д., можно вообразить, что присутствуешь при страннейших дебатах средневековых схоластов об основных атрибутах их метафизических сущностей" [Ibid., p. 197]. Но главным пороком политической экономии является ее вывод, этот ее "бесплодный афоризм об абсолютной свободе промышленной деятельности" [Ibid., p. 203; P. P., vol. 2, p. 54], ее убежденность в том, что не существует необходимости в некоем "специальном институте, непосредственно отвечающем за регулирование спонтанной координации", которую следовало бы рассматривать просто как создающую благоприятную возможность для внедрения настоящей организации [Cours, vol. 4, pp. 200--201]. И особенно он осуждает политическую экономию за ее склонность "в ответ на любые жалобы объяснять, что в конечном счете и при существующем положении дел нужды всех классов и в частности самого бесправного, получат реальное и прочное удовлетворение; ответ, который следует рассматривать как насмешку, покуда человеческую жизнь невозможно растянуть до бесконечности" [Ibid., p. 203; P. P., vol. 2, p. 54]. VIII. Никакое обсуждение философии Конта невозможно без подчеркнутого внимания к тому обстоятельству, что он не видел ни малейшего толка в знаниях, которые представлялись ему бесполезными с практической точки зрения [ср. Lettres a Valat, p. 99, письмо, датированное 28 сентября 1819 г.): "Я испытываю бесконечное отвращение к научным трудам, в которых не нахожу практической пользы -- будь то непосредственной или отдаленной."], и что "социальная философия создается для того, чтобы пересоздать порядок в обществе" [Cours, vol. 1, p. 42]. Ничто, даже теологический дух, не кажется ему "настолько противным подлинно научному духу" [Ibid., vol. 4, p. 139], как любой беспорядок, и ничто, пожалуй, не характерно для всего учения Конта больше, чем "чрезмерная потребность в "единстве" и "систематизации", которую Дж. С. Милль назвал fons errorum <fons errorum (лат.) -- источник ошибок> всех позднейших его спекуляций [J. S. Mill. Auguste Comte and Positivism. 2d ed., London, 1866, p. 141]. Но даже если "безумная страсть к регулированию" [Ibid., p. l96] в"Курсе" преобладает не так явно, как в "Системе позитивной философии", практические выводы, к которым подводит "Курс", как раз потому, что они еще свободны от фантастических преувеличений, свойственных его следующей работе, обнаруживают эту черту в достаточно заметной степени. С утверждением "окончательной" [Cours, vol. 1, p. 15; ср.: Early Essays, p. 132] философии -- философии позитивизма, критическая доктрина, характерная для предыдущего переходного периода, завершила свою историческую миссию, и теперь предстоит расстаться с сопутствующим ей догматом о неограниченной свободе совести [Cours, vol. 4, p. 43]. Сделать возможным создание "Курса" было, так сказать, последней необходимой функцией "революционной догмы о свободе исследования" [Ibid., p. 43; P. P., vol. 2, p. 12], но теперь, когда это сделано, догмат теряет право на существование. Раз все знание вновь унифицировано (как это уже было на закате теологической стадии), то следующая задача -- учредить новое интеллектуальное правительство, в котором к решению сложных социальных вопросов будут допущены только компетентные ученые [Cours, vol. 4, p. 48]. Поскольку их действия будут во всех отношениях определяться требованиями науки, произвола со стороны правительства не будет, а "подлинной свободы", которая есть не что иное, как "осознанное подчинение власти законов природы" [Ibid., p. 147; P. P., vol. 2, p. 39], станет даже больше. Подробности социальной организации, которая должна быть претворена позитивной наукой, не представляют для нас интереса. Что касается экономической жизни, то здесь по-прежнему многое напоминает ранние проекты сен-симонистов, в частности, идет речь о главенствующей роли банкиров в регулировании промышленной деятельности [Cours, vol. 6, p. 495]. Однако позднейшие откровенно социалистические идеи сен-симонистов Конт отвергает. Частную собственность уничтожать не надо, просто богатые становятся "необходимыми хранителями общественных капиталов" [Ibid., p. 511], а владение собственностью делается общественной обязанностью [Systeme de politique positive, vol. 1, p. 156]. И это не единственный случай, когда система Конта напоминает позднейший авторитарный социализм, который ассоциируется у нас больше с Пруссией, чем с социализмом в привычном понимании. Некоторые моменты буквально поражают своим сходством с прусским социализмом. Оно обнаруживается даже в используемых словах. Так, Конт доказывает, что в будущем обществе "бессмертное" понятие о правах личности исчезнет и останутся одни только обязанности [Cours, vol. 6, p. 454; Systeme de politique positive, vol. 1, pp. 151, 361--366; vol. 2, p. 87], или что в новом обществе не будет частных лиц, а будут только государственные функционеры разных органов и разных уровней [Cours, vol. 6, pp. 482--485] и вследствие этого даже самое скромное занятие облагородится, поскольку будет включено в официальную иерархию (так же, как самый незаметный солдат, солидарный со всем армейским организмом, обретает чувство собственного достоинства) [Ibid., p. 484] и, наконец, в заключительной части первого очерка о будущем порядке он обнаруживает "у одних -- особую склонность распоряжаться, а у других -- слушаться" и уверяет нас, что в глубине души мы все понимаем, как "приятно подчиняться" [Ibid., vol. 4, p. 437; P. P, vol. 2, p. 122]. Почти ко всем этим сентенциям мы могли бы выбрать парную -- из утверждений недавних немецких теоретиков, которые обеспечили интеллектуальный фундамент доктрины Третьего рейха [особенно это относится к произведениям О. Шпенглера и В. Зомбарта]. Собственная философия заставила Конта разделить точку зрения реакционера Боланда, что индивидуум -- это "чистая абстракция", а общество в целом -- единое коллективное существо, и его учение неизбежно приобрело наиболее характерные черты, свойственные тоталитарному взгляду на общество. Последующее перерастание всего этого в новую религию человечества с вполне разработанным культом выходит за рамки нашего предмета. Нужно ли говорить, что Конт, которому был совершенно чужд один действительно человечный культ -- культ терпимости (которую он позволял себе лишь в несущественных или сомнительных случаях) [Cours, vol. 4, р. 51], не был человеком, способным многое извлечь из этой идеи, хотя она и не была лишена своего рода величия. Что до остального, то мы не беремся подвести итог развитию контовской мысли лучше, чем это сделал Томас Гексли, который в своей знаменитой эпиграмме назвал его последнюю фазу "католицизм минус христианство". IX. Прежде чем рассматривать непосредственное влияние главной работы Конта, мы должны сказать несколько слов о некоторых одновременных и в известном смысле параллельных свершениях, имевших те же предпосылки, но следовавших иными путями. Их действие усиливало те тенденции, главным носителем которых был Конт. Первым следует упомянуть бельгийского астронома и статистика Кетле, отличающегося от Конта не только тем, что он был великий ученый в своей собственной области, но также и тем, что он внес крупный вклад в развитие методологии общественных исследований. И сделал он это именно благодаря применению в социальных исследованиях математики, которого Конт не признавал. Применив для анализа статистических данных "гауссову" кривую нормального распределения ошибок, он стал основателем современной статистики, сделавшим для не больше, чем кто бы то ни было, особенно, если говорить о применении ее к анализу социальных явлений. Спорить о ценности этого достижения бессмысленно, ибо она неоспорима. Но в той общей атмосфере, в которой появилась работа Кетле, не могло не родиться убеждение, что никакие другие методы, кроме статистических, с таким успехом примененных к проблемам общественной жизни, для изучения последней и подойдут. А сам Кетле немало содействовал появлению такого убеждения. Интеллектуальная среда, в которой происходило становление Кетле [полное описание жизни и работы Кетле см.: J. Lottin. Quetelet: statistisien et sociologue. Luovain-Paris, 1912] Конта, одна и та же: французские математики, близкие к Высшей политехнической школе, прежде всего -- Лаплас и Фурье, которые и вдохновили Кетле на применение теории вероятности к проблеме социальной статистики, и он в гораздо большей степени, чем Конт, должен считаться истинным продолжателем Фурье, Лапласа и Кондорсе в очень -- многих отношениях. Нас не интересуют собственно статистические работы Кетле. К направленности, параллельной учению Конта, приводил общий эффект его открытия, что нечто, вроде методов естествознания применимо к определенным общественным явлениям, и его подразумеваемое или даже открытое требование, чтобы все проблемы общественных наук решались именно подобным способом. Ничто не вызывало у следующего поколения такого восхищенья, как "средний человек" Кетле, и знаменитый вывод из его исследований по статистике нравов, что "мы живем из года в год, видя перед собой печальную перспективу одних и тех же преступлений, повторяющихся в одном и том же порядке и влекущих за собой те же наказания в тех же размерах. Бедное человечество!.. Мы могли бы заранее составить перечень: сколько человек обагрят руки кровью ближних, сколько станут фальшивомонетчиками, сколько -- отравителями; мы могли бы заранее приблизительно подсчитать, сколько человек должно родиться и сколько -- умереть. Есть бюджет, который мы пополняем с ужасающей регулярностью, -- это тюрьмы, оковы, плахи." [Цитируется по: Н. М. Walker. Studies in the History of Statistical Method. Baltimore, 1929, p. 40.] Его взгляды на применение математических методов стали более характерными для позднейшей позитивистской школы, чем что-либо, предложенное самим Контом: "Чем дальше продвигались в своем развитии науки, тем сильнее становилась их тенденция проникать во владения математики, являющейся своего рода центром, к которому все они устремлены. О степени совершенства, достигнутого наукой, можно судить по тому, насколько легко она переводится на язык расчетов." [Ibid., p. 29.] Конт осудил этот подход и в особенности все
попытки открывать социальные законы с помощью
статистики, и, тем не менее, его и Кетле старания
отыскать естественные законы развития
человеческого рода как целого, распространить
лапласову концепцию универсального
детерминизма на явления культуры и сделать
единственным предметом науки об обществе
массовые явления были достаточно родственными,
чтобы вести к постепенному слиянию их учений. X. Прослеживая влияния значит ходить по самому коварному участку в истории мысли. К тому же в предыдущей главе мы уже столько раз погрешили против правил осмотрительности в этой области, что впредь будем кратки. Но все же то любопытное направление, ' которое приняло влияние Конта, так важно для понимания интеллектуальной истории XIX в. и является причиной стольких неправильных представлений о его роли, распространенных и до сих пор, что мы не можем не сказать об этом хотя бы нескольких слов. Во Франции, как уже было отмечено, непосредственное влияние Конта на крупных мыслителей было незначительным. Но, как указывает Дж. С. Милль, "великий трактат Конта практически не упоминался во французской литературе и критике, в то время как над ним уже вовсю работали умы многих ученых и мыслителей Англии" [J. S. Mill. Auguste Comte and Positivism, p. 2]. Воздействие Конта на европейскую мысль стало возможным именно благодаря влиянию, оказанному им на самого Милля и на некоторых других ведущих мыслителей Англии. [Подробно об английском позитивизме см.: R. Metz. A Hundred Years of British Philosophy. London, 1936, pp. 171--234; J. E. McGee. A Crusade for Humanity -- The History of Organized Positivism in England. London, 1931. О влиянии Конта в Соединенных Штатах см. две работы Хокинса: R. L. Hawkins. Auguste Comte and the United States (1816--1853). Harvard University Press, 1936; R. L. Hawkins. Positivism in the United States, (1853--1861). Harvard University Press, 1938.] В шестой книге своей "Логики", посвященной методам моральных наук, сам Милль выступил чуть ли не как простой толкователь учения Конта. Среди его английских последователей были такие известные люди, как философ Джордж Льюис и писательница Джордж Элиот. Особенно наглядно характеризует огромное воздействие Конта на англичан факт, что та самая мисс Мартино, которая в молодости была преданной ученицей Рикардо и самым лучшим популяризатором его экономических идей, не только стала переводчицей работ Конта и сумела составить самое удачное их изложение в сокращенном виде, но превратилась и в одну из самых восторженных его последовательниц. Для распространения позитивистских взглядов среди тех, кто занимались изучением общественных явлений, почти так же много, как сам Милль, сделал историк Г. Бокль, хотя в его случае влияние Конта подкреплялось, а, может быть, и перевешивалось влиянием Кетле. В Германию позитивизм Конта проникал по большей части через посредничество вышеназванных английских авторов. [Такое проникновение контовского позитивизма в Германию через посредничество англичан -- это любопытное "повторение наоборот" более раннего процесса: в XVII--XVIII вв. английская научная мысль становилась известна в Германии преимущественно благодаря французским авторам, начиная от Монтескье и Руссо и кончая Ж.-Б. Сэем. Этим в значительной мере объясняется широко распространенное в Германии представление, что существует принципиальная разница между "западной" натурфилософской и немецкой идеалистической мыслью. На деле, если уж говорить о различиях, то гораздо больше их между английской мыслью, представленной, в частности, Локком, Мандевилем, Юмом, Смитом, Берком, Бентамом и экономистами-классиками, и, с другой стороны, континентальной мыслью, представленной двумя параллельными и очень близкими направлениями, одно из которых шло от Монтескье через Тюрго и Кондорсе к Сен-Симону и Конту, а второе -- от Гердера через Канта, Фихте, Шеллинга и Гегеля к позднейшим гегельянцам. Французская школа, действительно тесно связанная с английской, школа Кондильяка и "идеологов", к тому времени, о котором идет здесь речь, уже завершила свое существование.] "Логика" Милля, исторические сочинения Бокля и Лекки, а позднее -- работы Герберта Спенсера, близко познакомили с.' идеями Конта даже тех людей, которые не имели ни малейшего понятия о первоисточнике. И хотя у нас нет полной уверенности, что многие немецкие мыслители, которые во второй половине XIX в. придерживались взглядов явно близких к взглядам Конта, заимствовали их прямо у него, тем не менее, ни в какой другой стране, скорее всего, не было такого большого числа влиятельных мыслителей, пытавшихся реформировать социальные науки в духе Конта. Похоже, ни одна другая страна в то время не была более восприимчива к новым идеям, а поскольку позитивизм, как и новые статистические методы Кетле, в то время был определенно в моде, то и в Германии он был принят с соответствующим энтузиазмом. [Влияние позитивистской мысли на социальные науки в Германии -- это история, которую мы здесь излагать не можем. Среди наиболее влиятельных немецких позитивистов -- основатели Volkerpsycologie (психологии народов) М. Лазарус и Г. Штайнталь (последний важен, поскольку оказал большое влияние на В. Дильтея), Э. дю Буа-Раймон (см., например, его лекцию "Kulturgeschichte und Naturwissenschaft", 1877), венский кружок Т. Гомперца и В. Шерера, чуть позже -- В. Вундт, Г. Файхингер, В. Оствальд и К. Лампрехт. См. об этом: Е. Rothacker. Einleitung in die Geisteswissenschaften. Tubingen, 1920, pp. 200--206, 253 et seq.; С. Misch. Der junge Dilthey. Leipzig, 1933; E. Bernheim. Geschichtsforschung und Geschichtsphilosophie. Gottingen, 1880 и его же: Lehrbuch der historischen Methode, 6th ed. Leipzig, 1908, pp. 699--716; о влиянии Конта на некоторых представителей новой исторической школы в немецкой экономической мысли см. в частности: Н. Waentig. Auguste Comte und seine Bedeutung fur die Entwicklung der Socialwissenschaft. Leipzig, 1894, pp. 279 et seq.] То любопытное обстоятельство, что там (да и в других странах) влияние позитивизма так легко соединялось с гегельянством, заслуживает отдельного рассмотрения. Мы можем позволить себе очень коротко сказать здесь о французских последователях Конта, которые в конце концов все же подхватили его традицию. Прежде чем говорить о собственно социологах, следует хотя бы упомянуть имена Тэна и Ренана, тем более, что взгляды обоих представляли собой ту самую любопытную комбинацию идей Конта и Гегеля, о которой мы только что сказали. Среди французских социологов почти все самые знаменитые (за исключением Тарда): Эспинас, Леви-Брюль, Дюркгейм, Симиан -- прямо придерживались контовской традиции, хотя и в их случае это произошло все же после того, как она вернулась во Францию, пройдя через Германию и претерпев там ряд изменений. [См.: S. Deploige. Le conflit de la morale et de la sociologie. Louvain, 1911, особенно главу 6 о происхождении системы Дюркгейма.] Пытаться проследить это позднейшее влияние Конта на французскую мысль в период Третьей республики -- значило бы писать историю социологии в стране, в которой она в то время оказывала величайшее влияние. Многие из лучших умов, посвятивших себя социальным исследованиям, увлеклись новой наукой и, наверное, не будет слишком большой смелостью предположить, что тогдашний особенный застой во французской экономической мысли, по крайней мере, отчасти связан с преобладанием социологического подхода к общественным явлениям. [Пожалуй, следует упоминуть здесь и о прямом влиянии Конта на Шарля Морраса.] То, что непосредственное влияние Конта испытали сравнительно немногие, но что через этих очень немногих оно распространилось чрезвычайно широко, нынешним поколением понято гораздо лучше, чем предыдущими. Среди современных ученых-обществоведов найдется немного таких, которые читали Конта или имеют обширные знания о нем. Но количество вобравших в себя множество важных элементов его системы благодаря посредничеству немногих весьма влиятельных носителей его традиции, таких как Генри Кэри и Т. Веблен [см.: W. Jaffe. Les theories economiques et sociales de T. Veblen. Paris, 1924, p. 35; R. V. Teggart. Thorstein Veblen: A Chapter in American Economic Thought. Berkeley, 1932, pp. 15, 43, 49--53] в Америке, Дж. К. Инграм, У. Эшли и Л. Т. Хобхаус [см.: F. S.Marvin. Comte ("Modern Sociologists"). London, 1936, p. 183] в Англии или К. Лампрехт [см.: E. Bernheim. Lehrbuch der historischen Methode, pp. 710 et seq.] и К. Брейциг в Германии, воистину огромно. А почему влияние Конта так часто оказывалось более действенным, когда передавалось по косвенным каналам, чем когда пытались изучать его собственные работы, понять нетрудно. Часть третья. Конт и Гегель17. Конт и Гегель I. В любую эпоху главные споры развертываются вокруг тех вопросов, по которым расходятся ведущие научные школы. Однако общую интеллектуальную атмосферу всегда определяют взгляды, по которым противоборствующие школы сходятся. Такие взгляды становятся невысказанными предпосылками, из которых исходят все школы, и общей, без всяких споров принимаемой, платформой для происходящей дискуссии. Если речь идет о давно минувших временах, нам, уже не разделяющим тогдашних имплицитных установок, бывает достаточно легко распознать их. Не так обстоит дело с идеями, лежащими в основе научной мысли более близкого времени. И часто бывает, что мы не успеваем обнаружить черты, общие для противостоящих систем, идеи, которые как раз по этой причине в ряде случаев прокрадываются почти незаметно и, не пройдя серьезной проверки, становятся господствующими. Это может иметь очень большое значение, поскольку, как заметил однажды Бернард Бозанкет, "крайности могут сходиться как в истине, так и в заблуждении" [Bernard Bosanquet. The Meeting of Extremes in Contemporary Philosophy. London, 1921, p. 100]. Подобные заблуждения иногда становятся догмами просто потому, что их разделяли представители группировок, не соглашавшихся друг с другом ни по каким другим жизненно важным вопросам. Они могут оставаться в роли неявного основания научной мысли даже тогда, когда люди перестают помнить о большинстве теорий, по которым расходились мыслители, оставившие эти заблуждения нам в наследство. При таких обстоятельствах исключительную практическую важность приобретает изучение истории идей. В ряде случаев оно в состоянии помочь нам сообразить, чем мы безотчетно руководствовались в своих мыслях, стать психоаналитической операцией, выводящей на поверхность те неосознанные элементы, которыми обусловливались наши рассуждения, и, может быть, способствовать освобождению нашего ума от влияний, заставляющих нас серьезно ошибаться при рассмотрении собственных, сегодняшних, вопросов. Моя задача -- подвести к пониманию того, что мы находимся в описанном положении. Мой тезис состоит в том, что в области общественных наук не только для второй половины XIX в., но и для нынешних времен весьма характерны установки, порожденные согласием между двумя мыслителями, которых принято считать полными интеллектуальными антиподами: немецким "идеалистом" Георгом Вильгельмом Фридрихом Гегелем и французским "позитивистом" Огюстом Контом. В некоторых отношениях эти двое действительно так далеки друг от друга в своих философских суждениях, что начинает казаться, будто они принадлежат разным эпохам и практически не касаются одних и тех же проблем. Однако нас будут интересовать не столько их философские системы в целом, сколько их влияние на социальную теорию. Именно в этой области влияние философских идей может быть наиболее глубоким и наиболее продолжительным. И, наверное, лучшей иллюстрации того, сколь далеко идущие последствия могут иметь вполне абстрактные идеи, чем предлагаемая мною, и не подберешь. II. Само предположение, что при обсуждении этих материй нам придется иметь дело с общим влиянием Гегеля и Конта, до сих пор представляется настолько парадоксальным, что будет лучше, если я сразу оговорюсь: я отнюдь не первый, кто заметил сходство между ними. Я мог бы привести длинный список ученых, занимавшихся историей развития мысли, которые указывали на подобные точки соприкосновения, и ниже сошлюсь на несколько выдающихся имен. Любопытно, что подобные наблюдения всякий раз преподносились как сюрприз и открытие, а их авторы всегда как будто немного смущались из-за собственного безрассудства и боялись пойти дальше указаний на некоторые черты сходства. Однако если я не ошибаюсь, этих совпадений очень много, а их воздействие на общественные науки было гораздо более значительным, чем все еще принято считать. Прежде, чем обратиться к некоторым из ранее заметивших это сходство, я должен, однако, исправить весьма распространенную ошибку. Преимущественно из-за нее на проблему в целом обращали так мало внимания. Речь идет об убеждении, что сходство обусловлено влиянием Гегеля на Конта. [См.: Hutchinson Stirling. Why the Philosophy of History Ends with Hegel and Not with Comte (в: "Supplementary Note" to: A. Schwegler. Handbook of the History of Philosophy); John Tulloch. "Edinburgh Review", 1868, 260. Трельч (E. Troeltsch. Der Historismus und seine Probleme. Gesammelte Schriften III. Tubingen, 1922, p. 24) склонен приписывать влиянию диалектики Гегеля даже знаменитый закон Конта о трех стадиях, хотя в действительности предшественником Конта был Тюрго. См. также: R. Levin. Der Gescshichtsbegriff des Positivismus. Leipzig, 1935, p. 20.] Опирается оно главным образом на тот факт, что отсчет публикаций Конта обычно начинают с его шеститомного "Курса позитивной философии", который выходил с 1830 по 1842 г., тогда как Гегель умер в 1831 г. Однако все свои существенные идеи Конт изложил еще в 1822 г. в своем юношеском сочинении "Система позитивной политики" [Эта работа впервые опубликована в 1822 г. в "Катехизисе индустриалов" Сен-Симона под названием "План научных мероприятий по реорганизации общества", а через два года вышла отдельным изданием и называлась "Система позитивной политики" -- "название, хоть и преждевременное, но правильно передающее размах" его исканий, как много позже напишет сам Конт в предисловии к "Системе позитивной политики", которую он включил в сборник своих ранних работ. Перевод этого приложения на английский язык был выполнен в 1911 г. Д.Хаттоном и вышел под названием "Early Essays in Social Philosophy" в серии "New Universal Library" (издательства "Раутледж"). Вышеуказанные названия работ Конта и ряд цитируемых в тексте выдержек из них приводятся мною по этому изданию.], причем этот opuscule fondainentale <opussule fondamentale (фр.) -- маленький труд, имеющий фундаментальное значение>, как он позднее называл его, был опубликован в сборнике сен-симонистской группы, и потому, как можно предположить, у него было больше читателей и он оказал на них большее влияние, чем его собственный "Курс". Мне эта работа представляется одним из самых плодотворных трактатов XIX в., причем столь блестяще написанным, что более известные теперь тяжеловесные тома "Курса" не идут с ним ни в какое сравнение. Но и "Курс", который, по большей части, лишь развивает идеи, намеченные в этом небольшом сочинении, был задуман уже в 1826 г. и прочитан как серия лекций перед весьма представительной аудиторией в 1828 г. [Подробно о молодых годах Конта и его связях с Сен-Симоном см.: Н. Gouhier. La jeunesse d'Auguste Comte et la formation du positivisme. Paris. 1933--1940, 3 vols.] Таким образом, основные идеи Конта стали достоянием публики не больше, чем через год после выхода гегелевской "Философии права", не более, чем через пару лет после "Энциклопедии философских наук" и, разумеется, раньше, чем вышедшая посмертно "Философия истории", -- это если говорить лишь об основных работах Гегеля, имеющих отношение к нашему вопросу. Иными словами, хотя Конт был на 28 лет моложе Гегеля, по существу их следует считать современниками, и оснований полагать, что Гегель повлиял на Конта, у нас не больше, чем думать, что, наоборот, Конт повлиял на Гегеля. Теперь читатель сможет по достоинству оценить первый, и весьма примечательный во многих смыслах, пример обнаружения сходства между двумя мыслителями. В 1824 г. молодой ученик Конта Гюстав д'Эйшталь поехал учиться в Германию. Вскоре он взволнованно сообщал Конту в своих письмах из Берлина о том, что открыл для себя Гегеля. [Гюстав д'Эйшталь Огюсту Конту, письма от 18 ноября 1824 г. и 12 января 1825 г. в: P. Lafitte. Materiaux pour servir a la biographie d'Auguste Cointe: Correspondance, d'Auguste Comte avec Gustave d'Eichthal. "La Revue Occidentale", 2d ser. 12, 19 annee, 1891, pt. 2, p. 186 ff.] "Ваши результаты, -- пишет он, имея в виду лекции Гегеля по философии истории, -- пребывают в изумительном согласии, несмотря даже на то, что принципы различны или, по крайней мере, кажутся различными". И продолжает, что "совпадения имеют место даже в практических принципах, поскольку Гегель -- защитник правительств, иначе говоря, враг либералов". Несколько недель спустя д'Эйшталь смог сообщить, что он вручил Гегелю экземпляр контовского трактата, и что тот выразил свое удовлетворение и с большой похвалой отозвался о первой части; правда, он сомневается в значительности метода наблюдений, рекомендованного во второй части. А чуть позже Конт даже выражает наивную надежду, что "Гегель мог бы оказаться самым способным распространителем позитивной философии в Германии." [Lettres d'Auguste Comte a divers. Paris, 1905, vol. 2, p. 86 (April 11, 1825).] Впоследствии, как я уже говорил, сходство между Гегелем и Контом отмечалось неоднократно. Но при том, что о нем говорится в таких широко известных книгах, как "Философия истории" Р. Флинта [R. Flint. Philosophy of History in Europe. 1874, vol. 1, pp. 262, 267, 281] и "История европейской мысли" Дж. Т. Мерца [J. Т. Merz. History of European Thought. 1914, vol. 4, pp. 186, 481 ff., 501--503] и что такие выдающиеся и непохожие друг на друга ученые, как Альфред Фуйэ [A. Fouillee Le mouvement positiviste. 1896, pp. 268, 366], Эмиль Меерсон [E. Meyerson. L'explication dans les sciences. 1921, vol. 2, pp. 122--138], Томас Уиттейкер [Т. Wittaker. Reason: A Philosophical Essay with Historical Illustrations. Cambridge, 1934, pp. 7--9], Эрнст Трельч [Troeltsch. Op. cit., p. 408], Эдуард Шпрангер [E. Spranger. Die Kulturzykienteorie und das Problem des Kulturverfalles. "Sitzungberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften", Philosophisch-Historische Klasse, 1926, р. xxlii ff.], обсуждали его (есть десятка два других имен которые я перечислю в сноске) [W. Ashley. Introduction to English Economic History and Theory, 3d ed., 1914 vol. 1, pp. ix--xi; A. W. Benn. History of British Rationalism. 1906, vol. 1, pp. 412, 449, vol. 2, p. 82; E. Caird. The Social Philosophy and Religion of Comte, 2d ed., 1893, p. 51; M. R. Cohen. Causation and its Application to History. "Journal of the History of Ideas", 1942, 3, p. 12; R. Eucken. Zur Wurdigung Comte's und des Positivismus. "Philosophysche Aufsatze Eduard Zeller gewidmet", Leipzig, 1887, p. 67; R. Eucken. Geistige Stromungen der Gegenwart. 1964, p. 164; К. R. Geijer. Hegelianism och Positivism. Lunds Universitets Arsskrift, 1883, 18; G. Gourvitch. L'idee du droit social. 1932, pp. 271, 297; H. Hoeffding. Der inenshliche Gedanke. 1911, p. 41; M. Mandelbaum. The Problem of Historical Knowledge. New York, 1938, p. 312 ff.; G. Mehlis. Die Geschictsphiosophie Hegels und Comtes. "Jahrbuch fur Soziologie", 1927, 3; J. Rambaud. Histoire des doctrines economiques. 1899, pp. 485, 542; E. Rothacker. Einleitung in die Geisteswissenschaften. 1920, pp. 190, 287; A. Salomon. Tocqueville's Philosophy of Freedom. "Review of Politics", 1939, 1, p. 400; M. Schniz Geschichte derfranzosischen Philosophie. 1914, vol. l, p. 2; W. Windelband. Lehrbuch der Geschichte der Philosophie. 1935, p. 554 f. Co статьей: G. Salomon-Delatour. Hegel ou Comte. "Revue positiviste internationale", 1935, 52; 1936, 53, мне удалось ознакомиться же после того, как настоящий очерк был сдан в печать.], -- все же до сих пор мало сделано для систематического исследования этого сходства, хотя нельзя не отметить сравнительный анализ философий истории Конта и Гегеля, проделанный Фридрихом Диттманном [F.Dittmann. Die Geschichtsphilosophie Comtes und Hegels. "Vierteljahresschrift fur wissenschaftliche Philosophie und Soziologie", 1914, 38; 1915, 39], -- работу, на которую я в определенной мере буду опираться. III. Пожалуй, еще более значительным, чем какой бы то ни было список заметивших обсуждаемое сходство, является тот факт, что целый ряд мыслителей на протяжении последних ста лет свидетельствовал об этой родственности иным и более действенным образом. Пренебрежение сходством между двумя оригинальными учениями удивительно, но гораздо больше удивляет аналогичное внимание к поистине поразительному количеству выдающихся фигур, с успехом объединивших в своих воззрениях идеи, заимствованные как у Гегеля, так и у Конта. Я могу привести лишь некоторые имена из этого списка. [Перечень имен, который можно продолжать чуть ли не до бесконечности, включал бы и таких авторов, как Евгений Дюринг, Арнольд Руге, Ж. П. Прудон, В. Парето, Л. Хобхаус, Э. Трельч, У. Дильтей, Карл Лампрехт и Курт Брейциг.] Однако, если я скажу, что он включает Карла Маркса, Фридриха Энгельса и, пожалуй, Людвига Фейербаха -- в Германии, Эрнеста Ренана, Ипполита Тэна и Эмиля Дюркгейма -- во Франции, Джузеппе Мадзини -- в Италии, а из наших современников, пожалуй, следует назвать еще Бенедетто Кроче и Джона Дьюи, то можно представить себе, насколько далеко простирается это влияние. Но у нас будет еще случай попытаться возвести к одному и тому же источнику такие широко распространенные интеллектуальные направления, как совершенно неисторический подход к истории, парадоксально именуемый "историцизмом", и основную часть того, что на протяжении последних ста лет известно под именем социологии, включая самую модную и самую амбициозную ее отрасль -- социологию познания, и тогда читатель, возможно, поймет, почему я придаю такое большое значение этому комбинированному влиянию. Прежде чем приступить к главной задаче, нужно сделать еще одно предварительное замечание: мне следует честно сообщить вам, что я подхожу к ее решению, имея один серьезный недостаток. Что касается Конта, то я, действительно, совершенно не согласен с большинством его взглядов. Тем не менее, это несогласие таково, что все же остается возможность плодотворной дискуссии, поскольку хоть какая-то общая основа существует. Если верно, что критиковать имеет смысл только то, к чему относишься хотя бы с минимальной степенью симпатии, то, боюсь, я не в состоянии выполнить это условие, когда речь идет о Гегеле. Мое отношение к нему всегда соответствовало не только сказанному его самым большим английским почитателем: что его философия доходила "в тщательнейшем исследовании мысли до таких глубин, что по большей части они просто непостижимы" [цит. по: К. R. Popper. The Open Society and Its Enemies. London, 1945, vol. 2, p. 25], но и испытанному Джоном Стюартом Миллем, который "опытным путем обнаружил, ... что знакомство с ним может привести к повреждению рассудка" [J. S. Mill to A. Bain, November 4, 1867 (The Letters of John Stuart Mill, ed. H. S. R. Elliot. London, 1910, vol. 2, p. 93)]. Словом, я должен предупредить вас, что не претендую на понимание Гегеля. Но, к счастью, для моей задачи всестороннего понимания его системы и не требуется. Полагаю, что я достаточно хорошо знаю те стороны его учения, которые оказали (или предполагается, что оказали) влияние на развитие социальных наук. В общем-то, они так хорошо известны, что моя задача будет сводиться преимущественно к тому, чтобы показать, что многие результаты этого развития, обычно приписываемые влиянию Гегеля, с тем же успехом могут объясняться влиянием Конта. Мне кажется, что в основном именно этой поддержкой, полученной гегельянской традицией от почитателей Конта, объясняется то не имеющее иной разгадки обстоятельство, что в области социальных наук гегельянское мышление и язык продолжали главенствовать еще долго после того, как из других областей науки диктат его философии был вытеснен точными науками. IV. Так или иначе, существует одна особенность, лежащая в основе общей теории познания каждого из них, которую я должен отметить -- как ради нее самой, так и потому, что это дает мне возможность обратиться к интересному вопросу, рассмотреть который нигде, кроме этого раздела, я уже не смогу: это вопрос об источнике их одинаковых идей. Речь идет о том пункте в их учениях, к которому у них, на первый взгляд, было диаметрально противоположное отношение: об их подходе к эмпирическим исследованиям. С точки зрения Конта -- из них и состоит вся наука; для Гегеля они целиком лежат за пределами того, что он называет наукой, хотя его ни в коем случае нельзя упрекнуть в недооценке фактического знания, пребывающего в отведенных ему пределах. Сближает их убежденность в том, что эмпирические науки должны быть чисто описательными и ограничиваться установлением закономерностей в наблюдаемых явлениях. В этом смысле оба -- последовательные феноменалисты, поскольку не допускают, что в эмпирической науке возможен переход от описания к объяснению. И дело не в том, что позитивист Конт считает всякое объяснение, всякое обсуждение происхождения явлений бесплодной метафизикой, а Гегель судит о нем, исходя из своей идеалистической философии природы. Их взгляды на задачи эмпирических исследований почти совпадают, как это прекрасно показал Эмиль Меерсон [Meyerson. Ор. cit., особенно -- гл. 13]. Когда, например, Гегель доказывает, что "не дело эмпирической науки объявлять о существовании чего бы то ни было, что не дано нам в ощущениях" [Ibid., p. 50], он такой же позитивист, как Конт. Современный феноменалистический подход к проблемам эмпирической науки безусловно восходит к Декарту, чье непосредственное влияние испытали на себе оба философа. То же самое, как я убежден, можно сказать и о второй существенной особенности, общей для них, и явственнее всего проступающей в мелких подробностях, на которые они смотрят одинаково: я имею в виду свойственный им рационализм, точнее, интеллектуализм. Именно Декарт впервые соединил эти кажущиеся несовместимости: феноменалистический, или сенсуалистический, подход к естествознанию и рационалистические представления о предназначении и функциях человека [J. Laporte. Le Rationalisme de Descartes. Paris, 1950]. Если говорить о тех сторонах декартова наследия, которые интересуют нас больше всего, то они шли к Гегелю и Конту в основном через Монтескье [E. Buss. Montesquieu und Cartesius. "Philosophische Monatshefte", 1869, 4, pp. 1--37; H. Trescher. Montesquieu's Einflussauf die philosophischen Grundlagen der Staatslehre Hegels. "Schmoller's Jahrbuch", 1918, 42], Д'Аламбера [см.: Schinz. Op. cit; G. Misch. Zur Entstehung des franzosischen Positivisinus. "Archiv fur Geschichte der Philosophie", 1901, vol. 14], Тюрго и Кондорсе -- во Франции, Гердера [в своем письме от 5 августа 1824 г. Конт так пишет о Гердере: "предшественник Кондорсе, мой непосредственный предшественник." См.: Lettres d'Auguste Comte a divers. Paris, 1905, vol. 2, p. 56], Канта и Фихте -- в Германии. Но то, что у этих мыслителей было не более, чем смелыми и побуждающими к дальнейшему поиску предположениями, наши два философа превратили в основание для двух мировоззрений, ставших для своей эпохи господствующими. Делая такой упор на общем картезианском происхождении того, что я считаю общими для Гегеля и Конта ошибками, я, разумеется, ни в коей мере не хочу умалить огромных заслуг Декакрта перед современной научной и философской мыслью. Но, как часто случается со многими плодотворными идеями, в конце концов их чрезвычайный успех приводит к тому, что их начинают применять и в тех областях, для которых они совсем не подходят. Именно так, я полагаю, поступили Конт и Гегель. V. Обратившись к области социальной теории, мы увидим, что главные идеи, общие у Гегеля и Конта, пребывают в таком тесном родстве, что их можно почти целиком передать одной фразой, если хорошенько взвесить в ней каждое отдельное слово. Звучала бы она примерно так: главной целью всякого социального исследования должно быть создание универсальной истории всего человеческого рода, понимаемой как схема неуклонного развития человечества в соответствии с познаваемыми законами. О степени проникновения их идей в современный образ мышления говорит уже то, что, высказанные так прямо, без прикрас, они теперь представляют собой почти общее место. Только при условии тщательного анализа мы поймем значение и скрытый смысл этого утверждения и осознаем всю экстраординарность предлагаемого предприятия. Законны, поисками которых заняты оба (и не так уж важно, что Конт преподносит их как "естественные законы" [A. Comte. Cours de philosophie positive, 5th ed. (идентичное с 1-м). Paris, 1893, vol. 4, p. 253; см. также: Early Essays, р. 150], тогда как для Гегеля -- это метафизические принципы) суть -- в первую очередь -- законы развития человеческого сознания. Иными словами, оба они заявляют, что ум индивидуума, являющегося действующим лицом этого процесса развития, в то же самое время в состоянии полностью охватить этот процесс. Именно неизбежная смена этапов развития человеческого ума, предопределенная этими динамическими законами, объясняет соответствующую смену разных цивилизаций, культур и Volksgeiste <Volksgeister (нем.) -- дух народов>, или социальных систем. Между прочим, общий для них упор на господствующую роль интеллектуального развития в этом процессе ни в коей мере не противоречит тому факту, что самая влиятельная научная традиция, вдохновителями которой были они оба, получила неподходящее ей название "материалистического" понимания истории. Конт, который в этом, как и во многом другом, ближе к Марксу, чем Гегель, готовил фундамент для этого направления, когда настаивал на решающем значении естествознания; ведь в конце концов основой так называемого материалистического (или, правильнее, технологического) понимания истории служит утверждение, будто именно наше знание природных и технологических возможностей управляет развитием во всех других сферах. В самом существенном, в своей убежденности, что чей-то ум мог бы объяснить сам себя, а также законы своего прошлого и будущего развития -- у меня нет возможности объяснять здесь, почему, я вижу в этом противоречие [подробный анализ и критику этих идей читатель найдет в части первой настоящей книги] -- оба сходятся; и именно у Гегеля и Конта эту убежденность перенял, а затем передал своим ученикам Маркс. Понятие о законах, управляющих сменой четко различающихся стадий в развитии человеческого разума как такового и во всех его конкретных проявлениях в частности, само собою, подразумевает, что эти целостности, или коллективности, поддаются непосредственному постижению как индивидуальные представители некоторого класса объектов: что можно непосредственно воспринимать цивилизации или общественные системы как объективно данные факты. Подобная претензия неудивительна, если существует в рамках идеалистической системы, вроде гегелевской, то есть, когда она является продуктом концептуального реализма, или "эссенциализма" [см.: К. R. Popper. The Poverty of Historicism. "Econornica", n. s. 1944, vol. 11, p. 94], но на первый взгляд кажется неуместной в системе натуралистической, контовской. Однако на самом деле феноменализм Конта, избегающий всяких мыслительных конструкций и позволяющий признавать только непосредственно наблюдаемое, подталкивает его к позиции, весьма близкой к гегелевской. Поскольку отрицать факт существования общественных структур он не может, то вынужден объявить, что они даны нам в непосредственном опыте. В сущности, он не останавливается перед заявлением, что социальные целостности, без всякого сомнения, знакомы нам и поддаются прямому наблюдению лучше, чем образующие их элементы [Cours, vol. 4, p. 286: "L'ensemble de sujet est certainmet alors beaucoup mieux connu et plus iminediatement abordable que les diverses parties qu'on distinguera ulterieuremet." ("Общая картина, безусловно, гораздо лучше известна и более доступна непосредственному восприятию, чем те разнообразные ее части, которые становятся различимы в итоге.")], и что социальная теория должна поэтому исходить из нашего знания непосредственно постигаемых целостностей [Ibid., р. 291]. Таким образом, он, в неменьшей степени, чем Гегель, отталкивается от интуитивно постигаемых абстрактных понятий об обществе или цивилизации, а затем дедуктивно выводит из них свои заключения о структуре объекта. Он даже берет на себя смелость открыто заявлять (и это достаточно неожиданно для позитивиста) что из такого понимания целого мы можем вывести априорное знание о закономерных связях между частями [Ibid., р. 526]. Именно на этом основании о позитивизме Конта порой говорили как об идеалистической системе [см., например: E. de Roberty. Philosophie du siecle. Paris, 1891, p. 29; Schinz. Op. cit., p. 255]. Как и Гегель, он обращается как с "конкретными универсалиями" [Salomon. Op. cit., p. 400] с теми социальными структурами, знание о которых мы на деле можем получить, только составляя, собирая их из хорошо известных элементов, и идет даже дальше Гегеля, утверждая, что единственной реальностью является общество в целом, тогда как индивидуум -- это всего лишь абстракция [Cours, vol. 6, p. 590, Discours sur l'esprit positive, 1918, p. 118]. VI. Сходство взглядов Гегеля и Конта на эволюцию общества не ограничивается я названными методологическими аспектами. Для обоих общество -- это некий организм, причем в буквальном смысле слова. Оба сравнивают стадии, через которые должна пройти социальная эволюция, с разными этапами естественного роста, через которые проходит индивидуум. И для обоих возрастающий сознательный контроль человека над своей судьбой есть главное содержание истории. Ни Конт, ни Гегель, разумеется, не были историками в настоящем смысле слова -- хотя совсем недавно еще было принято, противопоставляя их предшественникам, говорить о них, как об "истинных историках" [см., например: Dittmann. Op. cit., vol. 38, p. 310; Merz. Op. cit., p. 500], поскольку их подход к истории был "научным" (вероятно потому, что их целью было открытие законов). Но вскоре то, что они преподносили как "исторический метод", стало вытеснять подход великой исторической школы Нибура и Ранке. Принято считать, что более поздний историцизм с его постулатом о закономерной сменяемости "стадий", проявляющейся во всех областях общественной жизни, обязан своим возникновением Гегелю [Popper. Open Society; Karl Lowith. Von Hegel zu Nietzsche. Zurich, 1941, p. 302]; однако очень может быть, что влияние Конта сыграло в этом не меньшую роль, чем влияние Гегеля. Поскольку в терминологии, связанной с этими вопросами, существует путаница [Эта давно создавшаяся путаница еще усугубилась, когда такой выдающийся историк, как Фридрих Майнеке, целиком посвятил свою очень значительную работу (Die Entstehung des Historismus. Munchen, 1936) той более ранней исторической школе, ради противопоставления которой во второй половине XIX в. и был придуман термин "историцизм", См. также: W. Eucken. Die Ueberwindung des Historismus. "Schmoller's Jahrbuch", 1938, 63.], следует, пожалуй, внести ясность: я провожу четкую границу между "исторической школой" начала XIX в., а также большинством более поздних профессиональных историков, и историцизмом Маркса, Шмоллера, Зомбарта. Как раз они были убеждены, что обретают, раскрывая законы развития, единственный ключ к подлинно историческому пониманию, и с совершенно непозволительной самонадеянностью заявляли, что подход прежних авторов (особенно в XVIII в.) был "неисторическим". Мне представляется, что, например, у Давида Юма было гораздо больше оснований считать себя принадлежащим "исторической эпохе и исторической нации" [цит. по: G. Bryson. Man and Society. Princeton, 1945, p. 78], чем у тех приверженцев историцизма, которые пытались превратить историю в теоретическую науку. К каким злоупотреблениям в конце концов приводит такой историцизм, лучше всего показывает тот факт, что даже Макс Вебер -- весьма близкий к нему мыслитель -- однажды был вынужден назвать всю Entwicklungsgedanke (идею развития) "романтическим надувательством" [цит. по: Troeltsch. Op. cit., pp. l89--190n.]. Мой друг Карл Поппер великолепно проанализировал историцизм, и к его анализу (потерявшемуся в выпусках журнала "Economica" военного времени) [К. R. Popper. The Poverty of Historicism. "Econornica", n. s., 1944, 11] я мало что мог бы добавить, разве сказать, что мне кажется правильным возлагать ответственность за историцизм не только на Платона и Гегеля, но в той же мере -- на Конта и вообще позитивизм. Позволю себе повторить, что в изготовлении этого историцизма собственно историки приняли гораздо меньшее участие, чем представители других общественных наук, применявшие то, что по их убеждению, являлось "историческим методом". Лучший пример теоретика, явно руководствовавшегося больше философией Конта, чем Гегеля, -- это, пожалуй, Густав Шмоллер [о влиянии Конта на становление новой исторической школы в немецкой экономической мысли см., в частности: F. Raab. Die Fortschrittsidee bei Gustav Schmoller. Freiburg, 93, p. 72; H. Waentig. Auguste Comte und seine Bedeutung fur die Entwicklung der Sozialwissenschaft. Leipzig, 1894], основатель новой исторической школы в экономической науке. Но, хотя наиболее заметным влияние подобного историцизма, оказалось, скорее всего, в экономических дисциплинах, сам он был своего рода модным течением, захватившим общественные науки сначала в Германии, а потом и в других странах. Можно было бы показать, что на историю искусств [ярчайший тому пример -- Вильгельм Шерер. См. также: Rothacker. Ор. cit, pp. 190--250] он оказал не меньшее влияние, чем на антропологию или филологию. И та огромная популярность, которой в течение последних ста лет пользовались всяческие "философии истории", или теории, приписывавшие историческому процессу некий умопостигаемый "смысл" и рассуждавшие о познаваемости судьбы всего человечества, в сущности является результатом объединенного влияния Гегеля и Конта. VII. Я не буду подробно рассматривать здесь другое, может быть, только внешнее сходство между их теориями: тот факт, что у Конта закономерное развитие согласуется с его знаменитым законом о трех стадиях, а у Гегеля аналогичный трехступенчатый ритм соответствует развитию разума -- диалектическому процессу, через тезис и антитезис приводящему к синтезу. Гораздо более важен факт, что для обоих история -- это путь к предопределенной цели и что она может быть телеологически интерпретирована как цепь последовательно исполняемых замыслов. По существу, их исторический детерминизм, предполагающий не только, что исторические события так или иначе предопределены, но и что мы в состоянии понять, почему им было предначертано именно такое направление, -- это не что иное, как полный фатализм; человек не может изменить ход истории. Даже выдающиеся личности, согласно Конту суть просто "инструменты" [Early Essays, р. 15], или "органы для предопределенного действия" [Cours, vol. 4, p. 298], а по Гегелю -- "Geschaftsfuhrer des Weitgeistes", управляющие делами Мирового Духа, искусно используемые Разумом в его собственных целях. В такой системе не остается пространства для свободы: для Конта свобода -- это "разумное подчинение господству естественных законов" [Ibid., p. 157: "Car la vraie liberte ne peut consister, sans doute, qu'en une soumission rationelle a la seule preponderance, convenablement constatee des lois fondamentales de la nature." ("Ибо подлинная свобода, несомненно, может состоять лишь в разумном подчинении единственной, надлежащим образом установленной власти -- власти фундаментальных законов природы.")], каковыми являются, конечно же, его естественные законы неизбежного развития; для Гегеля -- это осознанная необходимость. [Philosophie der Geschichte. Ed. Reclam, p. 77 ............ ("Разумное необходимо как сущностное, и, признавая его как закон и следуя ему как сущности нашего собственного бытия, мы свободны: объективная и субъективная воля тогда примиряются и образуют одно незамутненное целое.")] И поскольку оба владеют тайной "окончательного и вечного интеллектуального единства" [Cours, vol. 4, p. 144; Early Essays, p. 132] (к которому -- по Конту -- должна привести эволюция) или -- в гегелевском смысле -- "абсолютной истины", оба они претендуют на право насаждать новую ортодоксию. Надо однако признать, что в этом отношении, как и в ряде других, руганный-переруганный Гегель все же бесконечно более либерален, чем "научный" Конт. У Гегеля нет таких свирепых нападок на неограниченную свободу совести, с какими мы то и дело сталкиваемся в работах Конта, и попытки Гегеля использовать механизм прусского государства для насаждения официальной доктрины [Meyerson. Op. cit, p. 130; ср. также: Popper. Open Society, vol. 2, p. 40] выглядят как само смирение рядом с контовским планом новой "религии человечества" и всеми другими его совершенно антилиберальными схемами строжайшей регламентации, которые даже его давний поклонник Джон Стюарт Милль в конечном счете расценил как "свободоубийственные". [В письме Дж. С. Милля к Генриетте Милль (Рим, 15 января 1855 г.) говорится: "Воистину, почти все проекты нынешних социальных реформаторов свободоубийственны -- это касается и Конта (Г. A. Hayek. John Stuart Mill and Harriet Taylor. Chicago, 1951, p. 216.) Полнее о политических выводах Конта, антилиберальная направленность которых оставляет далеко позади все, когда-либо сказанное Гегелем, см. выше.] Я не имею возможности сколько-нибудь подробно освещать вопрос, как эта схожесть политических установок отразилась в столь же сходных оценках тех или иных исторических периодов или институтов. Отмечу только одну, особенно показательную деталь: оба мыслителя обнаруживают одинаковую неприязнь к Греции времен Перикла и к Ренессансу и одинаковое восхищение Фридрихом Великим. [В "Позитивистском календаре" Конта "месяцу новейшей государственности" дано имя Фридриха Великого!] VIII. Последний из существенных пунктов, по которому взгляды Гегеля и Конта совпадают и о котором я хочу упомянуть, представляет собой не более, чем следствие из их историцизма, однако следствие, оказавшее такое самостоятельное влияние, что мне придется обсудить его отдельно. Речь об их полном моральном релятивизме, об их уверенности то ли в том, что все нравственные правила можно обосновать, исходя из условий времени, то ли в том, что ценность имеют только те правила, которые могут быть подобным образом вполне обоснованы, -- не всегда понятно, что именно имеется в виду. Разумеется, эта идея есть обыкновенное проявление исторического детерминизма -- веры, что мы можем адекватно объяснить, почему в те или иные времена люди думали так, а не иначе. Это мнимое проникновение в то, чем управляется человеческая мысль, есть скрытая претензия на умение разбираться в представлениях, возникающих у людей, поставленных в определенные обстоятельства, а также на упразднение любых нравственных правил, не имеющих подобного рода обоснований и, следовательно, иррациональных и никуда не годных. Историцизм особенно ясно обнаруживает здесь свой рационалистический, или интеллектуалистский, характерен [Н. Preller. Rationlismus und Historisimus. "Historische Zeitschrift", 1922, 126]: коль скоро обусловленность всего исторического развития умопостигаема, то и действующими могут быть только такие силы, которые поддаются нашему пониманию. В этом позиция Конта в общем-то не слишком отличается от утверждения Гегеля, что все действительное разумно, а все разумное действительно [Grundlinien der Philosophie des Rechts. Philosophische Bibliothek, Leipzig: Felix Meiner, 1911, p.14], -- только вместо "разумное" Конт сказал бы "исторически необходимое и тем самым оправданное". При таком освещении все представляется ему оправданным условиями времени: рабство и жестокость, суеверие и нетерпимость, -- поскольку (он так не говорит, но это стоит за его рассуждениями) нет таких нравственных правил, которые мы должны признать выходящими за рамки нашего индивидуального разума, нет и не может быть никаких заданных и неосознаваемых предпосылок нашего мышления, из которых мы должны исходить при вынесении моральных суждений. Весьма примечательно, что он мог представить себе только две возможности установления системы нравственных правил: либо она должна быть составлена высшим существом и явлена как откровение, либо обоснована нашим собственным разумом. [Systeme de politique positive. 1854, vol. 1, p. 356: "La superiorite necessaire de de la moral demonstree sur la moral revelee." ("Закономерное превосходство доказуемой этики над этикой откровения.")] И если выбирать из этих двух, то превосходство "доказуемой этики" казалось ему неопровержимым, само собой разумеющимся. Конт был и последовательнее, и решительнее, чем Гегель. Действительно, в главной своей мысли он утвердился уже в девятнадцатилетнем возрасте, когда в самой первой своей публикации писал: "Нет ничего абсолютно благого или абсолютно дурного; все относительно, и только это есть абсолютная истина" [ L'Industrie, ed. Saint-Simon, vol. 3, 2-me cahier]. Впрочем, я, может быть, несколько преувеличиваю влияние двух наших философов в этом частном вопросе, может быть, они просто следовали принятому в их времена образу мышления, который оказался подходящим и для них. О том, как быстро распространялся тогда моральный релятивизм, мы можем составить четкое представление по интересной переписке между Томасом Карлейлем и Джоном Стюартом Миллем. Уже в январе 1833 г. Карлейль писал Миллю, ссылаясь на только что вышедшую "Историю Французской революции" [A. Thiers. Histoire de la revolution francaise, 1823--1827]: "Разве у этого Тьера не замечательная система этики in petto <in petto (итал.) -- в запасе>? Он станет доказывать вам, что одной возможности сделать что-либо почти (если не совершенно) достаточно, чтобы иметь право это сделать: любой герой оказывается совершенно оправданным -- ведь он преуспел в своем деянии." [T. Carlyle to J. S. Mill, January 12, 1833, in: Letters of Thomas Carlyle to John Stuart Mill, John Sterlilg and Robert Browning, ed. Alexander Carlyle, London, 1910.] Милль отвечает на это: "Вы в высшей степени точно охарактеризовали этическую систему Тьера. Боюсь, что это и есть настоящий образец достигнутого молодыми французскими litterateurs (литераторами) и что это все, чего они добились в области этики, пытаясь подражать немцам в отождествлении себя с прошедшим. Подгонка своей точки зрения под мнение тех, кого они якобы осуждают (вместе с их) историческим фaтaлизмoм), позволила им полностью избавиться от всех моральных разграничений, кроме разграничений между успехом и неуспехом." [J. S. Mill to T. Carlyle, February 2, 1833 (не опубликовано; хранится в Национальной библиотеке Шотландии).] Интересно, что Милль, которому было отлично известно, что во Франции подобные идеи распространялись сен-симонистами, все же без колебаний приписывает их появление у молодого французского историка немецкому влиянию. О том, что подобные взгляды привели и Конта, и Гегеля к полному моральному и правовому позитивизму [о правовом позитивизме у Гегеля см. в частности: Н. Heller. Hegel und der nationale Machstaatsgedanke in Deutchland. Leipzig -- Berlin, 1921, p. 166; Popper.The Open Society, vol. 2, p. 39. У Конта -- Cours, vol. 4, 266 ff.] -- а временами они оказывались ужасающе близки к принципу "кто сильнее, тот и прав" -- я могу упомянуть лишь между прочим. Я полагаю, что можно было бы вполне убедительно показать, что их труды оказались в числе главных источников современной традиции правового позитивизма; ведь в конечном счете он представляет собой лишь одно из проявлений все той же основной установки, которая отказывается признавать уместность чего бы то ни было, если оно не может рассматриваться как проявление сознающего разума. IX. Это заставляет нас вспомнить, что в основе всех этих частных сходств между учениями Конта и Гегеля лежит общая для них центральная идея о том, что мы можем достичь куда больших результатов, чем полученные при помощи прежних индивидуалистических подходов с их скромным старанием понять, как взаимодействуют индивидуальные умы, если станем изучать человеческий Разум -- с большой буквы, -- причем, глядя на него извне, как если бы это была некая объективно данная и поддающаяся наблюдению целостность, могущая явиться взору некоего сверхразума. От убежденности в том, что им удалось реализовать давнюю мечту о se ipsam cognoscere mentem <se ipsam cognoscere mentem (лат.) -- сам себя познавший разум> и что они достигли того положения, когда можно предсказывать, в каком направлении пойдет развитие Разума, оставался лишь один шаг до еще более самонадеянного представления, будто разум может теперь сам себя вытянуть за волосы и придти к своему окончательному, или абсолютному, состоянию. Если как следует разобраться, то именно эта интеллектуальная гордыня, семена которой были посеяны еще Декартом или даже Платоном, и есть то, что роднит Гегеля и Конта. Их озабоченность развитием Разума в целом не только помешала им понять процесс взаимодействия отдельных людей, приводящий к появлению в их отношениях таких структур, механизм которых не может быть вполне схвачен индивидуальным разумом, но также заслонила от них факт, что попытка сознающего разума контролировать свое собственное развитие может лишь ограничить это самое развитие рамками того, что доступно предвидению отдельного руководящего ума. Хотя подобное стремление есть непосредственный продукт определенного сорта рационализма, мне все же кажется, что речь идет о неправильно понятом рационализме, которому лучше подошло бы название "интеллектуализм", поскольку это рационализм, не справившийся со своей самой главной задачей, задачей обнаружения пределов, положенных индивидуальному сознающем разуму. И Гегеля, и Конта отличает странная неспособность уяснить, каким образом индивидуальные усилия при взаимодействии могут создавать нечто большее, чем то, что известно отдельным людям. Если Адам Смит и другие великие шотландские индивидуалисты XVIII в. предлагали удовлетворительное объяснение (пусть даже с упоминанием "невидимой руки") [см. мою работу: Individualisin and Economic Order. Chicago, l948, p. 7], то Гегель и Конт сообщают нам только о некой таинственной телеологической силе. И если индивидуализм XVIII в. с его, в сущности, скромными притязаниями стремился как можно лучше понять принципы, в соответствии с которыми объединение индивидуальных усилий ведет к возникновению цивилизации, чтобы узнать, какие условия наиболее благоприятны для ее дальнейшего развития, то Гегель и Конт стали главными источниками той коллективистской гордыни, которая претендует на "сознательное руководство" всеми силами общества. X. Теперь я должен попытаться привести несколько наиболее показательных примеров, чтобы кратко проиллюстрировать сделанные выше намеки, касающиеся направления, восторжествовавшего под объединенным влиянием Гегеля и Конта. Наиболее интересной и заслуживающей детального рассмотрения предстает философия когда-то очень знаменитого, а теперь почти забытого философа Людвига Фейербаха. Если бы этот старый гегельянец, сделавшийся основателем немецкого позитивизма, пришел к своим взглядам, ничего не зная о Конте, это имело бы даже большее значение; но, судя по всему, в молодости он тоже ознакомился с первым вариантом "Системы" Конта. Каким громадным было его влияние не только на других радикально настроенных младогегельянцев, но и на все тогдашнее молодое поколение, можно судить по словам Фридриха Энгельса, писавшего: "все мы стали сразу фейербахианцами" [Ф. Энгельс. Людвиг Фейербах и конец немецкой классической философии. -- К. Маркс, Ф. Энгельс. Собр. соч., т. 21, с. 281]. Созданная фейербахом смесь гегельянства и позитивизма [См. о Фейербахе: S. Rawiclowicz. Ludwig Feuerbachs Philosophie. Berlin, 1931; К. Lowith. Von Hegel zu Nietzsche. Zurich, 1941; A. Levy. La philosophie du Feuerbach. Paris, 1904; F. Lombardi. L. Feuerbach, Florence. 1935. Недавнее исследование о Фейербахе на английском языке -- W. В. Chamberlain. Heaven Wasn't His Destination. London, 1941 -- к сожалению, не выдерживает никакой критики. О широком распространении позитивистских тенденций среди младогегельянцев см., в частности: D. Koigen. Zur Vorgeschichte des modernen philosophischen Sozialismus in Deutschland. Bern, 1901] стала характерной для мировоззрения целой группы немецких социальных теоретиков, получивших известность в 1840-е гг. Всего через год после того, как Фейербах порвал с Гегелем, убедившись, как он говорил позднее, что абсолютная истина -- это всего-навсего абсолютный профессор [L. Feuerbach to W. Bolin, Oct. 20, 1860 (Ausgewahite Briefe von und an Feuerhach, ed. W. Bolin. Leipzig, 1904, vol. 2, pp. 246--247)], в тот самый год, когда вышел последний том контовского "Курса" и добавим, когда молодой Маркс послал издателю свою первую работу, словом, в 1842 г. другой, очень влиятельный и уважаемый автор того времени, Лоренц фон Штейн опубликовал свой труд "Социализм и коммунизм во Франции", в котором, как признано, пытался слить гегельянство с сен-симонизмом, а стало быть, и с философией Конта [Lorentz Stein. Der Socialismus und Communismus im heutigen Frankreich. Leipzig, 1842]. Уже неоднократно отмечалось, что в этой работе Штейн предвосхитил многие из исторических теорий Карла Маркса. [Среди ранних работ по этому вопросу см.: Heinz Nitschke. Die Geschichtsphilosophie Lorenz von Steins. "Historische Zeitschrift", 1932, supp. 26, особенно p. 136; а также: Т. G. Masaryk. Die Philosophischen und soziologishen Grundlagen des Marxismus. Vienna, 1899, p. 34.] Этот факт становится еще более внушительным, если обратить внимание на то, что другой человек, которого позже, чем Штейна, признали предшественником Карла Маркса, француз Жюль Лешевалье, был старым сен-симонистом, обучавшимся при этом в Берлине у Гегеля. [О Жюле Лешевалье см.: Н. Ahrens. Naturrecht 6th ed., Vienna, 1870, vol. 1, p. 204; Charles Pelarin. Notice sur Jules Lechevalier et Abel Transon. Paris, 1877; A. V. Wenckstern. Marx. Leipzig, 1896, p. 205 f.; S. Bauer. Henri de Saint-Simon nach hundert Jahren. "Archiv fur die Geschichte des Sozialismus", 1926, 12, p. 172.] Он заявил о себе на 10 лет раньше, чем Штейн, и, тем не менее, некоторое время оставался одинокой фигурой во Франции. Но в Германии гегельянский позитивизм, если можно так назвать его, превратился в господствующее направление мысли. Именно в этой атмосфере формировались знаменитые ныне теории истории Карла Маркса и Фридриха Энгельса -- по языку скорее гегельянские, но, как я полагаю, происхождением своим гораздо более, чем принято считать, обязанные Сен-Симону и Конту. [Позитивистское влияние на Маркса и Энгельса потребовало бы тщательного анализа в специальном исследовании. Прямое влияние, доходящее до удивительных словесных совпадений, можно обнаружить в сочинениях Энгельса, тогда как влияние на Маркса было, по-видимому, более опосредованным. Некоторые материалы для подобного исследования можно найти в: Т. G. Masaryk. Ор. cit., р. 35; Lucie Prenant. Marx et Comte. -- A la Lumere de marxisme. Paris, vol. 2, pt. l. В своем позднейшем письме к Энгельсу (7 июля 1866 г.) Маркс, который читал тогда Конта и, по-видимому, впервые читал основательно (а не так, как он, возможно, знакомился с сен-симонистскими сочинениями Конта), пишет, что "по сравнению с Гегелем это нечто жалкое." -- Маркс К., Энгельс Ф. Собр. соч., т. 31, с. 197.] И именно то сходство, о котором я здесь говорил, помогло им приспособить гегелевский язык для изложения теории, которая, по собственному признанию Маркса, в некоторых отношениях перевернула философию Гегеля с ног на голову. Возможно, не является случайностью также и то, что почти в это же самое время (в 1841 и 1843 гг.) два человека, которым был гораздо ближе естественнонаучный подход к социальным наукам, чем философия Гегеля, а именно, Фридрих Лист [Feridich List. Nationale System derpolitischen Oeconomie. 1841] и Вильгельм Рошер [Wilhelm Roscher. Grundriss zu Vorlesungen uber die staatswirtschaft nach historischer Methode, 1843] положили начало традиции историцизма в экономическом анализе, сделавшейся для других общественных наук образцом, которому они вскоре стали следовать с большой готовностью. Именно пятнадцать-двадцать лет после 1842 г. [Особое значение 1842 года убедительно показано в: D. Koigen. Ор. cit., р. 236 ff; Hans Freund. Soziologie und Sozialismus. Wurzburg, 1934. Много важного о влиянии позитивизма на немецких историков того времени сообщается в письмах Ю. Г. Дройзена. См., в частности, его письмо Т. фон Шону от 2 февраля 1851 г., где он пишет: "..........." ("Из-за Гегеля и его учеников философия не только была на долгий срок дискредитирована, но и в самом ее существе приведена в состояние разрухи. Поклонение конструирующей, пусть даже творческой, мысли, когда все находит оправдание, привело к фейербаховскому безумству, в отношении методологии, и этики вполне соответствующему известному политехническому направлению"), а также письмо М. Дранкеру от 17 июля 1852 г., в котором есть следующее место: "........." ("Увы и нам, и нашей немецкой мысли, если политехническое убожество, в котором с 1789 года задыхается и захлебывается Франция, если эта вавилонская мешанина вычислительства еще сильнее проникнет в уже испорченную кровь. Далеко зашедший позитивизм, которым усердно занимаются в Берлине, заботится о том, чтобы насадить этакую духовную революцию в тепличных условиях" -- J. G. Droysen. Briefwechsel, ed. R. Hubner. Leipzig, 1929, vol. 2, pp. 48, 120).] -- это годы развития и распространения тех идей, которые позволили Германии в первый раз занять лидирующее положение в общественных науках; и до известной степени именно благодаря реэкспорту из Германии (хотя отчасти также и из Англии через Милля и Бокля) французские историки и социологи, такие, как Тэн [ср.: D. D. Rosca. L'influence de Hegel sur Taine. Paris, 1928; O. Engel. Der Einfluss Hegels auf die Bildung der Gedankenwelt Taines. Stuttgart, 1920] и Дюркгейм [S. Deploige. The Conflict between Ethics and Sociology. St. Louis. 1938, chap. 4], освоили традицию позитивизма тогда же, когда и гегельянство. Именно под флагом этого, произведенного в Германии, историцизма во второй половине XIX в. велась мощная атака против индивидуалистической социальной теории, подвергались сомнению сами основы индивидуалистического и либерального общества и стали господствующими обе традиции: и исторический фатализм, и этический релятивизм. И именно благодаря этому воздействию наиболее влиятельными из существовавших тогда подходов к социальным проблемам стали всевозможные "философии истории" -- от Маркса до Зомбарта и Шпенглера [P. Barth. Die Philosophie der Geschichte als Soziologie. 1925]. Однако, самым характерным выражением такого подхода стала, пожалуй, так называемая "социология познания", две разные (но, впрочем, весьма похожие) ветви которой и по сей день показывают, как два потока мысли, берущие начало один от Конта, другой от Гегеля, оказывают свое воздействие то следуя бок о бок, то перемешиваясь [см.: E. Grunwald. Das Problem der Soziologie des Wissens. Vienna, 1934]. И последний, но столь же значительный пример -- это современные социалистические учения, большинство из которых обязано своим теоретическим обоснованием тому alliance intellectuelle franco-allemande <alliance intellectuelle franco-allemande (фр.) -- франко-немецкий интеллектуальный альянс> (как называл его Селестен Бугле) [C. Bougle. Chez les prophetes socialistes. 1918, chap. 3], который и был альянсом, главным образом, между немецким гегельянством и французским позитивизмом. Позвольте мне завершить этот исторический очерк еще одним замечанием. Что касается общественных наук, то после 1859 г. влияние Дарвина могло не более, чем поддержать уже существующую тенденцию. Возможно, дарвинизм и способствовал проникновению "готовых к употреблению" эволюционных теорий в Англию и Америку. Но, если оценивать такие предпринятые под влиянием дарвинизма попытки "революции" в социальных науках, как, например, попытка Торстейна Веблена и его последователей, то они представляются не более, чем переложением идей, выдвинутых и раскрытых немецким историцизмом под влиянием Гегеля и Конта. Я предполагаю, хотя и не имею доказательств, что при ближайшем рассмотрении и у этой американской ветви историцизма обнаружится еще немало прямых связей с первоначальным источником подобных идей. [То, что идеи Конта оказали влияние на Веблена, кажется достаточно очевидным. См.: W. Jaffe. Les theories economiques et sociales de T. Veblen. Paris, 1924, p. 35.] XI. В этой одной главе невозможно полностью охватить столь обширный предмет. Да я и не рассчитывал, что, сделав несколько замечаний о филиации идей, сумею убедить читателя, что все именно так и есть. Но хотелось бы верить по меньшей мере в то, что я предоставил достаточно свидетельств, подтверждающих мою главную мысль: что мы до сих пор, чаще всего не подозревая об этом, находимся под влиянием идей, прокравшихся в современную научную мысль почти незамеченными -- потому, что их разделяли основатели резко противоположных с виду традиций. В этих вопросах мы до сих пор в очень значительной степени руководствуемся идеями не менее чем столетней давности, точно так же, как в девятнадцатом веке руководствовались преимущественно идеями восемнадцатого века. Но если благодаря идеям Юма и Вольтера, Адама Смита и Канта возник либерализм девятнадцатого века, то идеи Гегеля и Конта, Фейербаха и Маркса явились причиной возникновения тоталитаризма в двадцатом. Очень может быть, что ученые склонны переоценивать то влияние, которое мы в состоянии оказывать на текущие события. Но я сомневаюсь, что можно переоценить то влияние, которым пользуются идеи в долгосрочной перспективе. И не может быть сомнений в том, что мы просто обязаны обнаруживать течения мысли, до сих пор увлекающие за собой общественное мнение, оценивать их значимость и, если это необходимо, бороться с ними. Попытку в общих чертах исполнить первую из этих обязанностей я и предпринял в данной главе. Комментарии (2)Последние темы:
Часть вторая. Контрреволюция науки | Часть третья. Конт и Гегель | Контрреволюция науки (Этюды о злоупотреблениях разумом) |
Все темы
|
| Московский Либертариум, 1994-2020 |