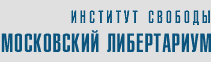1. Смысл историзма
Историзм возник в конце XVIII в. как реакция на
социальную философию рационализма. Реформам и
политике сторонников различных авторов эпохи
Просвещения он противопоставляет программу
сохранения существующих институтов, и иногда
даже возвращение к упраздненным институтам. В
ответ на постулат разума историзм апеллирует к
авторитету традиции и к мудрости ушедших веков.
Основной мишенью его критики были идеи,
инспирировавшие американскую и французскую
революции и аналогичные движения в других
странах. Его сторонники гордо именовали себя
антиреволюционерами и подчеркивали свой
несгибаемый консерватизм. Однако впоследствии
политическая ориентация историзма изменилась.
Он начал считать капитализм и свободную торговлю
-- как внутреннюю, так и международную -- главным
злом и объединил усилия с "радикальными" или
"левацкими" врагами рыночной экономики,
агрессивным национализмом, с одной стороны, и
революционным социализмом, с другой. Насколько
историзм еще имеет политическое значение, он
представляет собой дополнение к социализму и
национализму. Его консерватизм почти улетучился.
Он выжил только в доктринах некоторых
религиозных групп.
Люди постоянно подчеркивают сходство
историзма и романтизма в живописи и литературе.
Эта аналогия весьма поверхностна. Оба движения
демонстрируют влечение к обстоятельствам
ушедших веков и до крайности переоценивают
старые обычаи и институты. Однако энтузиазм в
отношении прошлого не отражает суть историзма.
Историзм прежде всего является
эпистемологической доктриной и должен
рассматриваться в качестве таковой.
Фундаментальным тезисом историзма является
утверждение о том, что помимо естественных наук,
математики и логики не существует никакого иного
знания, кроме того, которое дается историей. В
сфере человеческой деятельности отсутствует
регулярность во взаимной связи и
последовательности событий. Следовательно, все
попытки разработать экономическую науку и
открыть экономические законы тщетны.
Единственным разумным методом изучения
человеческой деятельности, подвигов и
институтов является исторический метод. Историк
прослеживает каждый феномен к его истокам. Он
описывает изменения, происходящие в
человеческих делах. К своему материалу,
документам прошлого, он подходит безо всяких
предубеждений и предвзятых идей. На
предварительных чисто технических и
вспомогательных этапах исследования историк
иногда использует результаты естественных наук,
как, например, при определении возраста
материала, на котором написан документ
оспариваемой аутентичности. Но в своей епархии
-- изложении прошлых событий -- он не полагается ни
на какую другую отрасль знания. Критерии и общие
правила, к которым он прибегает в процессе
исследования исторического материала, должны
выводиться из самого этого материала. Они не
должны заимствоваться ни из какого иного
источника.
Крайность этих требований была несколько
умерена после того, как Дильтей подчеркнул роль,
которую в работе историка играет психология <см.
ниже. Гл. 14, раздел 4>. Поборники историзма
признали эти ограничения и не настаивали на
своем крайнем описании исторического метода.
Просто их интерес заключался в осуждении
экономической теории, а не в споре с психологией.
Если бы сторонники историзма были
последовательны, то они бы заменили
экономической историей -- на их взгляд
поддельную -- науку экономики. (Мы можем обойти
вопрос о том, каким образом можно трактовать
экономическую историю без экономической теории.)
Но это не соответствовало их политическим
планам. Их целью была пропаганда своих
интервенционистских или социалистических
программ. Огульное отрицание экономической
науки было только одним из пунктов их стратегии.
Оно освобождало их от смятения, вызванного
неспособностью справиться с разрушительной
критикой экономистами социализма и
интервенционизма. Но само по себе оно не
доказывало правильности просоциалистической
или интервенционистской политики. Чтобы
обосновать свои "неортодоксальные" учения,
сторонники историзма разработали внутренне
противоречивую дисциплину, называвшуюся
по-разному, например реалистическая или
институциональная или этическая экономическая
теория, или экономические аспекты политической
науки (wirtschaftliche Staatswissenschaften <экономические
общественно-политические науки (нем.). -- Прим.
перев.>) <о других названиях см.: Артур
Шпихоф "Предисловие" к английскому
изданию его трактата о "Деловых циклах"
International Economic Papers, N. Y., 1953. No. 3. Р. 75>.
Большинство сторонников этого направления
мысли не беспокоились об эпистемологическом
объяснении своих процедур. Немногие пытались
обосновать свой метод. Мы можем назвать их
доктрины периодализмом, а их сторонников -- периодалистами.
Основная идея, лежащая в основе всех этих
попыток построить квазиэкономическую доктрину,
которую можно было бы использовать с целью
обоснования политики борьбы с рыночной
экономикой, заимствована из позитивизма. Будучи
сторонниками историзма периодалисты неустанно
твердят о чем-то, что они называют историческим
методом, и утверждают, что являются историками.
Однако на деле они исповедуют основные принципы
позитивизма, отвергающего историю как
бесполезную и бессмысленную болтовню и
стремящегося заменить ее новой наукой,
построенной по модели ньютоновской механики.
Периодалисты разделяют тезис о том, что из
исторического опыта можно апостериори вывести
законы, которые, будучи открытыми, образуют новую
-- еще не существующую -- науку: социальную
физику, социологию или институциональную
экономику.
Версия этого тезиса, принадлежащая
периодалистам, только в одном отношении
отличается от версии позитивистов. Говоря о
законах позитивисты имеют в виду, что эти законы
будут характеризоваться всеобщностью.
Периодалисты считают, что каждый период истории
имеет свои собственные законы, отличающиеся от
законов другого периода экономической истории.
Периодалисты разбивают ход исторических
событий на разные периоды. Очевидно, что
критерием, в соответствии с которым производится
разбиение на периоды, являются характеристики
экономических законов, определяющих
экономическое становление каждого периода.
Таким образом, аргументация периодалистов
движется в круге. Периодизация экономической
истории предполагает знание экономических
законов, свойственных каждому периоду, тогда как
эти законы могут быть открыты только путем
исследования каждого периода без каких-либо
ссылок на события, случающиеся в другие периоды.
Представления периодалистов о ходе истории
выглядят следующим образом. Существуют
различные периоды или этапы экономической
эволюции, следующие один за другим в
определенном порядке; на протяжении каждого из
этих периодов экономические законы остаются
неизменными. Ничего не говорится о переходе от
одного периода к следующему. Если мы предположим,
что он не происходит одним махом, то мы должны
предположить, что существует интервал перехода,
так сказать, переходный период. Что происходит в
этом интервале? Какой тип экономических законов
действует в это время? Является ли это временем
беззакония или оно имеет свои собственные
законы? Кроме того, если допустить, что законы
экономического становления являются
историческими фактами и поэтому изменяются с
течением исторических событий, то это очевидно
противоречит утверждению о существовании
периодов, на протяжении которых не происходит
никаких изменений, т.е. периодов, на протяжении
которых нет никакой истории, и что между двумя
такими периодами покоя есть период перехода.
Та же самая ошибка содержится в концепции
текущей эпохи, используемой современной
псевдоэкономической наукой. Исследования,
изучающие экономическую историю ближайшего
прошлого, определяются как изучающие текущие
экономические обстоятельства. Если мы
определяем некоторый период времени как
настоящий, то мы подразумеваем, что относительно
какой-то проблемы на протяжении этого периода
условия остаются неизменными. Поэтому концепция
настоящего в разных областях деятельности
различна.<Мизес Л. Человеческая
деятельность. С. 97> Кроме того, никогда
точно не известно, как долго будет продолжаться
это отсутствие изменений и, соответственно,
какую часть будущего следует захватить. Все, что
человек может сказать о будущем, всегда
представляет собой просто спекулятивное
предвидение. Изучение каких-либо условий
недавнего прошлого под рубрикой "текущие
условия" всегда является неправильным
названием. Самое большее, что можно сказать:
таковы были вчерашние обстоятельства; мы
ожидаем, что они не изменятся еще какое-то время.
Экономическая теория имеет дело с
регулярностью во взаимной связи и
последовательности явлений, действительной во
всей области человеческой деятельности. Поэтому
она может внести вклад в прояснение будущих
событий; она способна делать предсказания в
границах, определенных праксиологическому
предсказанию <там же. С. 112. См. ниже. Гл. 14,
раздел 3>. Если кто-то отвергает идею
экономического закона, необходимо
действительного для всех эпох, то он уже больше
не имеет возможности обнаружить какую-либо
регулярность, которая оставалась бы неизменной в
потоке событий. Тогда ему остается только
сказать: если условия остаются неизменными на
протяжении некоторого времени, то они останутся
неизменными. Но действительно ли они остаются
неизменными или нет, можно узнать только по
прошествии этого времени.
Честный сторонник историзма должен был бы
сказать: о будущем нельзя утверждать ничего
определенного. Никто не может знать, как
конкретная экономическая политика будет
работать в будущем. Мы можем быть уверены только
в том, что знаем, как похожая политика работала в
прошлом. При условии, что все соответствующие
условия останутся неизменными, мы можем ожидать,
что будущие результаты не будут сильно
отличаться от результатов, полученных в прошлом.
Но мы не знаем, останутся ли интересующие нас
условия неизменными. Следовательно, мы не можем
делать никаких предсказаний о -- необходимо
будущих -- последствиях любого рассматриваемого
мероприятия. Мы имеем дело с историей прошлого, а
не с историей будущего.
Догма, разделяемая многими историками,
утверждает, что тенденции социальной и
экономической эволюции, проявившиеся в прошлом,
и особенно в недавнем прошлом, будут также
существовать и в будущем. Поэтому изучение
прошлого, заключают они, раскрывает характер
событий, который произойдут в будущем.
Оставляя в стороне все метафизические
представления, обременяющие эту философию
тенденций, мы лишь должны осознать, что тенденции
могут изменяться, изменялись в прошлом и будут
продолжать изменяться в будущем <Mises L.
Planning for Freedom. South Holland, III., 1952. P. 163--169>.
Сторонник историзма не знает, когда произойдет
следующее изменение. Все, что он может сказать о
тенденциях, относится только к прошлому и
никогда -- к будущему.
Некоторые немецкие приверженцы историзма
любили сравнивать свою периодизацию
экономической истории с периодизацией истории
искусства. Подобно тому как история искусства
изучает последовательность различных стилей
художественной деятельности, экономическая
история изучает последовательность различных
стилей экономической деятельности (Wirtschaftsstile).
Эта метафора не хуже и не лучше других метафор. Но
последователи историзма не сказали, что историки
искусства говорят только о стилях прошлого и не
разрабатывают доктрин о стилях в искусстве
будущего. В отличие от этого, авторы исторической
школы пишут и читают лекции об экономических
условиях прошлого только для того, чтобы сделать
выводы относительно экономической политики,
которая необходимо направлена на экономические
условия будущего.
2. Неприятие экономической науки
По мнению историзма, главная ошибка
экономической науки заключается в ее
предположении, что человек неизменно эгоистичен
и стремится исключительно к материальному
благополучию.
Согласно Гуннару Мюрдалю, экономическая наука
утверждает, что действия людей "мотивируются
исключительно экономическими интересами" и
рассматривает в качестве экономического
интереса "желание более высокого дохода и
более низких цен и, дополнительно, возможно,
стабильность заработков и занятости, разумное
время на досуг и среду, способствующую его
удовлетворительному использованию, хорошие
условия труда и т.д." Это, говорит он, является
ошибкой. Простая регистрация экономических
интересов не полностью объясняет человеческие
мотивации. В действительности человеческое
поведение определяется не только интересами, но
и социальными установками. "Социальная
установка -- это эмоциональный стереотип реакции
индивида или группы на реальные или
потенциальные ситуации". "К счастью
<существует> много людей, социальные
установки которых не идентичны их интересам"
<Myrdal G. The Political Element in the Development of Economic Theory,
trans. by P. Streeten. -- Cambridge (Mass.): Harvard University Press, 1954. P.
199--200>.
Так вот, утверждение о том, что экономическая
наука всегда настаивала на том, что людьми движет
исключительно стремление к более высокому
доходу и более низким ценам, является ложным.
Вследствие провала попыток распутать кажущийся
парадокс концепции потребительной ценности,
классические экономисты и их эпигоны не сумели
дать удовлетворительной интерпретации
поведению потребителей. Фактически они изучали
только поведение обслуживающих потребителей
деловых людей, для которых оценки их покупателей
являются конечным критерием. Когда они ссылаются
на принцип покупки на самом дешевом рынке и
продажи на самом дорогом рынке, они пытались
интерпретировать действия коммерсанта в роли
поставщика, обслуживающего покупателей, а не в
роли потребителя, расходующего собственный
доход. Они не вдавались в анализ мотивов,
побуждающих индивидов покупать и потреблять. Так
что они не исследовали, пытаются ли индивиды
только набить свое брюхо, или их расходы связаны
также с другими целями, например, с исполнением
того, что они считают своими этическими и
религиозными обязанностями. Разграничивая чисто
экономические мотивы и остальные мотивы,
экономисты классической школы обращались только
к приобретательской стороне человеческого
поведения. Они никогда и не думали отрицать, что
человек движим также и другими мотивами.
Подход экономистов классической школы
представляется в высшей степени
неудовлетворительным с точки зрения современной
субъективной экономической теории. Современная
экономическая наука отвергает как совершенно
ошибочную аргументацию, эпистемологически
обосновывающую классические методы, выдвинутые
их последними приверженцами, особенно Джоном
Стюартом Миллем. Согласно этой неудачной
апологии, чистая экономическая теория изучает
только "экономический" аспект
функционирования человечества, только феномены
производства богатства, "поскольку эти
феномены не видоизменяются преследованием
какой-либо иной цели". Однако, говорит Милль,
чтобы адекватно трактовать реальную
действительность "дидактический автор,
пишущий на эти темы, в своем изложении к истине
чистой науки будет органически добавлять
столько практических модификаций, сколько по его
оценке необходимо для повышения полезности его
работы" <Mill J.S. Essays on Some Unsettled Questions of
Political Economy. 3d ed. -- London, 1877. P. 140--141>.
Безусловно, это подрывает утверждение Мюрдаля в
той части, которая касается классической школы.
Современная экономическая наука находит
причины всех человеческих действий в ценностных
суждениях индивидов. В отличие от того, в чем ее
обвиняет Мюрдаль, она не настолько глупа, чтобы
считать, что все люди стремятся к более высоким
доходам и более низким ценам. В ответ на эту
необоснованную критику, сотни раз повторенную,
Бем-Баверк уже в первой своей работе по теории
ценности, а затем снова и снова недвусмысленно
подчеркивал, что термин "благополучие" {Wohlfahrtszwecke),
используемый им при изложении теории ценности,
относится не только к заботам, обычно называемым
эгоистическими, но и охватывает собой все, что
индивиду представляется желательным и к чему
стоит стремиться (erstrebenswert) <Бем-Баверк
Е. Основы теории ценности хозяйственных благ
//
Австрийская школа в политической экономии / К.
Менгер, Е. Бем-Баверк, Ф. Визер. -- М.: Экономика, 1992.
С. 259 сн.>.
В деятельности человек отдает предпочтение
одной вещи перед другой, и выбирает между
различными вариантами поведения. Результат
психического процесса, заставляющего человека
отдавать предпочтение одной вещи перед другой,
называется ценностным суждением. Говоря о
ценностях и оценках экономическая наука имеет в
виду эти ценностные суждения, каким бы ни было их
содержание. Для экономической теории, наиболее
разработанного раздела праксиологии, не важно,
стремится ли индивид как член профсоюза к более
высоким ставкам заработной платы или как святой
к наилучшему исполнению религиозных
обязанностей. "Институциональный" факт, что
подавляющее большинство людей стремится к
получению большего количества осязаемых благ,
является данностью экономической истории, а не
теоремой экономической науки.
Все разновидности историзма -- немецкая и
британская исторические школы социальных наук,
американский институционализм, адепты Сисмонди,
Ле Плея и Веблена, а также множество родственных
"неортодоксальных" сект -- категорически не
признают экономическую науку. Однако их работы
полны следствий из общих утверждений о
результатах различных образов действий.
Разумеется, невозможно изучать любую
"институциональную" или историческую
проблему, не ссылаясь на такие общие утверждения.
Любое историческое свидетельство, не важно,
касается оно обстоятельств или событий
отдаленного прошлого или вчерашнего дня,
неизбежно основано на определенной
экономической теории Сторонники историзма не
исключают экономических рассуждений из своих
трудов. Отвергая экономические доктрины, которые
им не нравятся, при трактовке событий они
пользуются ложными доктринами, давно
опровергнутыми экономической наукой.
Теоремы экономической науки, говорят
сторонники историзма, бессодержательны,
поскольку являются продуктом априорного
рассуждения. Только исторический опыт может
привести к реалистичной экономической науке. Они
не могут понять, что исторический опыт -- это
всегда опыт сложных явлений, опыт совместных
результатов, вызванных действием огромного
множества элементов. Такой исторический опыт не
предоставляет в распоряжение наблюдателя фактов
в том смысле, в каком естественные науки
применяют этот термин к результатам, полученным
в лабораторных экспериментах. (Люди, называющие
свои здания, кабинеты и библиотеки
"лабораториями" экономических,
статистических и социальных исследований,
являются безнадежными путаниками.) Исторические
факты требуют интерпретации на основе
предварительно имеющихся теорем. Они не
объясняют себя сами.
Антагонизм между экономической наукой и
историзмом касается не исторических фактов. Он
касается интерпретации фактов. Изучая и излагая
исторические факты, ученый может внести ценный
вклад в историю, но он не способствует увеличению
и совершенствованию экономического знания.
Давайте еще раз обратимся к часто повторяемому
утверждению то, что экономисты называют
экономическими законами, является просто
принципами, действительными для капитализма, и
бесполезны для общества, организованного
по-иному, особенно для грядущего
социалистического управления делами. На взгляд
этих критиков только капиталисты с их
приобретательством беспокоятся об издержках и о
прибыли. Как только производство ради
потребления заменит производство ради прибыли,
категории издержек и прибыли станут
бессмысленными. Главная ошибка экономической
науки заключается в том, что она рассматривает
эти и другие категории в качестве вечных
принципов, определяющих деятельность в условиях
любого типа институциональных условий.
Однако издержки являются элементом любого вида
человеческой деятельности, какими бы
индивидуальными характеристиками не отличался
каждый конкретный случай. Издержки суть ценность
тех вещей, от которых субъект деятельности
отказывается, чтобы достичь того, чего он хочет
добиться; это ценность, которую он присваивает
самому настоятельно желаемому удовольствию
среди тех удовольствий, которые он не может иметь
из-за того, что предпочел им другое. Это цена,
которая платится за вещь. Если молодой человек
говорит: "Эти экзамены стоили мне выходных с
друзьями на природе", он имеет в виду: "Если
бы я не выбрал подготовку к экзаменам, то я провел
бы эти выходные с друзьями на природе". Вещи,
для достижения которых не требуется никаких
жертв, являются не экономическими благами, а
бесплатными благами, и в качестве таковых не
являются целью никаких действий. Экономическая
наука их не изучает. Человек не должен выбирать
между ними и другими удовольствиями.
Прибыль представляет собой разницу между более
высокой ценностью полученного блага и более
низкой ценностью блага, пожертвованного для его
получения. Если деятельность, вследствие
путаницы, ошибки, неожиданного изменения условий
или иных обстоятельств, приводит к получению
чего-либо, чему действующий субъект присваивает
меньшую ценность, чем уплаченная цена, то
деятельность приводит к убыткам. Так как
действие неизменно нацелено на то, чтобы
заменить положение дел, которое действующих
субъект считает менее удовлетворительным,
положением дел, которое он считает более
удовлетворительным, то действие всегда нацелено
на прибыль и никогда -- на убытки. Это
действительно не только для действий индивидов в
рыночной экономике, но и в не меньшей степени для
действий экономического директора
социалистического общества.
3. Поиск законов исторических изменений
Очень часто историзм ошибочно отождествляют с
историей. Однако они не имеют между собой ничего
общего. История является изложением прошлых
событий и обстоятельств, утверждением фактов и
об их следствиях. Историзм представляет собой
эпистемологическую доктрину.
Некоторые школы историзма заявляют, что
история -- единственный способ изучения
человеческой деятельности и отрицают
адекватность, возможность и содержательность
общей теоретической науки о человеческой
деятельности. Другие школы осуждают историю за
ее ненаучность и, что достаточно парадоксально, с
сочувствием относятся к негативной части
доктрин позитивистов, требующих создать новую
науку, которая по образцу ньютоновской физики
должна из исторического опыта вывести законы
исторической эволюции и "динамических"
изменений.
Естественные науки на основе второго закона
термодинамики Карно сформулировали доктрину о
ходе истории во Вселенной. Свободная энергия,
способная работать, зависит от
термодинамической нестабильности. Процесс
производства этой энергии необратим. Как только
истощится вся свободная энергия, производимая
нестабильными системами, жизнь и цивилизация
прекратятся. В свете такого понимания Вселенная
в том виде, как мы ее знаем, появляется как
мимолетный эпизод в потоке вечности. Она
движется к собственному угасанию.
Но закон, из которого сделан этот вывод, второй
закон Карно, сам по себе не является историческим
или динамическим законом. Подобно всем другим
законам естественных наук он выведен из
наблюдений за явлениями и подтвержден
экспериментально. Мы называем его законом,
потому что он описывает процесс, который
повторяется всякий раз, когда существуют условия
для его действия. Этот процесс необратим, и из
этого факта ученые делают вывод о том, что
условий, требующихся для его действия, не будет
существовать, как только исчезнет всякая
термодинамическая нестабильность.
Понятие закона исторических изменений
внутренне противоречиво. История представляет
собой последовательность явлений,
характеризующихся единичностью. Те свойства,
которые у одного события являются общими с
другими событиями, не являются историческими. То,
что есть общее в делах об убийствах, относится к
уголовному кодексу, психологии и к технике
убийства. Как исторические события убийства Юлия
Цезаря и Генриха IV совершенно различны. Для
истории имеет значение важность события для
производства дальнейших событий. Влияние,
оказываемое событием, уникально и неповторимо. С
точки зрения американского конституционного
права президентские выборы 1860 и 1956 гг.
принадлежат к одному классу. Для истории они
являются двумя разными событиями в потоке
событий. Если историк их сравнивает, он делает
это с целью выявить существующие между ними
различия, а не для того, чтобы открыть законы,
управляющие любым случаем президентских выборов
в Америке. Иногда люди формулируют определенные
эмпирические правила в отношении таких выборов,
например: партия, находящаяся у власти,
выигрывает, если экономика процветает. Эти
правила являются попыткой понять поведение
избирателей. Никто не приписывает им
необходимости и аподиктической
действительности, являющихся главным логическим
признаком законов естественных наук. Каждый
отдает себе отчет в том, что избиратели могут
повести себя иначе.
Второй закон Карно не является результатом
изучения Вселенной. Он представляет собой
утверждение о явлениях, которые повторяются
ежедневно и ежечасно именно так, как описывает
закон. Из этого закона наука дедуцирует
определенные следствия, касающиеся будущего
Вселенной. Это выведенное знание само по себе не
является законом. Это применение закона. Это
предсказание будущих событий, сделанное на
основе закона, который описывает то, что
считается неизбежной необходимостью в
последовательности повторимых и повторяемых
событий.
Точно также принцип естественного отбора
Дарвина не является законом исторической
эволюции. Он пытается объяснить биологические
изменения действием биологического закона. Он
интерпретирует прошлое, а не предсказывает то,
что случится. Несмотря на то, что можно считать,
что принцип естественного отбора действует
вечно, недопустимо делать вывод, что человек
неизбежно должен развиться в сверхчеловека.
Линия эволюционных изменений может вести в
тупик, за которым не происходит никаких
дальнейших изменений, или к деградации к
предшествующим состояниям.
Из наблюдений исторических изменений нельзя
вывести никаких общих законов; программу
"динамического" историзма можно
реализовать только открыв, что действие одного
или нескольких праксиологических законов должно
неизбежно привести к возникновению определенных
условий в будущем. Праксиология и ее к настоящему
моменту самая разработанная отрасль,
экономическая наука, никогда не заявляли, что им
что-либо известно об этом. Ввиду того, что
историзм отвергает праксиологию, он с самого
начала перекрывает себе возможность проведения
такого исследования.
Все, что говорилось о неизбежно грядущих
будущих исторических событиях, проистекает из
пророчеств, разработанных метафизическими
методами философии истории. С помощью интуиции
эти авторы угадывают планы перводвигателя, и вся
неопределенность в отношении будущего исчезает.
Автор Апокалипсиса [44], Гегель, и особенно Маркс,
считали, что им точно известны законы
исторического развития. Но не наука была
источником их знания; это было откровение
внутреннего голоса.
4. Релятивизм историзма
Идеи историзма можно понять, если принять во
внимание, что они преследуют одну цель:
опровергнуть все, что установили
рационалистическая социальная философия и
экономическая наука. Преследуя эту цель, многие
адепты историзма не пытаются избегать даже
полного абсурда. Так, утверждению экономистов о
существовании неизбежной редкости природных
факторов, от которых зависит человеческое
благополучие, они противопоставляют
фантастическое утверждение о наличии изобилия и
достатка. Причину нужды и нищеты они усматривают
в несовершенстве социальных институтов.
Когда экономист говорит о прогрессе, он смотрит
на обстоятельства с точки зрения действующих
людей. В его концепции прогресса нет ничего
метафизического. Подавляющее большинство людей
хотят жить, и они желают быть здоровыми и
избегать болезней; они желают жить комфортно, а
не существовать на грани голода. В глазах
действующих людей движение к этим целям означает
улучшение, обратное движение означает ухудшение.
В этом заключается смысл применяемых
экономистами терминов "прогресс" и
"регресс". В этом смысле снижение
младенческой смертности и борьбу с
инфекционными заболеваниями они называют
прогрессом.
Вопрос не в том, делает ли этот прогресс людей
счастливыми Он делает их более счастливыми, чем
они были бы в противном случае. Большинство
матерей чувствуют себя более счастливыми, если
их дети выживают, и большинство людей чувствуют
себя более счастливыми, не болея туберкулезом.
Смотря на обстоятельство со своей личной точки
зрения, Ницше высказывал опасения о "слишком
много" [45]. Однако объекты его презрения думали
иначе.
Исследуя средства, которые люди используют в
своих действиях, история, так же как и
экономическая наука, различает средства,
подходящие для достижения преследуемых целей, и
средства, не годящиеся для этого. В этом смысле
прогресс -- это замена менее подходящих методов
действия более подходящими. Все происходящее
относительно и должно оцениваться с точки зрения
своей эпохи. Хотя ни один поборник историзма не
осмелится настаивать на том, что изгнание
нечистой силы когда-либо было подходящим
средством лечения больных коров, тем не менее
сторонники историзма менее осторожны при
обращении с экономической наукой. Например, они
заявляют, что учение экономической науки о
последствиях контроля над ценами неприменимо к
условиям Средних веков. Исторические работы
авторов, находящихся под влиянием идей
историзма, невнятны именно вследствие их
неприятия экономической науки.
Подчеркивая, что они стремятся не судить
прошлое по каким-либо предвзятым критериям,
фактически, сторонники историзма пытаются
оправдать экономическую политику "доброго
старого времени". Вместо того, чтобы подходить
к предмету своего исследования, вооружившись
лучшими интеллектуальными инструментами, они
полагаются на небылицы псевдоэкономистов. Они
суеверно считают, что декретирование и
удерживание цен ниже уровня потенциальных цен,
которые установились бы на свободном рынке,
является подходящим средством создания лучших
условий для покупателей. Они замалчивают
документальные свидетельства краха политики
справедливых цен и ее последствий, которые, с
точки зрения прибегавших к ней правителей, были
более нежелательными, чем предшествовавшее
состояние дел, которое они намеревались
изменить.
Один из упреков, предъявляемых приверженцами
историзма экономистам, состоит в якобы
отсутствии у последних исторического чувства.
Они утверждают, что экономисты считают, что
материальные условия жизни более ранних эпох
можно было бы улучшить, если бы люди были знакомы
с теориями современной экономической науки.
Действительно, нет никаких сомнений, что
положение дел в Римской империи было бы
существенно иным, если бы императоры не
занимались порчей денег и не приняли бы на
вооружение политику ценовых потолков. Не менее
очевидно и то, что массовая нищета в Азии была
вызвана тем, что деспотичные правительства
пресекали в зародыше все попытки накопить
капитал. Азиаты, в отличие от западноевропейцев,
не выработали правовую и конституционную
систему, предоставлявшую возможность
крупномасштабного накопления капитала. А народ,
движимый старым заблуждением, что богатство
деловых людей является причиной нищеты
остального народа, рукоплескал всякий раз, когда
правители конфисковывали имущество удачливых
купцов.
Экономисты всегда отдавали себе отчет в том,
что эволюция идей -- медленный, требующий много
времени процесс. История знания -- это описание
последовательных шагов, совершаемых людьми,
каждый из которых что-то добавляет к мыслям его
предшественников. Не удивительно, что Демокрит
из Абдер не разработал квантовую теорию или что
геометрия Пифагора и Евклида отличается от
геометрии Гильберта. Никто никогда не
предполагал, что современники Перикла могли бы
создать философию свободной торговли Юма, Адама
Смита и Рикардо и превратить Афины в центр
капитализма.
Нет необходимости анализировать мнение многих
представителей историзма, считающих, что душе
некоторых народов практика капитализма
представляется столь омерзительной, что они
никогда ее не воспримут. Если такие народы
существуют, то они навсегда останутся бедными.
Иной дороги к процветанию и свободе не
существует. Может ли кто-нибудь из сторонников
историзма опровергнуть эту истину на основании
исторического опыта?
Из исторического опыта невозможно вывести
никаких общих правил относительно последствий
различных способов действия и конкретных
общественных институтов. В этом смысле верен
известный афоризм о том, что изучение истории
учит только одному: а именно что история ничему
не учит. Поэтому мы можем согласиться с адептами
историзма в том, чтобы не обращать особого
внимания на тот неоспоримый факт, что ни один
народ не поднялся до сколько-нибудь
удовлетворительного уровня благосостояния и
цивилизации без института частной собственности
на средства производства. Не история, а
экономическая наука вносит ясность в наши мысли
о влиянии прав собственности. Однако мы должны
категорически отвергнуть рассуждение, очень
популярное среди многих авторов XIX в.: тот факт,
что институт частной собственности якобы был
неизвестен людям на первобытной ступени
цивилизации якобы является веским аргументом в
пользу социализма. Начав как предвестники
будущего общества, которое уничтожит все
социальное зло и превратит землю в рай, многие
социалисты, например, Энгельс, фактически стали
адвокатами якобы блаженных условий мифического
золотого века далекого прошлого.
Адептам историзма никогда не приходило на ум,
что за любое достижение человек должен платить
свою цену. Люди платят только в том случае, если
считают, что выгоды от получаемой вещи
перевешивают потери от жертвования чем-то
другим. Трактуя этот вопрос, представители
историзма питаются иллюзиями романтической
поэзии. Они проливают слезы по поводу уродования
природы цивилизацией. Как прекрасны были
нетронутые девственные леса, водопады, пустынные
берега до того, как жадность алчных людей
испортила их красоту! Эти романтики от историзма
обходят молчанием то, что леса вырубались для
получения пахотной земли, а водопады
использовались для производства электроэнергии
и света. Нет сомнений, Кони-Айленд во времена
индейцев был более идилличным, чем сегодня. Но в
его нынешнем состоянии он дает миллионам
ньюйоркцев возможность отдохнуть. Все разговоры
о великолепии нетронутой природы бессмысленны,
если не учитывать то, что получает человек,
"оскверняя" природу. Безусловно, красоты
Земли были великолепны, пока на них редко ступала
нога визитеров. Коммерчески организованный
поток туристов сделал их доступными для многих.
Человек, думающий: "Как жаль, что я не один на
этой вершине! Незваные гости портят мне все
удовольствие", забывает, что он, возможно, не
смог бы взобраться на этот пик самостоятельно,
если бы фирма-оператор не предоставила все
необходимое оборудование.
Метод, с помощью которого приверженцы
историзма предъявляют обвинение капитализму, в
действительности весьма прост. Все его
достижения они воспринимают как само собой
разумеющееся, и винят его в исчезновении
некоторых несовместимых с ним удовольствий, а
также в некоторых несовершенствах, все еще
искажающих его результаты. Они забывают, что за
свои достижения человечество должно платить
определенную цену — эта цена платится
добровольно, потому что люди считают, что
получаемая выгода, например увеличение средней
продолжительности жизни, более желательна.
5. Растворение истории
История -- это последовательность изменений.
Каждая историческая ситуация обладает своей
индивидуальностью, своими собственными
характеристиками, отличающими ее от любой другой
ситуации. Река истории никогда не возвращается в
однажды пройденную точку. История неповторима.
Утверждение этого факта не является выражением
какого-либо мнения относительно биологической и
антропологической проблемы происхождения
человечества от общих человеческих предков.
Нет необходимости поднимать вопрос, случилась ли
трансформация человекообразных приматов в вид homo
sapiens только один раз в определенное время и в
определенной части земной поверхности или
происходила несколько раз, что привело к
возникновению различных первоначальных рас.
Установление этого факта не означает также
существования единства цивилизации. Даже если мы
предположим, что все люди являются потомками
общих человеческих предков, все равно остается
фактом, что редкость средств к существованию
заставила людей рассеяться по всему земному
шару. Рассеивание привело к изоляции различных
групп. Каждая из этих групп решала для себя
специфическую проблему жизни: как реализовать
сознательное стремление к улучшению условий
существования, гарантирующих выживание. Так
возникли разные цивилизации. Возможно, мы
никогда не узнаем, до какой степени конкретные
цивилизации были изолированы и независимы друг
от друга. Но несомненно, что в некоторых случаях
культурная изоляция длилась тысячи лет. И только
экспедиции европейских мореплавателей и
путешественников в конце концов положили ей
конец.
Многие цивилизации зашли в тупик. Они либо были
разрушены иностранными завоевателями, либо
разложились изнутри. Рядом с руинами
удивительных построек потомки их строителей
живут в нищете и невежестве. Культурные
достижения предков, их философия, технология, а
часто даже язык, преданы забвению, а люди впали в
варварство. В некоторых случаях литература
угасшей цивилизации была сохранена и, будучи
заново открытой учеными, оказала влияние на
последующие поколения и цивилизации.
Другие цивилизации развились до определенной
точки и затем остановились. Они были застойными,
как выразился Бэйджхот <Bagehot W. Physics and
Politics. -- London, 1872. Р. 212>. Люди пытались
сохранить достижения прошлого, но больше уже не
планировали добавлять к ним что-либо новое.
Непоколебимым догматом социальной философии
XVIII в. был мелиоризм. Как только суеверия,
предрассудки и ошибки, приведшие к гибели
древних цивилизаций, уступят место господству
разума, условия человеческого существования
выйдут на траекторию постоянного улучшения. Мир
с каждым днем будет становиться все лучше.
Человечество уже никогда не вернется в мрачную
эпоху обскурантизма. Прогресс к высшим ступеням
благосостояния и знания неодолим. Все
реакционные движения обречены на неудачу.
Современная философия больше не придерживается
таких оптимистических взглядов. Мы понимаем, что
наша цивилизация также уязвима. Правда, она
защищена от атак со стороны внешних варваров. Но
она может быть разрушена изнутри варварами
доморощенными.
Цивилизация является продуктом человеческих
усилий, достижений людей, жаждущих побороть силы,
враждебные их благополучию. Эти достижения
зависят от использования людьми подходящих
средств. Если избранные меры не годятся для
достижения преследуемых целей, то наступает
катастрофа. Плохая экономическая политика может
разрушить нашу цивилизацию, как было разрушено
множество других цивилизаций. Но ни разум, ни
опыт не подтверждают предположения, что мы не
можем избежать выбора плохой экономической
политики и тем самым разрушения нашей
цивилизации.
Некоторые доктрины гипостазируют понятие
цивилизации. На их взгляд, цивилизация -- это в
определенном смысле живое существо. Она
появляется на свет, некоторое время цветет и, в
конце концов, умирает. Все цивилизации, какими бы
разными они ни представлялись поверхностному
наблюдателю, имеют одинаковую структуру. Они
неизбежно должны пройти одну и ту же
последовательность стадий. Истории не
существует. То, что ошибочно называют историей, в
действительности представляет собой
последовательность событий, принадлежащих к
одному и тому же классу; как выразился Ницше,
вечное повторение.
Эта идея очень стара, и ее истоки можно найти в
античной философии. Ее контуры намечены
Джамбаттиста Вико. Идея играла определенную роль
в попытках некоторых экономистов проследить
параллелизм в экономической истории разных
стран. Своей популярностью в наши дни она обязана
книге Освальда Шпенглера "Закат Европы". В
несколько смягченном виде и оттого
непоследовательная, она явилась основной идеей
объемного труда "Постижение истории", над
которым Арнольд Дж. Тойнби еще продолжает
работать. Нет никаких сомнений в том, что и
Шпенглером, и Тойнби двигало широко
распространенное пренебрежительное отношение к
капитализму. Шпенглер явно стремился
предсказать неизбежное крушение нашей
цивилизации. Несмотря на то, что он не поддался
хилиастическим пророчествам марксистов [46], сам
он был социалистом и находился под влиянием
диффамации социалистами рыночной экономики. Он
был достаточно благоразумен, чтобы понять
катастрофические последствия политики немецких
марксистов. Однако, не имея никаких
экономических знаний и, более того, испытывая
презрение к экономической науке, он пришел к
выводу о том, что наша цивилизация вынуждена
выбирать одно из двух зол, любое из которых
обязательно ее разрушит. Доктрины Шпенглера и
Тойнби ясно демонстрируют, что игнорирование
экономической науки в любом обсуждении дел
человеческих, приводит к плачевным результатам.
Действительно, западная цивилизация приходит в
упадок. Но ее упадок заключается как раз в
одобрении антикапиталистических убеждений.
Мы можем сказать, что Шпенглер растворяет
историю в жизнеописаниях частных образований,
различных цивилизаций. Он не сообщает нам в
точных терминах, какие особенности
характеризуют отдельную цивилизацию как таковую
и чем она отличается от других цивилизаций. Все,
что мы узнаем об этом важном вопросе, носит
метафорический характер. Цивилизация подобна
биологическому существу; она рождается, растет,
взрослеет, увядает и умирает. Подобные аналогии
не заменяют собой недвусмысленных пояснений и
определений.
Историческое исследование не может изучать все
сразу: оно должно разделять и подразделять
тотальность событий. Из целостного тела истории
оно вырезает отдельные главы. Применяемые при
этом принципы определяются тем, как историк
понимает явления и события, ценностные суждения
и вызываемые ими действия. а также отношение этих
действий к дальнейшему ходу событий. Почти все
историки соглашаются с тем, что историю разных,
более или менее изолированных народов и
цивилизаций следует рассматривать по
отдельности. Различие мнений относительно
применения этой процедуры к конкретным
проблемам можно урегулировать путем тщательного
исследования каждого отдельного случая. Против
идеи выделения из исторической тотальности
различных цивилизаций нельзя выдвинуть никаких
эпистемологических возражений.
Но доктрина Шпенглера подразумевает нечто
совсем иное. В ее контексте цивилизация
представляет собой Gestalt, целое,
индивидуальность определенной природы. То, что
определяет ее зарождение, изменение и
исчезновение, проистекает из ее собственной
природы. Исторический процесс состоит не из идей
и действий индивидов. По сути дела, никакого
исторического процесса не существует.
Цивилизации на Земле появляются на свет, живут
некоторое время и умирают точно так же, как
отдельные экземпляры любого вида растений
рождаются, живут и увядают. Что бы человек ни
делал, это не имеет никакого значения для
конечного исхода. Любая цивилизация должна
прийти в упадок и умереть.
Нет ничего плохого в том, чтобы сравнивать
разные исторические события и разные события в
истории разных цивилизаций. Но утверждение, что
любая цивилизация должна пройти
последовательность неизбежных стадий, ничем не
обосновано.
Г-н Тойнби слишком непоследователен, чтобы
лишить нас всякой надежды на выживание нашей
цивилизации. В то время как весь смысл его
исследования в том, чтобы указать, что процесс
цивилизации состоит из периодически
повторяющихся движений, он добавляет, что это
"не подразумевает, что сам процесс имеет такой
же циклический характер, как они". Приложив
огромные усилия, чтобы показать, что шестнадцать
цивилизаций уже погибло, а девять других
находятся при смерти, он выражает смутный
оптимизм относительно двадцать шестой
цивилизации <Toynbee A.J. A Study of History. Abridgment of
Volumes I-IV by D.C Somervell. -- Oxford University Press, 1947. P. 254. [См.: Тойнби
А. Постижение истории. -- М.: Прогресс, 1991. 732 с.]>.
История есть летопись человеческой
деятельности. Человеческая деятельность -- это
сознательные усилия людей, направленные на то,
чтобы заменить менее удовлетворительные
обстоятельства более удовлетворительными. Идеи
определяют, что должно считаться более, а что
менее удовлетворительными обстоятельствами, а
также к каким средствам необходимо прибегнуть,
чтобы их изменить. Таким образом идеи являются
главной темой изучения истории. Идеи не
представляют собой постоянного запаса,
неизменного и существующего от начала вещей.
Любая идея зародилась в определенной точке
времени и пространства в голове индивида.
(Разумеется, постоянно случается так, что одна и
та же идея независимо появляется в головах
разных индивидов в разных точках пространства и
времени.) Возникновение каждой новой идеи суть
инновация; это добавляет нечто новое и прежде
неизвестное к ходу мировых событий. Причина, по
которой история не повторяется, состоит в том,
что каждое историческое событие -- это
достижение цели действия идей, отличающихся от
тех, которые действовали в других исторических
состояниях.
Цивилизация отличается от простых
биологических и физиологических аспектов жизни
тем, что является результатом идей. Сущность
цивилизации составляют идеи. Если мы пытаемся
разграничить различные цивилизации, то differentia
specifica <отличительный признак (лат.). -- Прим.
перев.>, может быть найден только в
различном смысле идей, который их определяет.
Цивилизации отличаются одна от другой именно
качеством содержания, характеризующего их как
цивилизацию. В своей сущностной структуре
цивилизации они являются уникальными
индивидами, а не членами класса. Это не позволяет
нам сравнивать превратности их судьбы с
физиологическими процессами, происходящими в
жизни отдельного человека или отдельного
животного. В каждом животном теле происходят
одни и те же физиологические изменения. Ребенок
созревает в утробе матери, рождается, растет,
взрослеет, увядает и умирает в результате одного
и того же цикла жизни. С цивилизациями все
обстоит иначе. Цивилизации несопоставимы и
несоизмеримы, поскольку они приводятся в
движение разными идеями и поэтому развиваются
по-разному.
Идеи не должны классифицироваться
безотносительно к здравости их содержания. Люди
имеют различные представления о лечении рака. До
настоящего времени ни одна из этих идей не дала
полностью удовлетворительных результатов.
Однако это не оправдывает вывод о том, что
вследствие этого будущие попытки лечения рака
также будут безуспешными. Историк прошлых
цивилизаций может заявить: что-то не так с идеями,
на которых были построены цивилизации,
разложившиеся изнутри. Но из этого факта он не
должен делать вывод, что другие цивилизации,
построенные на других идеях, также обречены. В
телах животных и растений действуют силы,
которые в конце концов должны их разрушить. В
"теле" цивилизации невозможно обнаружить
никаких сил, которые не были бы результатом их
специфических идеологий.
Не менее тщетны попытки найти в истории разных
цивилизаций параллелизм или идентичные этапы на
протяжении их жизни. Мы можем сравнивать историю
различных народов и цивилизаций. Но эти
сравнения должны изучать не только сходство, но и
различие. Стремление обнаружить сходство
побуждает авторов игнорировать или даже
утаивать отличия. Первая задача историка -- изучать исторические события. Сравнения, которые
проводятся после получения максимально полного
знания событий, могут быть безобидными, а иногда
даже поучительными. Сравнения, которые
сопутствуют или даже предшествуют изучению
источников, порождают путаницу, если не
откровенные небылицы.
6. Отмена истории
Всегда существовали люди, прославляющие старые
добрые деньки и проповедующие возвращение к
счастливому прошлому. Сопротивление юридическим
и конституционным новшествам со стороны тех,
кому они причиняют вред, часто кристаллизуется в
программы, предлагающие восстановление древних
институтов, или предположительно древних
институтов. В некоторых случаях реформы,
нацеленные на нечто новое, рекомендовались как
восстановление древнего закона. Самый известный
пример -- роль Великой хартии вольностей [47]
в
идеологиях антистюартовских партий в Англии XVII
в.
Но именно адепты историзма первыми открыто
предложили устранить исторические изменения и
вернуться в исчезнувшие условия отдаленного
прошлого. Нет нужды исследовать экстремистские
крайности этого движения, как, например, попытки
немцев возродить культ Одина. Более умеренные
аспекты этих тенденций также не заслуживают
ничего, кроме иронических комментариев.
(Журнальная карикатура, изображающая членов
Ганноверско-Кобургской династии, шествующих в
одеяниях шотландского рода сражавшегося при
Гуллодене [48], сильно удивила бы "Мясника"
Камберлендского.) Внимания требуют имеющиеся
здесь языковые и экономические проблемы.
По ходу истории в лету канули многие языки.
Некоторые исчезли, не оставив никакого следа.
Другие сохранились в старых документах, книгах и
надписях, так что ученые могут их исследовать.
Некоторые "мертвые" языки -- санскрит,
древнееврейский, древнегреческий и латынь
-- оказывают влияние на современную мысль
благодаря философской и поэтической ценности
идей, высказанных в их литературе. Остальные
являются просто объектами филологических
исследований.
Процесс, приводящий к исчезновению языка, во
многих случаях представлял собой просто
лингвистический рост и трансформацию
разговорной речи. Длинная последовательность
небольших изменений настолько трансформировала
фонетические формы, словарь и синтаксис, что
более поздние поколения уже не могли прочитать
документы, оставленные их предками. Разговорный
язык развился в новый, совершенно другой язык.
Старый язык могли понимать только те, кто прошел
специальное обучение. Смерть старого языка и
рождение нового были результатом медленной,
мирной эволюции.
Однако во многих случаях лингвистические
изменения были следствием политических и
военных событий. Народ, говорящий на иностранном
языке, достигал политического и экономического
господства либо путем военного завоевания, либо
благодаря превосходству своей цивилизации. Те,
кто разговаривал на местном наречии, оттеснялись
на подчиненные позиции. По причине их социальной
и политической недееспособности, не играло
большой роли, что они должны были говорить и как
они это говорили. Важные дела велись
исключительно на языке их господ. Власть, суды.
церковь и школы пользовались только этим языком;
он был языком законов и литературы. Старый
местный язык использовался только
необразованным населением. Если кто-то хотел
повысить свой статус, то должен был выучить язык
господ. Разговорный язык предназначался для
самых неповоротливых и наименее честолюбивых: он
вызывал презрение и в конце концов исчезал с лица
земли. Иностранный язык вытеснял местное
наречие.
Политические и военные события, являвшиеся
движущей силой этого лингвистического процесса,
во многих случаях характеризовались
тиранической жестокостью и безжалостным
преследованием всех оппонентов. Подобные методы
встречали одобрение со стороны некоторых
философов и моралистов докапиталистических
эпох, также они иногда удостаивались похвалы со
стороны современных "идеалистов", когда к их
помощи прибегали социалисты. Однако "ложному
рационалистическому догматизму либералов"
они казались шокирующими. В исторических работах
последних отсутствовал высокий релятивизм,
побуждавший самозванных "реалистических"
историков объяснять и оправдывать все, что
происходило в прошлом, а также отстаивать
сохранение деспотических институтов. (Как
укоризненно заметил один критик, у утилитаристов
"древние институты не вызывают трепета; они
являются просто воплощением предрассудков" <Stephen
L. The English Utilitarians. -- London. 1900. V. 3. Р. 70 (sо Дж. Ст.
Милле)>.) Не требует объяснения, почему
потомки жертв этих репрессий и угнетения иначе
оценивали опыт своих предков, тем более почему
они стремились уничтожить те последствия
прошлого деспотизма, которые продолжали
причинять им вред. В некоторых случаях, не
удовлетворившись устранением существующего
угнетения, они планировали отменить также и те
изменения, которые больше не причиняли им
никакого вреда, каким бы вредным и пагубным в
далеком прошлом ни был вызвавший их процесс.
Именно на это нацелены попытки отменить
лингвистические изменения.
Самый яркий пример -- Ирландия. Иноземцы
вторглись и завоевали эту страну,
экспроприировали землевладельцев, разрушили ее
цивилизацию, установили деспотичный режим и
пытались силой оружия обратить людей в
вероисповедание, которое они презирали.
Насаждение чуждого вероисповедания не заставило
ирландцев отказаться от католицизма. Но
английский язык вытеснил гэльский язык. Когда
позднее ирландцы постепенно обуздали
иностранных угнетателей и, в конце концов, обрели
политическую независимость, большинство из них
лингвистически уже не отличались от англичан.
Они разговаривали на английском языке, а их
выдающиеся писатели писали английские книги,
некоторые их которых входят в число самых
выдающихся образцов мировой литературы.
Такое положение дел затрагивает чувства многих
ирландцев Они стремятся побудить своих
сограждан вернуться к наречию, на котором их
предки разговаривали в давно ушедшем прошлом.
Мало кто выступает против этих попыток. Немногие
имеют мужество открыто бороться против
популярных движений, а радикальный национализм,
после социализма, является самой популярной
идеологией. Никто не хочет рисковать получить
клеймо врага народа. Но лингвистической реформе
молчаливо противостоят мощные силы. Люди
цепляются за язык, на котором говорят, вне
зависимости от того, кто желает его подавить
-- иноземные деспоты или отечественные фанатики.
Современные ирландцы полностью отдают себе
отчет в преимуществах, которые они получают за
счет того, что английский язык является основным
языком современной цивилизации, который должен
учить каждый, чтобы прочитать много важных книг
или принять участие в международной торговле, в
мировых делах и в великих идеологических
движениях. Именно потому, что ирландцы являются
цивилизованной нацией, чьи авторы пишут не для
ограниченной аудитории, а для всех образованных
людей, шансы, что английский язык будет заменен
гэльским, незначительны. Никакая
ностальгическая сентиментальность не может
изменить этих обстоятельств.
Следует отметить, что лингвистические
устремления ирландских националистов опирались
на одну из самых распространенных политических
доктрин XIX в. Принцип национализма, разделявшийся
всеми народами Европы, постулирует, что каждая
лингвистическая группа должна образовывать
независимое государство, и это государство
должно охватывать всех людей, говорящих на одном
языке <Mises L. Omnipotent Government. -- New Haven: Yale
University Press, 1944. P. 84--9>. С точки зрения этого
принципа англоговорящая Ирландия должна
принадлежать Соединенному Королевству
Великобритании и Ирландии, а простое
существование Ирландского Свободного
Государства выглядит незаконным. Престиж,
которым принцип национализма пользовался в
Европе, был столь огромен, что многие народы,
желавшие образовать собственное государство.
пытались изменить свой язык, чтобы оправдать
свои претензии на независимость. Это объясняет
позицию ирландских националистов, но не никак не
влияет на то, что было сказано о последствиях их
лингвистических планов.
Язык -- это не просто совокупность фонетических
знаков. Это инструмент мышления и деятельности.
Его словарь и грамматика приспособлены к складу
ума индивидов, которым он служит. Живой язык
-- на
котором разговаривают, пишут и читают живые люди
-- непрерывно изменяется в соответствии с
изменениями, происходящими в умах тех, кто им
пользуется. Язык, вышедший из употребления,
является мертвым, потому что больше не
изменяется. Он отражает склад ума давно
исчезнувшего народа. Он бесполезен для людей
другой эпохи, вне зависимости от того, являются
ли они биологическими потомками тех, кто им
когда-то пользовался, или просто считают себя их
потомками. Проблема не в терминах, обозначающих
осязаемые вещи. Их можно дополнить неологизмами.
Неразрешимой проблемой являются абстрактные
термины. Будучи продуктом идеологических споров
людей, их идей, касающихся проблем чистого знания
и религии, правовых институтов, политической
организации и экономической деятельности, эти
термины отражают превратности их истории.
Узнавая их смысл, подрастающее поколение
погружается в интеллектуальную среду, в которой
ему придется жить и работать. Смысл слов
находится в постоянном течении, реагируя на
изменения в идеях и обстоятельствах.
Тот, кто хочет воскресить мертвый язык, в
сущности, должен из его фонетических элементов
создать новый язык, словарь и синтаксис которого
будет приспособлен к условиям нынешней эпохи,
полностью отличной от условий далекого прошлого.
Язык предков бесполезен для современных
ирландцев. Законы современной Ирландии нельзя
написать с помощью старого словаря; Шоу, Джойс и
Йейтс не смогли бы использовать его в своих
пьесах, романах и стихах. Никто не в силах стереть
историю и вернуться в прошлое.
С другой стороны, кроме попыток воскресить
мертвые языки, составляются планы поднять
местные диалекты до уровня языка литературы и
других проявлений мышления и деятельности. Когда
связь между разными частями территории страны
была непостоянной вследствие недостаточной
развитости межрегионального разделения труда и
примитивности транспортной инфраструктуры,
существовала тенденция разрушения
лингвистического единства. В данной местности
развивались различные диалекты языка, на котором
разговаривали люди, ее населявшие. Иногда эти
диалекты развивались в литературный язык, как
это было с голландским языком. В других случаях
только один диалект становился литературным
языком, а остальные оставались говором,
используемым в повседневной жизни, но не
используемым в школах, судах, книгах и в
разговоре образованных людей. Так, например,
случилось в Германии, где работы Лютера и
протестантских теологов поставили диалект
"саксонской канцелярии" в преимущественное
положение, а остальные диалекты низвели до
второстепенных.
Под влиянием историзма появились движения,
стремящиеся обратить этот процесс вспять, путем
придания диалектам статуса литературных языков.
Самой заметной из этих тенденций является
фелибриж, проект восстановления господства
провансальского языка, которое он когда-то имел
как Langue d'Oc <провансальский язык (фр.). --
Прим. перев.>. Фелибры [49], возглавляемые
поэтом Мистралем, были достаточно разумны, чтобы
не планировать полную замену французского языка
своим диалектом. Однако даже перспективы их
более скромных амбиций — создать новую
провансальскую поэзию -- выглядят безнадежными.
Невозможно представить ни одного современного
французского шедевра, сочиненного на
провансальском языке.
Местные диалекты различных языков
используются в романах и пьесах, описывающих
жизнь необразованных слоев населения. Часто в
таких произведениях изначально присутствует
неискренность. Автор снисходительно спускается
на уровень людей, ментальность которых он
никогда не разделял или давно перерос. Он
поступает как взрослый, который снисходительно
пишет детские книжки. Ни одно современное
литературное произведение не может уйти от
влияния идеологий нашей эпохи. Если автор прошел
школу этих идеологий, то он не сможет успешно
замаскироваться под простого человека и
воспринять его речь и взгляды на жизнь.
История -- процесс необратимый.
7. Отмена экономической истории
История человечества представляет собой
прогрессирующее углубление разделения труда.
Животные живут в условиях полной автаркии
каждого индивида или каждой квазисемьи.
Человеческое сотрудничество становится
возможным благодаря тому, что работа,
выполняемая в условиях разделения труда, более
производительна, чем изолированные усилия
автаркичных индивидов, и что разум человека
способен постичь эту истину. Если бы не эти два
факта, то люди так навсегда и остались бы
одинокими собирателями еды, принуждаемыми
неизбежными законами природы к немилосердной и
безжалостной борьбе друг с другом. В мире, где
каждый видел в других людях соперников в
биологической конкуренции за строго
ограниченный запас пищи, не сложились бы никакие
общественные связи, не развились бы симпатии,
доброжелательность и дружба, не возникло
цивилизации.
Одним из величайших достижений социальной
философии XVIII в. стало раскрытие роли, которую в
истории сыграл принцип более высокой
производительности вследствие разделения труда.
Именно против этих учений Смита и Рикардо были
направлены самые яростные нападки адептов
историзма.
Действие принципов разделения труда и его
следствие -- сотрудничество -- в конечном итоге
имеет тенденцию к созданию системы производства,
охватывающей весь мир. В той мере, в какой
географическое распределение естественных
ресурсов не ограничивает тенденции к
специализации и интеграции обрабатывающих
отраслей, свободный рынок стремится развивать
заводы, оперирующие в сравнительно узких
областях специализированного производства, но
обслуживающих все население земного шара. С
точки зрения людей, предпочитающих большее
количество товаров более высокого качества по
сравнению с меньшим количеством более плохих
товаров, идеальная система состояла бы в
наивысшей концентрации каждого вида
производства. Тот же самый принцип, который
вызвал появление таких специалистов как кузнецы,
плотники, портные, пекари, а также врачи, учителя,
художники и писатели, в конце концов привел бы к
появлению одной фабрики, обеспечивающей одним
изделием всю ойкумену. Несмотря на то, что
упомянутый географический фактор
противодействует полной реализации этой
тенденции, международное разделение труда все же
возникло и будет углубляться до тех пор, пока не
достигнет границ, установленных географией,
геологией и климатом.
Каждый шаг по пути углубления разделения труда
в краткосрочной перспективе ущемляет личные
интересы некоторых людей. Экспансия более
эффективных заводов ущемляет интересы менее
эффективных конкурентов, которых они вынуждают
уходить с рынка. Технологические нововведения
ущемляют интересы рабочих, которые больше не
могут зарабатывать на жизнь, цепляясь за
отвергнутые устаревшие методы производства. На
краткосрочных имущественных интересах мелких
предприятий и неэффективных рабочих
неблагоприятно отражается любое новшество. Это
не является новым явлением. Также не ново, что те,
кому причинен вред экономическими
усовершенствованиями, требуют привилегий,
которые защитили бы их от более эффективных
конкурентов. История человечества представляет
собой длинную летопись препятствий, возводимых
на пути более эффективных людей, ради получения
выгоды менее эффективными.
Настойчивые попытки остановить экономические
усовершенствования обычно объясняют ссылками на
"интересы". Это объяснение весьма
неудовлетворительно. Оставляя в стороне тот
факт, что нововведение ущемляет только
краткосрочные интересы некоторых людей, мы
должны подчеркнуть, что, ущемляя интересы
незначительного меньшинства, оно выгодно
подавляющему большинству. Хлебозавод,
безусловно, причиняет вред мелким пекарням. Но он
причиняет им вред только потому, что улучшает
условия жизни всех людей, потребляющих хлеб.
Импорт иностранного сахара и часов вредит
интересам незначительного меньшинства
американцев. Но это благо для тех, кто хочет есть
сахар и покупать часы. Вопрос стоит так: почему
новшества непопулярны, хотя они приносят пользу
огромному большинству людей?
Привилегия, предоставленная определенной
отрасли в краткосрочной перспективе, выгодна
только тем, кому в данный момент случилось в ней
работать. Однако до определенной степени она
причиняет вред всем остальным людям. Если каждый
имеет какую-либо привилегию, в роли потребителя
он теряет столько же, сколько выигрывает в
качестве производителя. Более того, все несут
потери в результате того, что во всех отраслях
внутреннего производства из-за этих привилегий
производительность снижается <см. выше.
Гл.
2, раздел 3 и далее>. В той мере, насколько
эффективно американское законодательство
сдерживает большой бизнес, потери несут все,
поскольку продукция производится с более
высокими издержками на заводах, которые были бы
вытеснены, не проводись данная политика. Если бы
в борьбе с крупными предприятиями Соединенные
Штаты зашли бы также далеко, как это сделала
Австрия, то средний американец жил бы не намного
лучше среднего австрийца.
Не интересы являются движущей силой борьбы
против дальнейшего углубления разделения труда,
а ложные идеи о так называемых интересах. Как и во
всех остальных отношениях, историзм, исследуя
эти проблемы, также видит только краткосрочный
ущерб, выпадающий на долю некоторых людей, и
игнорирует долгосрочные выгоды для всех людей.
Рекомендуя конкретные мероприятия, он не
упоминает о цене, которую за них необходимо
заплатить. Каким весельем было изготовление
обуви во времена Ганса Закса и менестрелей! Нет
нужды критически анализировать подобные
романтические грезы. Сколько людей ходило в то
время босиком! Каким позором являются крупные
химические концерны! Но смогли бы аптекари в
своих примитивных лабораториях произвести
лекарства, убивающие микробы?
Те, кто желают запустить вспять часы истории,
должны сказать людям, каковы будут издержки их
политики. С разукрупнением большого бизнеса нет
никаких проблем, если вы готовы мириться с
последствиями. Если бы нынешние американские
методы налогообложения доходов и имущества были
внедрены пятьдесят лет назад, то большая часть
тех новых вещей, без которых ни один американец
не захочет сегодня обходиться, вообще не были
разработаны или, если бы все же выпускались, то
были бы недоступны для большинства людей. То, что
такие авторы, как профессора Зомбарт и Тауни
говорят о блаженстве Средних веков, представляет
собой просто плод фантазии. Попытки
"достигнуть непрерывного и неограниченного
повышения материального богатства", говорит
профессор Тауни, ведет к "разрушению души и
беспорядку в обществе" <Tawney R.H. Religion
and the Rise of Capitalism. -- N. Y.: Penguin Book, n.d. P. 38 and 234>.
Нет необходимости подчеркивать, что некоторые
люди могут считать, что если душа так
чувствительна, что ее губит осознание того, что в
первый год жизни умирает меньше младенцев и
меньше людей умирает от голода, чем в Средние
века, то ее стоит погубить. Беспорядок в общество
вносится не богатством, а попытками адептов
историзма, таких, как профессор Тауни,
дискредитировать "экономические
потребности". В конце концов именно природа, а
не капиталисты имплантировала человеку
потребности организма и заставляет их
удовлетворять. В коллективистских институтах
Средних веков, таких как церковь, приход,
деревенская община, клан, семья и гильдия,
говорит Зомбарт, индивид "был обогрет и
защищен подобно фрукту в кожуре" <Sombart W.
Der proletarische Socialismus. 10th ed. -- Jena. 1924. V. 1. P. 31>.
Является ли это достоверным описанием времени,
когда людей изнуряли голод, эпидемии, войны,
преследование еретиков и другие бедствия?
Вне всякого сомнения, можно остановить
дальнейший прогресс капитализма, или даже
возвратиться в состояние, когда доминировали
мелкие предприятия и более примитивные методы
производства. Полицейский аппарат,
организованный по образцу советской полиции,
способен достичь многого. Вопрос только в том,
будут ли готовы народы, создавшие современную
цивилизацию, заплатить за это соответствующую
цену.
[44] Автор Апокалипсиса
-- Иоанн
Богослов. [вернуться]
[45] "Слишком много"
-- Мизес
имеет в виду фразу из книги Ф. Ницше «Так говорит
Заратустра»: «Рождается слишком много людей: для
лишних изобретено государство!» и далее:
«Посмотрите же на этих лишних людей! Они крадут
произведения изобретателей и сокровища
мудрецов: культурой называют они свою кражу
-- и
все обращается у них в болезнь и беду!
Посмотрите же на этих лишних людей! Они всегда
больны, они выблевывают свою желчь и называют это
газетой. Они проглатывают друг друга и никогда не
могут переварить себя.
Посмотрите же на этих лишних людей! Богатства
приобретают они и делаются от этого беднее.
Власти хотят они, и прежде всего рычага власти,
много денег, -- эти немощные!
Посмотрите, как лезут они, эти проворные
обезьяны! Они лезут друг на друга и потому
срываются в грязь и в пропасть.
Все они хотят достичь трона: безумие их в том
-- будто счастье восседало бы на троне! Часто грязь
восседает на троне -- а часто и трон на грязи.
По-моему, все они безумцы, карабкающиеся
обезьяны и находящиеся в бреду. По-моему, дурным
запахом несет от их кумира, холодного чудовища;
по-моему, дурным запахом несет от всех этих
служителей кумира». [Ницше Ф. Так говорил
Заратустра. М.: МГУ. С. 44--45.] [вернуться]
[46] Хилиазм -- вера в
"тысячелетнее царство" Бога и праведников
на земле, т.е. вера в историческую материализацию
мистически понятого идеала справедливости. Эта
вера основывается на пророчестве Апокалипсиса:
"И увидел я престолы, и сидящих на них, которым
дано было судить, и души обезглавленных за
свидетельство Иисуса и за Слово Божие, которые не
поклонились зверю, ни образу его. . . Они ожили и
царствовали со Христом тысячу лет" (20:4). [вернуться]
[47] Великая хартия вольностей
-- грамота, подписанная королем Англии Иоанном
Безземельным 15 июня 1215 г. Первый в истории Англии
прецедент ограничения королевской власти в
пользу верхушки феодальной аристократии. [вернуться]
[48] Битва при Гуллодене 6 апреля 1746
г. была последней попыткой Стюартов вернуть себе
британскую корону в ходе шотландского восстания
25 июля 1745. Претендент Карл-Эдуард командовал
армией горцев, потерпевшей сокрушительное
поражение от королевских войск под
командованием герцога Камберлендского, сына
английского короля Георга II. Невероятная
жестокость в обращении с побежденными горцами,
многие из которых были хладнокровно убиты, а
также систематические опустошительные рейды по
стране, снискали герцогу Камберлендскому
прозвище "Мясник". [вернуться]
[49] Фелибры -- (прованс. felibres; в
традиции -- "книготворцы", "дети муз")
-- участники движения (фелибрижа), второй половины
XIX в. в Провансе на почве романтизма. Фелибры
ставили своей целью возрождение региональной
культуры, восходящей к традиции трубадуров, в
первую очередь на новопровансальском языке,
объединенном на основе южнофранцузских
диалектов. [вернуться]