| 27 август 2020 | |
 |
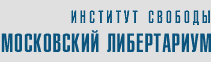 |
|
|
|||||||
| Пользователь: [login] |
настройки |
карта сайта |
статистика |
|
|||||||
|
11.12.1990, Борис Львин
Проблема "построения
капитализма в России" может рассматриваться с различных точек
зрения. Нам, однако, представляется она частью более общей проблемы,
а именно - построения России. России без эпитетов, России как
национального государства. Мы утверждаем, что, во-первых, такой
России еще не существует; что, во-вторых, это отсутствие есть
факт фундаментальный, вызванный не внешним по отношению к России
действием, а самим ее состоянием; что, в-третьих, появление России
как национального государства будет одновременно и появлением
капиталистической России.
Мы считаем либерализм в экономике, демократию в политическом устройстве и национальную государственность явлениями равноположенными. Они видятся как атрибуты того единого, что называется современным (посттрадиционным, модернизированным, как кому угодно) обществом. Проблема становления национальной государственностиБолее ста пятидесяти лет тому назад великий историк и социолог А.Токвиль заявил, что важнейший факт мировой истории - это стремление человеческого общества к равенству. Он утверждал, что на примере Франции последних семисот лет это стремление к равенству выступает столь непреодолимо и решительно, сквозь самые противоположные поступки королей и народов, что вообще нет ни одного значительного события, которое бы не способствовало успехам равенства. Зрелище великого демократического поворота вызывает у него, консерватора по убеждениям, страх и, как он говорит, своего рода религиозный ужас. Переходя вдруг на поэтический вдохновенный язык, он утверждает, что постепенное развитие общественного равенства есть факт провиденциальный. Токвиль никогда не бросался словами, а это сильные, серьезные слова.Полтора столетия только подтвердили гениальное наблюдение Токвиля. Понять историю можно только как процесс укрепления, становления равенства. Причем, что исключительно важно, и Токвиль это подчеркивал, речь идет не о равенстве в состоянии, не о равенстве состояния. Так же имея место, оно является только следствием равенства отношений, действительно фундаментального и исходного. Равенство отношений между людьми есть факт психический. Оно представляет собой картину общества, его структуру, отраженную в сознании людей и получившую ценностную окраску. Объективно же степень равенства отношений выражается в степени социальной мобильности внутри общества, в прочности перегородок, разделяющих статусы и состояния людей. Можно уточнить: важна даже не сама мобильность, а ее потенциал, ее приемлемость, реакция на нее. Ограничения в приложении индивидуальных сил и устремлений, как уже многократно доказано, ограничивают и саму эффективность капиталистического хозяйства. Либеральная идеология стремится к снятию этих ограничений. Ограничения в правах и возможностях участия в регулировании общественного устройства в целом - ограничивают эффективность государственного механизма. Демократическая идеология стремится к снятию этих ограничений. Но у обоих этих идеологий, либеральной и демократической, представляющих два аспекта общей идеологии равенства, зачастую присутствует общий недостаток. Это - невнимание к объекту либерально-демократических преобразований, абсолютизация его наличного, так сказать, физического состояния и игнорирование вопроса о том, насколько сама природа этого объекта способна эффективно воспринять либерально-демократические реформы. Этот объект - страна. Либералы и демократы (либералы и демократы идеальные, последовательные) по необходимости считают всех людей и все страны готовыми к восприятию своих принципов. Есть уникальный пример настойчивых попыток насаждения либерально-демократической модели. Это - поведение американской администрации в странах тихоокеанского бассейна, оказавшихся под их влиянием после второй мировой войны. Вся история Японии, Южной Кореи, Филиппин, Южного Вьетнама - это постоянная борьба между политическим альтруизмом американцев, с которым они навязывали этим странам свою модель государственного и гражданского устройства, и американскими же глобально-прагматическими интересами, из-за которых они, скрепя сердце, мирились с постоянными нарушениями и фальсификациями этой модели. Невнимание и даже неприязнь, которые либерал-демократы часто испытывают к тому, что в XIX веке назвали "национальным принципом", объяснимы. Ведь последовательная реализация национальной идеологии и национальных принципов означает вроде бы отказ от либерально-демократических принципов. Эта реализация означает резкую активизацию государства, а зачастую и проведение новых государственных границ по территориям, ранее юридически единым. С этим не могут примириться либералы. Эта же реализация означает открытое нарушение волеизъявления значительной части народа - той, что препятствует ирреденте либо разделу; становление стабильных национальных государств почти всегда связано с депортациями, массовыми перемещениями и т.д. Вряд ли кто-нибудь назовет это торжеством демократии. Для либерал-демократа все население страны состоит из людей, равно готовых быть равными же гражданами; единственное возможное различие усматривается в возможной "незрелости", "неготовности", устранимой разъяснениями, воспитанием и всеми методами социальной педагогики. До каких-то пределов такой подход может оказываться приемлемым. Но реальное развитие страны рано или поздно укажет барьеры на либерально-демократическом пути. И барьеры эти будут заключаться в отсутствии национальной государственности, в наличии государственности -- не-национальной. Какой же? Традиционно-имперской. В наше время слово "империя" стало принимать ценностную окраску. Чаще - негативную, иногда же, в пику "разрушителям" - апологетическую. Разрушение империй чаще всего воспринимается как торжество справедливости. На наш же взгляд - это результат естественно-исторического процесса. Развитие и разрушение империй можно рассматривать как цепочку флуктуаций, обнимающих весь период традиционной докапиталистической государственности. Централизованные трансэтнические государства складывались, приходили в упадок, дробились до мельчайших образований, сходящих в тень новых держав. Мы не задаемся вопросом, почему развитие капитализма, прежде всего в Европе, застало тот, а не иной расклад центров силы и могущества; мы можем счесть этот расклад исторически случайным. На определенных, ранних стадиях пребывание в составе империи может способствовать ускорению экономического развития. Часто такое случалось, когда включение в состав могучей державы открывало для избранных областей широкий рынок сбыта, гарантировало политическую стабильность, земский мир и защиту от внешней угрозы. Особенно удобным было нахождение вдали от центра империи, вне пределов прямого произвола сюзерена. Думается, этими обстоятельствами, в частности, можно объяснить быстрый экономический рост в Ломбардии и Нидерландах под властью сперва испанской, а потом имперско-австрийской короны. Одним же из важнейших атрибутов развития капитализма является ускорение социальной мобильности, которую мы ранее определили как проявление равенства. Социальная мобильность может выступать в разных формах - в виде территориальной, отраслевой, профессиональной, статусной. Означает она изменение существующих, ранее сложившихся соотношений и пропорций в обществе и, если считать, что для каждого человека осознаваемое им место в структуре расселения, занятости, статусов обладает соотносительной ценностью, то это изменение вполне естественно может определенными группами населения расцениваться как несправедливое, неправильное. Чем более общество однородно, тем легче социальная мобильность и тем проще легитимизируется и легче воспринимается социальная динамика. Но предкапиталистическое общество, то есть население отдельно взятой страны, однородным быть не может. И эта неоднородность, свидетельство не законченного складывания нации, особенно обостряется и становится нетерпимой как раз не в период социальной стагнации, а в период социального динамизма, напряженности. Не случаен факт, что общественные взрывы и революции обычно следуют не за периодами застоя непосредственно, а за всякого рода ускорениями и перестройками... Напряжения и неравенства в социальной динамике особенно тяжело воспринимаются тогда, когда они захватывают не отдельных индивидов, а людей, консолидированных в осознаваемую ими самими группу. Такая структуризация одновременно способна облегчить восприятие самой, казалось бы, неблагоприятной социальной статики. Структурированное общество, не знающее равенства статусов, легко сакрализирует и объявляет полезной любую роль, любое место, занятое какой-либо устойчивой группой. Общепринятый, общенациональный идеал жизненной карьеры, стандарт образцовой жизни - отсутствует в таком обществе; ценится, наоборот, исправная реализация частного идеала, заданного групповой принадлежностью. Соответствие такому частному жизненному стандарту контролируется частной же групповой идеологией, культурой, авторитетом, а в конечном счете - групповой властью. Следовательно, важнейшая черта донационального традиционного общества - релятивность власти. Выступая вовне как единая, внутри власть обращается не к индивиду как гражданину и отцу семейства, а к группе в целом; система власти в государстве представляет собой, таким образом, своего рода концерт, баланс частных властей. Ускоренная социальная динамика нарушает такой концерт. Если в современном (абстрактном, конечно) обществе гражданин осознает несоответствие своего жизненного пути общенациональному стандарту, то себе он противопоставляет в этом сравнении все остальное общество. В таком сравнении признание собственной неправоты и стремление к адаптации со стороны индивида вполне естественны. В традиционном, групповом обществе чувствующая себя обделенной группа или блок групп вполне могут предъявить претензии на остановку развития, на возврат к прошлой гармонии. И если консолидирующие внутригрупповые связи достаточно сильны, конечным результатом таких претензий, итогом их будет гражданская война, насильно водворяющая относительное равенство. Мы все время говорим о группах, на которые дробится донациональное общество. Какова их природа? Она, безусловно, исключительно разнообразна, как и вообще все общественное устройство традиционных государств. Многократно предпринимались попытки найти универсальные формулы структурного деления таких обществ, отталкиваясь от опыта какого-либо одного из них. Такие попытки обычно делались с целью перенесения на новую почву выработанных уже традиций гражданского устройства и политического поведения. Напомнить можно, как европейцы пытались в колониях Азии и Африки обнаружить европейские формы поземельной собственности и связанных с ней отношений для применения стандартных фискальных механизмов (особенно прославились этим англичане в Индии). Можно вспомнить, как теоретики Коминтерна ломали копья по поводу того, кто в Китае является помещиком, кто - кулаком, а кто - середняком. Примечательно, что в наше время советская востоковедческая наука (кроме самой уж школьной) отказалась даже почти от использования общих описательных терминов для характеристики групп разных обществ. И действительно: мозаика сословий, племен, кланов, сект, линиджей, джати, конфессий, миллетов пронизывает всю историю традиционных обществ. В разных случаях по-разному и с разной силой проявляются в них языковые, религиозные, культурные, бытовые различия. Но масштабы этих различий складываются в некий континуум; жестких границ здесь нет. Что действительно объединяет эти формы дробления общества и является для них общим образующим признаком - это, во-первых, нетождественность государству и стране в целом, и во-вторых, резкая граница межгрупповой мобильности. Она, эта граница, четко фиксируется всеми конкретными исследованиями как граница заключения браков. Тем самым обеспечивается сохранение, воспроизведение и идентификация групповой принадлежности. Сама эта принадлежность, как уже было сказано, носит нефизиологический, а чисто психологический характер, она является фактом сознания, культуры. Однако вызванная культурными причинами внутригрупповая замкнутость может породить и отличия в фенотипе, во внешних чертах вплоть до расовых. Значимость этих различий вторична и определяется культурной средой; характерно, что когда культура и традиция не допускают идентичности групп, а браки между их представителями становятся нередкими, практически вырабатываются правила групповой идентификации потомства. Так, дети русских отцов и местных матерей в Сибири становились русскими, а мулаты в южных штатах США оставались цветными... Процесс преодоления такой системы дроблений в структуре традиционных обществ неизбежен по мере капиталистического развития. Вопреки расхожему представлению, различия между "национальным" (так часто называют этническое) дроблением и сословным вовсе не очевидны и чаще всего по-просту отсутствуют. Различия эти можно уловить только по итогам исторического развития, только aposteriori. Та общественная группа, которая достигает собственной государственности, становится нацией - может в исторической ретроспективе быть названа национальным меньшинством. Та же, чье различие исчезает, растворяется в рамках более широкой государственной общности, будет историком причислена к типу сословий. Четких, однозначно действующих законов здесь нет. Существуют только тенденции, которые можно более или менее детально проследить на примере исторически более продвинутых стран Европы и Средиземноморского региона. Здесь процессы унификации обществ и образования однородных национальных государств совершенно четко прослеживаются на протяжении не менее четырехсот лет и зашли уже достаточно далеко. Там, где в Европе эти процессы еще не закончены, они с высокой степенью вероятности прогнозируются. Нации в Европе уже сформировались и можно определить, какие государства и как должны будут вскоре изменить свои границы и состав неселения. На Востоке, то есть в Азии и Африке, эти процессы находятся на более ранней стадии, хотя и развиваются очень ускоренными темпами. Прогнозирование национальных процессов для этих регионов - дело более сложное, хотя, конечно, и более увлекательное. Можно выделить важнейшие факторы, определяющие, является ли та или иная общественная группа зародышем будущей нации (то есть оформится ли она в национальное государство) или обречена на существование в виде рудиментарного объекта этнографических исследований. К таким факторам относятся: этно-языковая принадлежность (разделяющая валлонов и фламандцев, поляков и литовцев, турок и арабов); конфессиональная принадлежность (разделяющая турок и азербайджанцев, фламандцев и многих голландцев, сербов и хорватов); культурно-историческая традиция (разделяющая чехов и словаков, португальцев и галисийцев, сербов и черногорцев); наличие плотного, относительно однородного территориального ядра, служащего как бы центром кристаллизации будущей нации. Огромную роль играют количественные размеры группы (можно сравнить судьбы, скажем, словенцев и лужичан) и географическая уединенность (что ярко видно на примере Исландии или Ливана). Все эти факторы действуют, однако, не автоматически. Исключительно важны исторический фон и внешнее воздействие - ими только, например, можно объяснить тот факт, что Бавария и Вюртемберг вошли в объединенную Германию, а Австрия осталась вне ее; шанс того, что казаки в России из сословной группы перейдут в национальную, никак не был нулевым. Процесс становления однородного общества как базы для либерально-демократического развития можно, следовательно, рассматривать как ликвидацию сословного и национального дробления страны. Соответственно, можно, абстрагируясь, выделить два типа революций, скачкообразных реформ - социальную и национальную. Понятно, что из-за размытой границы между сословиями и национальными меньшинствами, а также из-за того, что оба типа дробления всегда присутствуют в традиционном обществе, разделение революций на социальные и национальные условно. Речь идет о том, какое дробление в данный момент ощущается болезненнее всего, какое сильнее тормозит прогресс. Заметим, что в сословном делении всегда имеется четкая, хотя обычно и весьма сложная, иерархия сословных групп. В результате поведение сословий в революции несимметрично. Неизбежна оборонительная, консервативная позиция одних и наступательная, радикальная - у других. Это очевидно. Но так же неизбежна асимметрия и в национальной революции. Среди национальных общностей, входящих в состав империй, всегда будут наличествовать господствующие и подчиненные. Процесс становления наций будет происходить для них по-разному. Для подчиненных общностей, то есть не тех, из среды которых вербуется элита и власть империи, не тех, кто себя с ней идентифицирует, - для них национальное созревание означает подъем частно-общинного, местного сознания до национального. Этот подъем, как правило, происходит под давлением местной интеллигенции и буржуазии, которые в последовательном укреплении национального самоуправления, вплоть до государственности, видят шанс на модернизацию общества, просвещение народа и развития хозяйства. Массовая поддержка обеспечивается последовательно тем идеологам, которые провозглашают все более радикальные требования, по мере того, как выявляется недостаточность мер частичных. Готовностью участвовать в этой гонке радикализма, собственно, и определяется степень зрелости общности, ее национальный потенциал. Для национальных групп, занимающих в империи господствующее положение, дающих ей свое имя, то есть имперских, - для них проблема прямо противоположна. Она заключается не в подъеме сознания от общинно-местного до национального, а, наоборот, в редукции его к национальному от имперского. Требуется отказ от имперской идентификации, от растраты сил на консервативное поддержание отживших структур. Эта проблема не решается прямо путем национального подъема, здесь нет места типичной фигуре национального просветителя, светоча и будителя народа. Редукция сознания происходит обычно через болезненный кризис, упадок имперской государственности, крах традиционных структур общества и власти. Такую редукцию поэт назвал бы похмельем... Национальная революция обычно устраняет либо ослабляет и сословные перегородки, выполняя заодно и задачи социальной революции. Для наций, подымающихся на борьбу за свое освобождение, характерен призыв к сплочению поверх сословных барьеров ради единой цели. Крах и распад империи часто означают падение и даже физическую ликвидацию высших имперских сословий, намертво связанных с существованием империи, а идеологи возрождения "некогда великого, а ныне падшего" народа обращаются к добродетелям сословий низших, массовых и ранее презрительно не замечаемых. Укажем еще на две специфические проблемы национальных революций. Первая - это проблема смешанных пограничных регионов, то есть мест соприкосновения консолидирующихся наций. Население этих территорий часто дву- и многоязычно и имеет слабое национальное самосознание, заменяемое ощущением "местности", "тутошности". Как раз на эти регионы обычно обращают особое внимание идеологи и глашатаи национального возрождения, здесь активнее всего стараются они мобилизовать население в свою пользу и во всех национальных движениях непропорционально большая доля лидеров происходит из этих регионов. Для примера укажем на Эльзас, Тироль, Ольстер, Верхнюю Силезию, Восточную Литву, Македонию, Пьемонт. Разрешение конфликтов здесь неизбежно, но конкретные пути его - лишь вероятностны. Возможны достаточно произвольные перекройки границ и массовые переселения. Возможен и специфический вариант создания новой, пограничной общности наподобие швейцарской... Вторая проблема - это проблема ирреденты, то есть воссоединения частей одного народа, ранее находящихся в рамках разных государственных образований. Здесь вопрос заключается в том, насколько прочно будет достигнутое единство и насколько сильно скажутся различные культурные и прочие традиции, приобретенные за время раздела. Так, для Польши, Румынии и Италии традиции столетий раздельной государственности их составных частей никуда не исчезли, но и не помешали общенациональному становлению. Для судеб Югославии и Чехословакии эти традиции, безусловно, станут роковыми. Будущее Украины скрыто в тумане. Пример РоссииВ самом начале было заявлено, что Россия как национальное государство еще не существует. Мы считаем тот период российской истории, который вызывает наибольшие затруднения у исследователей, период Советской власти - не более чем периодом национальной революции, то есть периодом становления этого национального государства.Не надо доказывать, что в Российской империи существовали многочисленные национальные и сословные перегородки. Империя характеризовалась особо сильным переплетением этих перегородок и разделений. Между национальными группами часто отсутствовали однозначные границы, самих этих групп было крайне много и были они крайне разнообразны. Помимо того, что прото-нации Российской империи каждая обладала своей особенной, не похожей на других сословной структурой, эти же народы сами нередко включались в сословный механизм империи на правах отдельных сословий. Происходил неравномерный процесс интеграции отдельных сословных групп ряда народов в отдельные сословные корпорации, свойственные для русских (так, постепенно пополнялись разные группы дворянства - военного, родового, служащего). Среди самих русских сословное разделение нередко шло по линии отношения к нерусским народам и роли сословия в разрешении национальных проблем (некоторые группы казаков). Такое сложное переплетение народов и сословий было одним из важнейших факторов, цементировавших единство государства. Но исключительно быстрого экономического роста конца XIX - начала XX века, связанных с ним подвижек в положениях и статусах широких масс общества государство не выдержало. Мировая война подкосила его. Очень важно то, что в старой империи не было сколько-нибудь развитой транснациональной, универсальной идеологии, легитимизирующей режим. Господство России в национальной области оправдывалось, по сути, только геополитически, то есть целями самого господства. Славянская идеология носила чисто инструментальный характер; польский вопрос и охлаждение с Болгарией не позже 1885 года заранее обесценили ее. Революция и гражданская война привели к тому, что, во-первых, национальная проблема была ослаблена отпадением наиболее развитых и (или) консолидированных народов - поляков, финнов, латышей, эстонцев. Они сумели отразить попытки повторного завоевания, а с литовцами даже была утеряна общая граница. Во-вторых, было резко упрощено сословное деление собственно русского общества: дворянство, духовенство, казачество частично ликвидированы, частично изгнаны и рассеяны. Положено начало великому раскрестьяниванию. В-третьих, найден инструмент, идеология, позволившая заново, хотя и в ослабленном виде, консолидировать империю. Этой идеологией стал социализм в своей решительной большевистской форме. Обратим внимание, что в пестрой мозаике партий и идеологий 1917 года ни одна не апеллировала к собственно России в узком смысле, ни одна не была национальной. Большевистская же идеология сочетала в себе, зачастую парадоксально, мощную эгалитарно-антисословную струю, плебейско-этатистскую струю, провозглашала национальное самоопределение и тут же требовала глобальных акций. 1918-1922 годы лучше любых теоретических доказательств подтвердили, что этим противоречивым идейным конгломератом удалось смягчить национальное сопротивление на окраинах и вдохнуть новую жизнь в рассыпавшуюся империю. Уже в 1920 году, во время польской кампании, видна российская, национально-имперская консолидация вокруг Москвы. Вся история создания организационной модели СССР 20-х годов полна примерами того, как имперски-бессознательное течение начинает преобладать над интернациональным догматизмом. В частности, переломным можно считать 1923 год - год краха мировой революции, год подчинения Коминтерна имперским задачам России, год консолидации в СССР. Можно, конечно, выделять и другие переломные точки в развитии новой империи. В частности, полагаем, недостаточно учитывается воздействие внешних событий на ее историю, историю государства, всей своей сущностью нацеленного на решение внешних задач. Влияние, скажем, краха Китайской революции 1927 года, берлинского восстания 1953 года, провала маленковской мирной инициативы 1954 года - явно недооценены. Однако в целом 70 лет Советской власти можно видеть как единый период окончания упадка Российской империи. Крах постиг не столько социалистические эксперименты (они, как мы убеждены, вторичны, наносны и малосущественны), сколько практику максимальной централизации и огосударствления хозяйства в военных целях, постоянную сверхмобилизацию. Российское общество почти полностью лишилось межсословных перегородок. Крестьянство преобразовано, хотя и максимально варварским образом. Деятельность по созданию нового "партийного" сословия провалилась в момент попытки обеспечить внутрисословную преемственность поколений в 80-е годы (первая такая попытка, в 30-е годы, также не удалась, закончившись резней и строительством квази-сословия заново) - что доказывает принципиальную социальную однородность России. Насколько же готов к разрешению, смягчению и ликвидации национальный вопрос? Насколько он актуален? Здесь может помочь анализ политического поведения населения в ходе многочисленных избирательных кампаний последних лет, а также деятельность самих народных избранников. Выборы, которые проходили в СССР в 1989 - 1991 годах (это были многочисленные туры союзных, республиканских и местных голосований), можно разделить на типы "шахматным" образом, по пересекающимся критериям. По "вертикали" выделяются выборы, с одного полюса, стандартно-номенклатурные, с другого - так называемые демократические. По "горизонтали" идут выборы российские или национальные. В полученных клетках размещаются все варианты электорального поведения. Разделение на выборы номенклатурные и "демократические" отражает степень политического пробуждения региона. Пробуждение происходит не синхронно, его скорость связана с локальными возможностями плюрализма в выражении мнений и в поведении, в размерах культурно-интеллигентского субстрата, с масштабами дискредитации местных властей, с историческим прошлым и традициями. Нарастание несогласия с обычным, рутинным представительством номенклатурных органов и деятелей нарастает постепенно, а проявляется обычно вдруг, в результате конфликта. Например, выборы в Грузии весной 1989 года носили еще вполне казенный характер, и только апрельские события актуализировали потенциал национальной политики. Часто оказывается, что там, где номенклатурная система представительства держится дольше, там скачок к новому будет резче, радикальнее, конфликтнее. Гораздо интереснее сравнить по "горизонтали" выборы российские и национальные. В республиках, постольку, поскольку это республики нерусские по национальному составу, не-российские, демократическая избирательная кампания очень быстро формирует партийную или квази-партийную систему. Выборы почти везде (кроме последних, в 1990 году, в Грузии) проходили по мажоритарной одномандатной монономинальной системе. Исключением была Эстония, где мажоритаризм на республиканских выборах был усложнен многомандатностью. Однако избиратели четко ориентировались в фактической партийности кандидатов. Партийность их складывалась нередко прямо в ходе избирательной кампании, по мере формирования блоков. Конкуренция кандидатов, стоящих на одной платформе, никогда не доходила до момента голосования. Объектом интересов кандидатов были четкие иерархии общностей и регионов: они обязывались защищать какие-то группы, общности и доходили - до нации, становящейся их высшей целью и верховным интересом. Союз ССР рассматривался как нечто постороннее, внешнее, хотя и неизбежное; то, с чем надо как-то строить отношения, а не то, за чью судьбу депутат готов нести ответственность. Будучи избранным, "национально-демократический" Совет достаточно быстро, в срок, измеряемый днями, формировал из своей среды лидеров и руководящие органы, конституировался по фракциям и реально становился властью в той степени, в какой это позволяла центральная имперская политика. "Российские демократы" (это относится не только к, скажем, Москве и Ленинграду, но и к Киеву и т.д.) вели кампанию крайне разрозненно. Несмотря на бесчисленные попытки сформировать какое-то общероссийское движение, нигде не было даже городской политической организации, отстаивающей какую-либо "демократическую" платформу. Там, где "народные фронты" появлялись и действовали, они были либо только одним из многих аналогичных образований, не способных добровольно скоординировать действия, либо просто самозваным фантомом, либо разовым объединением слабых "демократических" сил в поддержку немногочисленных независимых кандидатов в общем море номенклатуры. Действительное бессилие попыток координации обнаруживалось тогда, когда "демократы" становились конкурентами. Добровольный отказ ради единой кандидатуры - это было не правило, а исключение. И понятно - агитация шла либо в плане негативном (наш кандидат - не _их., не человек прошлого), либо в плане того, что одним литовским политологом было названо "конкурсом красоты". Иначе сказать, подчеркивались заслуги кандидатов в искусстве, науке, медицине, охране порядка и законности, в области его личной нравственности, - но не в области политической специфической деятельности. Понятно, что подобные достоинства индивидуальны и несравнимы, а избирателю предлагался полный спектр всех кандидатов, сумевших выдвинуться свои кандидатуры (для чего достаточно было часто их инициативы или просто согласия). "Демократические" Советы сразу же зарекомендовали себя не с лучшей стороны, на долгие месяцы будучи погружены в кадровую трясину. Они сразу раскололись на весьма зыбкие фракции, которые правильнее было бы назвать кликами из-за группировки не вокруг платформы, а вокруг локального лидера. Эти Советы оказались полностью неспособны добровольно наделить одного или ряд своих членов более высоким статусом, избрав его или их в свои руководящие органы. Главное чувство, охватывавшее депутатов, было, похоже, ревностью. И в конце концов они соглашались доверить посты либо людям с заранее данным, внешним по отношению к данной коллегии статусом (случаи Ельцина, Попова-Станкевича, Собчака), либо выдвигая вперед людей, ранее никому не ведомых, вообще без статуса, то есть тех, чья карьера менее всего раздражает. Номенклатурные российские Советы, казалось бы, должны напоминать номенклатурные национальные Советы. Но это иллюзия. В национальных регионах по мере подъема движения "национализируется" и сама номенклатура, рекрутируемая из той же национальной среды. Обнаруживается невидимая связь между поведением самых "назначенных" депутатов и настроением улицы. Номенклатура раскалывается на части; меньшая обычно полностью отказывается от национальности и становится политическим агентом империи, большая же - дрейфует с определенным отставанием за национально-ориентированным движением. Это отчетливо видно на примерах деятельности старых Верховных Советов, избранных еще в 1985 году. В России, опять-таки, связь номенклатурных депутатов и властей с общероссийскими и демократическими интересами отсутствует. Максимально, на что они способны - на отстаивание сугубо местнических, локальных интересов, сформированных искусственно, благодаря той, а не иной системе фондирования и административного руководства. С этим связана и еще одна очень важная российская специфика: "парад суверенитетов". Когда прокламируют суверенитет реальные национальные общности, смешного и удивительного в этом нет ничего; это факт политической борьбы и только она определит будущее гагаузского, скажем, суверенитета. Совсем иное дело, когда спор о прерогативах разворачивается между "встроенными" властями, за которые избиратель голосовал, зачастую не видя между ними различия: между Союзом и РСФСР, между РСФСР и областями и так далее до квартала! Положим, формальная идея "полновластия Советов" провоцирует на подобный парад амбиций, но проявляется он только в России и неведом в национальных районах и Восточной Европе. Отсутствие России (не в географической реальности, а в политическом сознании) - вот единственная причина подобных аномалий. Ведь групповая идентификация, сословная она будь или национальная, может быть интерпретирована как самоограничение, как согласие умерить личные амбиции в пользу выраженных и осознанных интересов группы. А результат национальной и социальной революций - максимальное совпадение пределов самоограничения с границами государства, определяющими и границы юридического, экономического, культурного единства. Все, что лежит вне пределов национального государства, воспринимается уже на другой, договорной основе, на основе рациональной калькуляции... В России, как мы видим, специфически-российские самоограничения отсутствуют, а имперские - стремительно распадаются и дискредитируются. То, что мы увидели на примере Советов, можно проследить и на примере общественных организаций, движений, групп, структур. Для человека, ранее об этом не задумывавшегося, оказывается поразительной констатация полного отсутствия российских структур вообще, кроме как возможных вспомогательно-административных подразделений структур союзных. И "либералы", и "консерваторы" рассматривали возможные свои российские организации (создать их так никому и не удалось) как лишь часть союзных. Ведь так и не созданы ни Компартия РСФСР, ни российские казенные профсоюзы! Даже Союз Писателей РСФСР, несмотря на национальные амбиции, стал лишь отрицательным местом - пунктом сбора проживающих в РСФСР литераторов, по слабости способностей чувствующих себя неуютно в СП СССР - организации уже союзной. Тот факт, что проблема России имеет национальную природу, подтверждается и почти стопроцентным совпадением "социалистического" и "имперского" течений, с полным подчинением и служебной ролью "социалистической" составляющей. Главной опорой "социализма" стали структуры, принципиально и по определению союзные - КГБ СССР (не республик!), МО СССР и население регионов "нового казачества", то есть русских колоний в инонациональной среде. Как раз в этих колониях национальное дробление четко коррелирует с социальным, и в результате сословные границы осознаются как реальные. В собственно же России, обратим на это особое внимание, выборы и практика деятельности общественных организаций продемонстрировали замечательное социальное единство, а апелляция к сословно-классовым лозунгам потерпела полный крах. Трагической на этом фоне представляется позиция российских либералов, до сих пор воображающих, будто лозунг национального самоопределения есть лозунг вторичный по отношению к общедемократическим требованиям. Они забывают, что при невнимании либералов к этому лозунгу его последовательнее всего реализовывали диктаторы - вплоть до Гитлера. Они до сих пор ведут себя как ответственные за "всю державу" и видят деятелей национальных движений в роли младших партнеров, которых можно судить, поучать, направлять... * * * Все вышеизложенное представляет собой лишь определенную попытку построения черновой теоретической модели для дальнейшего исследования. Автор готов подтвердить любые высказанные им положения десятком примеров, разобрав их и показав общие и специфические их черты. Автор отдает себе отчет в том, что реальный калейдоскоп национальной революции в СССР гораздо запутаннее и сложнее, чем в упрощенном очерке. Так, сознательно им не затронуты проблемы интерпретации взаимодействия разных исходных стереотипов в Советах смешанного состава; не показана важность такого вопроса, как восприятие власти в различных национальных и социальных культурах и интерференция этих восприятий; не обрисована проблема иерархии национальных проблем СССР (ССР, АССР, национальные области, неинституционализированные нации и их взаимодействие); не очерчены конкретные коллизии в разных регионах с их исторической подкладкой и возможными сценариями развития... |
| [email protected] | Московский Либертариум, 1994-2020 | |