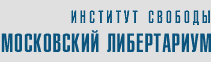1. Собственность
Человеческое общество представляет
собой объединение людей для совместной деятельности. В противоположность
изолированной деятельности индивидов совместная деятельность на основе принципа
разделения труда создает преимущество -- более высокую производительность. Если
некоторое число людей работает в сотрудничестве и кооперации в соответствии с
принципом разделения труда, то они будут производить (при прочих равных) не
только то же самое количество, которое они производили бы, работая как
самостоятельные индивиды, а значительно больше. Вся человеческая цивилизация
стоит на этом. Именно разделение труда отличает человека от животных. Именно
разделение труда сделало слабого человека, значительно уступающего большинству
животных в физической силе, властелином планеты и создателем чудес техники. Не
будь разделения труда, мы ни в каком отношении не были бы впереди наших предков,
живших тысячу или десять тысяч лет назад.
Человеческий труд сам по себе не способен увеличивать благосостояние. Чтобы
труд был плодотворным, он должен быть приложен к материалам и ресурсам Земли,
которые Природа предоставила в наше распоряжение. Земля со всеми веществами и
силами и человеческий труд составляют два фактора производства, от
целенаправленного взаимодействия которых происходят все товары, служащие
удовлетворению наших материальных внешних нужд. Для того чтобы производить,
необходимо использовать труд и материальные факторы производства, включая не
только природное сырье и ресурсы, в большинстве случаев находящиеся в земле, но
и промежуточные продукты, уже изготовленные из этих первичных природных факторов
производства ранее затраченным трудом. На языке экономики мы различаем
соответственно три фактора производства: труд, землю и капитал. Под землей
следует понимать все, что Природа предоставляет в наше распоряжение в виде
веществ и сил расположенных на, под и над поверхностью Земли, в воде и в
воздухе; под капиталом и капитальными ресурсами
-- все промежуточные блага,
произведенные из земли с помощью труда, служащие предметом труда для дальнейшего
производства, как то машины, орудия, полуфабрикаты всех типов и т.д.
Теперь мы хотим рассмотреть две различные системы кооперации, существующие
при разделении труда: одну, основанную на частной собственности на средства
производства, и другую, основанную на общественной собственности на средства
производства. Последняя называется социализмом или коммунизмом; первая
-- либерализмом или также (с тех пор как эта система создала в XIX веке разделение
труда, охватывающее весь мир) капитализмом. Либералы утверждают, что
единственной работающей и эффективной системой человеческого сотрудничества в
обществе, основанном на разделении труда, является частная собственность на
средства производства. Они заявляют, что социализм как всеобъемлющая система,
охватывающая все средства производства, неработоспособна и что применение
социалистического принципа к части средств производства, хотя и не является,
конечно, невозможным, ведет к сокращению производительности труда, так что
вместо создания большего богатства оно должно, наоборот, давать эффект
уменьшения богатства.
Программа либерализма, следовательно, если выразить ее одним словом, будет
читаться так: собственность, т.е. частное владение средствами производства
[в отношении товаров, готовых к потреблению, частное владение является само собой
разумеющимся и не оспаривается даже социалистами и коммунистами]. Все остальные
требования либерализма вытекают из этого фундаментального требования.
В ряд со словом "собственность" в программе либерализма вполне можно
поставить слова "свобода" и "мир". И это не потому, что старая программа
либерализма обычно их сюда и помещала. Мы уже говорили, что программа
сегодняшнего либерализма переросла программу старого либерализма, она основана
на более глубоком и лучшем понимании общественных взаимоотношений и опирается на
прогресс, который сделала наука в последние десятилетия. Свобода и мир были
выдвинуты на передний план программы либерализма не потому, что многие из
"старых" либералов считали их скорее равными по значимости фундаментальным
принципам либерализма, а не просто необходимым следствием единственно
фундаментального принципа -- частной собственности на средства производства; а
только лишь потому, что свобода и мир подвергались особенно яростным нападкам со
стороны противников либерализма. И либералы не хотели отказаться от этих
принципов и создать видимость того, что они в какой-либо мере признали
справедливость выдвигаемых возражений.
2. Свобода
Идея свободы столь прочно укоренилась во всех
нас, что в течение долгого времени никто не осмеливался ставить ее под сомнение.
Люди привыкли всегда говорить о свободе с величайшей почтительностью. Такое
отношение к свободе есть достижение либерализма, хотя этот факт теперь нередко
забывают. И только Ленин называл ее "буржуазным предрассудком". Само название
"либерализм" происходит от слова "свобода", а название партии, оппозиционной
либералам [оба обозначения возникли в ходе конституционной борьбы первых
десятилетий XIX века в Испании] изначально было "рабская" ("servile").
До возникновения либерализма даже мудрые философы, основоположники великих
религий, духовенство, воодушевленные самыми лучшими намерениями, и
государственные деятели, которые искренне любили свой народ, смотрели на рабство
определенной части человеческой расы как на справедливую, в общем полезную и
явно благотворную систему. Некоторым людям и народам, как считалось, свобода
дарована природой, другие же "осуждены" на рабство. Таким образом думали не
только хозяева, но также и большее число рабов. Они мирились со своим рабским
положением не только потому, что им приходилось подчиняться превосходству хозяев
в силе, но также и потому, что они находили в этом некое благо: раб был
освобожден от забот о своем хлебе насущном, так как хозяин был обязан снабжать
его всем жизненно необходимым. Когда в XVIII и в первой половине XIX века возник
либерализм, чтобы уничтожить крепостное право и подчинение крестьянского
населения Европы и рабство негров в заокеанских колониях, немало искренних
гуманистов объявили себя противниками этого. Несвободные работники привыкли к
своей зависимости и не воспринимали ее как зло. Они были не готовы к свободе и
не знали, что с нею делать. Прекращение хозяйской заботы было бы для них
пагубным. Они были бы не способны управлять своими делами таким образом, чтобы
всегда обеспечивать себе больше, чем то количество, которого было едва
достаточно для удовлетворения первых жизненных потребностей, и вскоре впали бы в
нужду и нищету. Эмансипация, таким образом, не только не дала бы им ничего,
имеющего реальную ценность, но серьезно ухудшила бы их материальное
благосостояние.
Поразительно, что можно было услышать, как эти взгляды выражали даже рабы.
Для того чтобы противостоять таким суждениям, многие либералы считали
необходимым представлять в качестве общего правила (и даже в преувеличенном
виде) исключительные случаи жестокого обращения. Эти крайности никоим образом не
были правилом. Были, конечно, отдельные примеры плохого обращения, и тот факт,
что такие случаи существовали, был дополнительным основанием для уничтожения
этой системы. Как правило, однако, отношение хозяев к рабам было человечным и
мягким.
Когда тем, кто рекомендовал уничтожить принудительную зависимость с
общегуманистических позиций, говорили, что сохранение этой системы было также и
в интересах рабов и крепостных, они не знали, что ответить. Ибо против этого
аргумента в защиту рабства существует только один довод, который может
опровергнуть и действительно опровергал все остальные,
-- а именно, что свободный
труд несравнимо более производителен, чем рабский. Раб не заинтересован в том,
чтобы стараться изо всех сил. Он работает ровно столько и настолько усердно,
насколько это необходимо для того, чтобы избежать наказания за невыполненный
минимум работы. С другой стороны, свободный работник знает, что чем большего
результата он достигает своим трудом, тем больше ему заплатят. Он напрягает все
свои силы для того, чтобы повысить свой доход. Достаточно сравнить те
требования, которые предъявляются к работнику, обслуживающему современный
трактор, с относительно скромными затратами ума, силы и прилежания, которые
всего два поколения назад считались достаточными для крепостного пахаря России.
Только свободный труд может совершить то, что должно требоваться от современного
промышленного рабочего.
Бестолковые болтуны могут, следовательно, бесконечно спорить по поводу того,
предназначены ли все люди для свободы и готовы ли они к ней в данный момент. Они
могут продолжать утверждать, что существуют расы и народы, которым природой
предписана жизнь в рабстве, и что расы господ несут долг сохранения остального
человечества в зависимости. Либерал ни в коей мере не будет выступать против их
аргументов, потому что его аргументы в пользу свободы для всех без исключения
совершенно иного рода. Мы, либералы, не утверждаем, что Бог или Природа задумали
всех людей свободными, так как не посвящены в замыслы Бога или Природы, и мы из
принципа избегаем вовлечения Бога или Природы в спор о земных делах. Мы
утверждаем, что система, основанная на свободе для всех работников, гарантирует
наивысшую производительность труда и, следовательно, служит интересам всех. Мы
нападаем на принудительное рабство не потому, что оно выгодно только "хозяевам",
а потому, что убеждены: в конечном счете оно вредит интересам всех членов
общества, включая "хозяев". Если бы человечество оставалось верным практике
содержания всей или даже части рабочей силы в рабстве, изумительные
экономические достижения последних ста пятидесяти лет были бы невозможны. У нас
не было бы ни железных дорог, ни автомобилей, ни самолетов, ни пароходов, ни
электрического освещения и энергетики, ни химической промышленности, мы жили бы
как древние греки или римляне, при всей их гениальности,
-- без всего этого.
Достаточно просто упомянуть об этом, чтобы каждому было понятно, что даже бывшие
хозяева рабов и крепостных имели все основания быть удовлетворенными ходом
развития общества после уничтожения принудительного рабства. Европейский рабочий
сегодня живет в более благоприятных и приемлемых внешних условиях, чем жил
когда-то египетский фараон, несмотря на то что фараон управлял тысячами рабов, в
то время как рабочий не зависит ни от чего, кроме силы и умения своих рук. Если
бы набоб из давних времен был помещен в те условия, в которых живет современный
простой человек, он бы без колебания объявил, что его жизнь была нищенской по
сравнению с той, которую ведет в наше время человек даже среднего достатка.
Это -- плоды свободного труда. Свободный труд способен создать больше
богатства для всех, чем рабский труд когда-то давал хозяевам.
3. Мир
Есть благородные люди, которые ненавидят войну,
потому что она приносит смерть и страдания. Какого бы восхищения не вызывал их
гуманизм, их аргументы против войны, основанные на филантропических позициях,
по-видимому, частично или полностью теряют всю свою силу, если мы рассмотрим
утверждения сторонников и защитников войны. Последние никоим образом не отрицают
того, что война приносит боль и горе. Тем не менее они верят, что именно при
помощи войн и только войнами человечество способно добиваться прогресса. Война
-- отец всех вещей, сказал какой-то греческий философ, и тысячи людей повторяли это
вслед за ним. Человек вырождается в мирные времена. Только война пробуждает в
нем дремлющие таланты и силы и вселяет в него возвышенные идеалы. Если бы войны
отменили, человечество впало бы в праздность и застой.
Трудно или даже невозможно опровергнуть такой способ аргументации со стороны
защитников войн, если единственное возражение состоит в том, что войны требуют
жертв. Сторонники войн придерживаются мнения, что жертвы эти приносятся не
впустую и они совершенно необходимы. Если бы правдой было то, что война
-- отец
всех вещей, то человеческие жертвы, которых она требует, были бы необходимы для
дальнейшего повышения всеобщего благосостояния и прогресса человечества. Можно
горько оплакивать эти жертвы, даже стараться уменьшить их число, но нельзя
оправдать желание уничтожить войны и установить вечный мир.
Либеральная критика аргументов в защиту войн принципиально отличается от
критики гуманистов. Она начинает с предпосылки, что не война, а мир является
отцом всех вещей. Единственное, что дает возможность человечеству двигаться
вперед и что отличает человека от животных, это социальная кооперация.
Единственное, что производительно, это труд: он создает богатство и тем самым
закладывает материальные основы для внутреннего расцвета человека. Война только
разрушает; она не создает. Война, резня, разрушение и опустошение связываются в
нашем сознании с хищными зверями джунглей; созидательный труд
-- это особое,
присущее только человеку свойство. Либерал питает отвращение к войне не как
гуманист, не потому, что она имеет "полезные" результаты, а потому, что
последствия ее только вредные.
Любящий мир гуманист обращается к всесильному монарху: "Не затевай войны,
несмотря на то что у тебя есть перспектива улушить собственное благосостояние
победой. Будь благороден и великодушен и откажись от соблазнительной победы,
даже если это означает для тебя жертву и потерю преимущества". Либерал думает
по-другому. Он убежден, что победоносная война есть зло даже для победителя, а
мир всегда лучше войны. Он требует не жертвы со стороны сильнейшего, а осознания
того, в чем состоят его, сильнейшего, истинные интересы и умения понимать, что
мир для него так же выгоден, как и для более слабого.
Когда миролюбивый народ подвергается нападению со стороны воинственного
врага, он должен оказать сопротивление и сделать все необходимое, чтобы отразить
нападение. Героические дела, совершенные в такой войне теми, кто борется за свою
свободу и жизнь, всецело достойны похвалы. Заслужено превозносить мужество и
храбрость таких борцов. Здесь отвага, неустрашимость и презрение к смерти
похвальны, поскольку они служат добру. Но люди совершили ошибку, представляя эти
солдатские доблести как абсолютные достоинства, как качества в себе и для себя,
без учета результата, которому они послужили. Тот, кто придерживается такого
мнения, должен, если он последователен, таким же образом признать в качестве
благородных качеств отвагу, неустрашимость и презрение к смерти грабителя. В
действительности, однако, не существует ничего хорошего или плохого самого по
себе. Действия становятся хорошими или плохими только через тот результат. Даже
великий спартанец Леонид не был бы достоин тех почестей, которые ему воздают,
если бы пал не как защитник родины, а как предводитель захватнической армии,
вознамерившейся отнять у мирного народа свободу и земли.
Насколько вредны войны для развития человеческой цивилизации, становится
совершенно очевидным, как только становятся понятными преимущества, происходящие
от разделения труда. Разделение труда превращает самостоятельного индивида в
..... [животное политическое -- греч.], зависящего от своих товарищей, социальное
животное, о котором говорил еще Аристотель. Акты враждебности между одним
животным и другим или между одним дикарем и другим никоим образом не изменяют
экономической основы их существования. Дело обстоит совершенно иначе, когда
конфликт, который должен быть разрешен посредством оружия, возникает в
сообществе, где труд разделен. В таком обществе каждый индивид имеет особую
функцию; никто более не занимает такого положения, чтобы жить независимо, потому
что все нуждаются в помощи и поддержке друг друга. Самостоятельные фермеры,
которые производят на своих собственных фермах все, что нужно им и их семьям,
еще могут позволить себе затеять войну друг с другом. Но когда деревня
разделяется на группировки, где кузнец на одной стороне, а сапожник на другой,
то одной группировке придется страдать от отсутствия обуви, а другой
-- от
отсутствия инструментов и оружия. Гражданская война уничтожает разделение труда,
она вынуждает каждую группу людей существовать самостоятельно, за счет труда
своих сторонников.
Если бы возможность таких столкновений считалась вероятной, то разделение
труда никогда бы не смогло развиться до такого уровня, когда в случае
действительной войны, пришлось бы терпеть лишения. Углубляющееся разделение
труда возможно только в таком обществе, где существует гарантия продолжительного
мира. Разделение труда может развиваться только в условиях безопасности. В
отсутствие этой предпосылки разделение труда не распространяется далее пределов
деревни или даже индивидуального домохозяйства. Разделение труда между городом и
деревней -- когда крестьяне окружающих деревень поставляют зерно, скот, молоко и
масло городу в обмен на товары, произведенные городским населением,
-- уже
предполагает гарантию мира, по крайней мере в пределах рассматриваемого региона.
Если разделение труда охватывает целую нацию, то гражданская война должна
находиться за пределами возможного; если же оно должно охватить весь свет
-- должен быть гарантирован продолжительный мир между народами.
Всякий сегодня счел бы совершенно бессмысленным для современной столицы типа
Лондона или Берлина готовиться к войне с жителями примыкающей территории. Тем не
менее в течение многих веков города Европы жили под гнетом возможности такой
войны, принимали меры как к поддержанию обороны, так и к смягчению возможных
экономических последствий. Были города, где оборонительные сооружения изначально
сконструированы так, чтобы в случае необходимости они могли выстоять какое-то
время, содержа скот и выращивая зерно внутри городских стен.
В начале XIX века подавляющая часть населенного мира была по-прежнему
разделена на ряд более-менее самостоятельных экономических районов. Даже в
наиболее развитых регионах Европы потребности удовлетворялись большей частью за
счет производства внутри региона. Торговля, которая выходила за узкие рамки
границ близлежащей округи, была относительно незначительной и охватывала только
такие товары, которые не могли производиться на месте из-за климатических
условий. В значительно большей части мира, однако, собственное деревенское
производство снабжало жителей почти всем необходимым. Для этих деревень
нарушение торговых отношений, вызываемое войной, обычно не сопровождалось
сколь-либо значительным ухудшением экономического благополучия. Даже жители
более развитых стран Европы не особенно жестоко страдали во время войны. Если бы
континентальная система, которую Наполеон I ввел в Европе для того, чтобы
изгнать с континента английские товары и товары, поступившие в Британию из-за
океана, претворялась в жизнь даже более сурово, чем это было в действительности,
она все же вряд ли принесла бы жителям континента какие-либо ощутимые лишения.
Им бы, конечно, пришлось обходиться без кофе и сахара, хлопка и хлопковых
изделий, специй и многих редких сортов дерева; но все эти продукты играли тогда
второстепенную роль в домашних хозяйствах широких масс.
Развитие сложной системы международных экономических отношений есть продукт
либерализма и капитализма XIX века. Только они сделали возможной широкую
специализацию современного производства с сопутствующими улучшениями технологии.
Для того чтобы снабдить семью английского рабочего всем, что она потребляет и
чего она желает, необходима кооперация народов пяти континентов. Чай к завтраку
поставляется из Японии или Цейлона, кофе -- из Бразилии или Явы, сахар
-- из
Вест-Индии, мясо -- из Австралии или Аргентины, хлопок из Америки или Египта,
шкуры для кожаных изделий -- из Индии или России и т. д. И в обмен на эти
продукты английские товары идут во все части света, в самые отдаленные и
недосягаемые деревни и фермы. Такой процесс стал мыслим и возможен только
потому, что с торжеством либеральных принципов люди перестали принимать всерьез
идею о том, что когда-либо вновь может разразиться Великая война. В Золотой век
либерализма война между людьми белой расы всеми рассматривалась как дело
прошлого.
Но события повернулись иначе. Либеральные идеи и программы были вытеснены
социализмом, национализмом, протекционизмом, империализмом, этатизмом и
милитаризмом. Тогда как Кант и фон Гумбольдт, Бентам и Кобден восхваляли вечный
мир, представители следующей эпохи не уставали превозносить войну
-- как
гражданскую, так и международную. И их успех не заставил себя ждать. Результатом
явилась Мировая война,<Первая мировая война, поскольку книга напечатана в
1927г. -- Прим. науч. ред> которая преподнесла нашему веку своего рода
предметный урок несовместимости между войной и разделением труда.
4. Равенство
Ни в чем различие в доводах старого
либерализма и неолиберализма не проявляется яснее, и нигде его нельзя так легко
продемонстрировать, как в их отношении к проблеме равенства. Либералы XVIII
столетия, движимые идеями естественного права (natural law) и эпохи Просвещения
(Enlightment), требовали равенства политических и гражданских прав для всех,
потому что они полагали, что все люди равны. Бог создал всех людей равными,
наделив их фундаментально одинаковыми способностями и талантами, вдохнув в
каждого свой дух. Все различия между людьми являются лишь искусственными,
продуктом социальных, человеческих -- скажем так, преходящих,
-- институтов. То,
что в человеке бессмертно -- его дух -- несомненно, одинаково заложен в богатом и
в бедном, в дворянине и в простом человеке, в белом и цветном.
Ничто, однако, не является столь плохо обоснованным, как утверждение о
присущем всем членам человеческой расы равенстве. Люди абсолютно не равны. Даже
между братьями существуют весьма заметные различия в физических и умственных
качествах. Природа никогда не повторяет своих творений; она не производит ничего
массового и ничего стандартного. Каждый человек, выходящий из ее мастерской,
несет на себе отпечаток индивидуальности, уникальности и неповторимости. Люди не
равны, и требование равенства перед законом никак не может основываться на
утверждении, что с равными надлежит обращаться одинаково.
Существуют две причины, почему люди должны быть равными перед законом. Одна
уже упоминалась, когда мы анализировали аргументы против насильственного
рабства. Для того чтобы труд мог достичь максимальной производительности,
работник должен быть свободен, потому что только свободный работник,
наслаждающийся плодами своего собственного усердия в форме зарплаты, будет
полностью напрягать свои силы. Второе соображение в пользу равенства всех людей
перед законом -- это поддержание социального мира. Уже указывалось на то, что
следует избегать всякого нарушения мирного процесса разделения труда. Но почти
невозможно сохранить продолжительный мир в обществе, где права и обязанности
различаются в соответствии с классовой принадлежностью. Тот, кто отказывает
части населения в правах, должен всегда быть готов к объединенному наступлению
тех, кто лишен гражданских прав, на привилегированную часть общества. Классовые
привилегии должны исчезнуть, и тогда прекратится конфликт по их поводу.
Следовательно, совершенно не имеет смысла придираться к формуле, в которой
либерализм воплотил свой постулат равенства, упрекая его в том, что он создал
лишь равенство перед законом, а не истинное равенство. Всей человеческой силы не
хватило бы, чтобы сделать людей действительно равными. Люди есть и всегда будут
неравными. Именно приведенные здесь здравые соображения, апеллирующие к
полезности, составляют аргументы в пользу равенства всех людей перед законом.
Либерализм никогда не был нацелен ни на что большее и никогда ни о чем большем
не мог и просить. Сделать негра белым выше человеческой силы. Но можно дать
негру те же самые права, что и белому, и тем самым предложить ему возможность
зарабатывать столько же, сколько белый, если он столько же производит.
Но социалисты говорят, что недостаточно сделать людей равными по закону. Для
того чтобы сделать их действительно равными, нужно также наделить их и
одинаковым доходом. Недостаточно уничтожить привилегии, дарованные по рождению и
по чину. Надо завершить дело, покончив с наиболее важной из всех привилегий, а
именно с той, которая дается частной собственностью. Только тогда полностью
реализуется либеральная программа, а последовательный либерализм, таким образом,
ведет в конечном счете к социализму, к уничтожению частной собственности на
средства производства.
Привилегии являются институциональным соглашением, дающим преимущество одним
лицам или определенной группе за счет других. Привилегия существует, несмотря на
то что она приносит вред некоторым -- возможно, большинству
-- и не приносит
пользы никому, за исключением тех, для чьей выгоды она была создана. В условиях
феодальной системы средних веков сеньоры владели наследственным правом вершить
правосудие. Они являлись судьями, потому что унаследовали это положение
независимо от того, были ли у них способности и свойства, которые делают
человека подходящим на роль судьи. По их мнению, эта должность была не чем иным,
как выгодным источником дохода. Здесь правосудие было привилегией благородного
по рождению.
Однако если, как в современных государствах, судьи всегда выбираются из круга
тех, кто имеет юридическое образование и опыт, это не составляет привилегию в
пользу юристов. Предпочтение отдается юристам не ради них самих, а ради
общественного благополучия, поскольку люди обычно придерживаются мнения, что
знание юриспруденции есть необходимая предпосылка для осуществления правосудия.
Вопрос о том, следует или нет определенное институциональное устройство считать
привилегией определенной группы, класса или человека, нельзя решать по тому,
приносит или нет оно выгоду этой группе, классу или человеку, а в соответствии с
тем, насколько его можно рассматривать как полезное широкой публике. Тот факт,
что на корабле в море один человек -- капитан, а остальные составляют его команду
и подчиняются его приказам, конечно же, является премуществом для капитана. Тем
не менее это не является привилегией капитана, если он имеет способность вести
судно меж рифов в шторм и тем самым быть полезным не только себе, но и всей
команде.
Для того чтобы определить, считать ли какое-либо институциональное устройство
специальной привилегией человека или класса, надо задать вопрос не о том,
приносит ли оно выгоду тому или иному человеку или классу, а лишь о том, выгодно
ли это устройство широкой публике. Если мы придем к заключению, что только
частная собственность на средства производства делает возможным развитие
человеческого общества в сторону процветания, то ясно, что это равносильно тому,
что частная собственность не является привилегией владельца собственности, а
является общественным институтом, служащим добру и выгоде всех, несмотря на то
что она может в то же время быть особенно приятной и полезной для некоторых.
Либерализм выступает за сохранение института частной собственности вовсе не в
интересах владельцев собственности. Вовсе не потому либералы хотят сохранить
этот институт, что его уничтожение нарушило бы чьи-то права собственности. Если
бы они считали, что уничтожение института частной собственности будет в
интересах всех, они выступали бы за то, чтобы его уничтожить, как ни противна
была бы такая политика интересам владельцев собственности. Однако, сохранение
этого института служит интересам всех слоев общества. Даже бедняк, который
ничего не может назвать своим, живет в нашем обществе несравнимо лучше, чем если
бы он жил в таком, которое не способно производить даже малую часть того, что
производится сегодня.
5. Неравенство распределения богатства и дохода
Что в
нашем общественном устройстве более всего подвергается критике? Неравенство
распределения богатства и дохода! Существуют бедные и богатые; существуют очень
бедные и очень богатые. Выход далеко искать не надо: равное распределение всего
богатства.
Первое возражение против этого предложения заключается в том, что его
осуществление мало поможет ситуации, потому что людей с умеренными средствами
значительно больше, чем богатых, так что каждый человек мог бы ожидать от такого
распределения лишь совсем незначительного улучшения своего жизненного уровня.
Это, конечно, правильно, но это еще не все аргументы. Те, кто выступает за
равенство в распределении дохода, упускают из виду наиболее важный момент, а
именно, что суммарный доступный для распределения годовой продукт общественного
труда не зависит от способа его деления. То, что этот продукт сегодня
производится в данном количестве, не является природным или технологическим
явлением, независимым от социальных условий. Напротив, это всецело является
результатом наших общественных институтов. При нашем общественном порядке только
потому и возможно неравенство в богатстве, что оно стимулирует каждого
производить столько, сколько он может и при самых низких издержках,
-- и
человечество имеет сегодня то суммарное годовое богатство, которое теперь
доступно для потребления. Если бы этот побудительный мотив был уничтожен,
производительность снизилась бы так сильно, что та доля, которая при равном
распределении досталась бы каждому, была бы значительно меньше, чем получает
сегодня даже самый бедный.
Неравенство в распределении дохода имеет, однако, еще одну функцию, абсолютно
такой же важности, как и та, о которой уже говорилось: оно делает возможным
роскошь богатых.
Много глупых вещей говорили и писали о роскоши. Против потребления предметов
роскоши выдвигались возражения, будто несправедливо, когда одни наслаждаются
великим изобилием, другие пребывают в нужде. Этот аргумент как будто имеет
некоторые достоинства. Но так только кажется. Если удастся показать, что
потребление роскоши выполняет полезную функцию в системе социальной кооперации,
то тогда этот аргумент можно считать неверным. Именно это мы и попытаемся
продемонстрировать.
Защищая роскошь, мы не станем приводить аргумент, который можно подчас
услышать, будто роскошь перераспределяет деньги между людьми. Если бы богатые не
позволяли себе роскоши, то якобы бедные не имели бы дохода. Это просто чепуха!
Потому что если бы не было потребления роскоши, то капитал и труд, которые иначе
применялись бы в производстве предметов роскоши, производили бы другие блага,
например, предметы массового потребления, "необходимые" товары, вместо товаров
"ненужных".
Для того чтобы сформировать правильную концепцию общественной значимости
роскоши, нужно прежде всего осознавать, что понятие роскоши является
относительным. Роскошь -- это образ жизни, который находится в остром контрасте с
тем, который ведут широкие массы современников. Концепция роскоши,
следовательно, является, по существу, исторической. Многие вещи, которые кажутся
нам сегодня предметами необходимости, когда-то считались предметами роскоши.
Когда в средневековье аристократическая византийская дама, жена венецианского
дожа, использовала золотой прибор, который можно было бы назвать предшественниц
вилки, вместо того чтобы есть руками, венецианцы смотрели на это как на
безбожную роскошь и считали справедливым, когда эту даму поражала ужасная
болезнь: это, должно быть, полагали они, вполне заслуженное Божье наказание за
такую противоестественную экстравагантность. Два или три поколения назад даже в
Англии ванная в доме считалась роскошью; сегодня ванная есть в доме каждого
среднего английского рабочего. Тридцать пять лет назад не было автомобилей;
двадцать лет назад обладание таким средством передвижения было признаком
особенно роскошного образа жизни. Сегодня в Соединенных Штатах даже рабочий
имеет свой собственный "форд". Таков ход экономической истории. Роскошь сегодня
-- это необходимость завтра. Каждое новшество сначала входит в нашу жизнь как
предмет роскоши для немногих богатых людей, чтобы только через некоторое время
стать предметом необходимости, воспринимаемым каждым человеком как данность.
Потребление роскоши дает промышленности стимул открывать и создавать новые
продукты. Это один из динамических факторов нашего хозяйства. Ему мы обязаны
теми прогрессивными инновациями, благодаря которым постепенно повышался уровень
жизни всех слоев населения.
Большинство не питает симпатий к богатому бездельнику, который проводит жизнь
в удовольствиях, никогда не занимаясь никакой работой. Но даже он выполняет свою
функцию в жизни общественного организма. Он подает пример "роскошной" жизни,
который пробуждает в массах осознание новых потребностей и дает промышленности
стимул к производству. Было время, когда только богатые могли позволить себе
роскошь посещать зарубежные страны. Шиллер никогда не видел швейцарских гор,
которые прославлял в "Вильгельме Телле", хотя они граничили с его швабской
родиной. Гете не видел ни Парижа, ни Вены, ни Лондона. Сегодня, однако,
путешествуют сотни тысяч людей, а скоро это будут делать миллионы.
6. Частная собственность и этика
В попытке
продемонстрировать социальную функцию и необходимость частной собственности на
средства производства и сопутствующего ей неравенства в распределении дохода и
богатства мы в то же время предоставляем доказательство моральной оправданности
частной собственности и основанного на ней капиталистического общественного
порядка.
Нравственность заключается в том внимании, которое должен уделить каждый член
общества необходимым условиям общественного существования. Человек, живущий в
изоляции, не имеет моральных правил. Ему не нужно сомневаться в своей правоте по
поводу каких--то поступков, которые он считает полезным совершать, поскольку ему
не приходится думать о том, не наносит ли он этим ущерб другим. Но как член
общества человек должен принимать во внимание во всем, что он делает, не только
свою непосредственную пользу, но также и необходимость в каждом действии
укреплять общество в целом. Жизнь индивида в обществе возможна только при помощи
социальной кооперации, и каждый индивид весьма серьезно пострадал бы, распадись
вдруг социальная организация жизни и производства. Требуя от индивида, чтобы он
соблюдал интересы общества во всех своих действиях, чтобы он не предпринимал
таких действий, которые, принося пользу ему, были бы вредны для общественной
жизни, общество не требует, чтобы он жертвовал собой в интересах других.
Поскольку та жертва, которую он принимает на себя, лишь условна: это отказ от
непосредственной и относительно меньшей выгоды в обмен на значительно большую в
конечном счете пользу. Интерес каждого индивида состоит в продолжении
существования общества как объединения людей, работающих совместно и разделяющих
общий образ жизни. Тот, кто отказывается от моментальной выгоды для того, чтобы
не подвергать опасности сохранение существования общества, жертвует меньшим ради
большего.
Смысл этой заботы об общем социальном интересе часто понимался неправильно.
Полагали, что ее нравственная ценность состоит в самом факте самопожертвования,
в отказе от немедленного удовлетворения. Отказывались видеть, что нравственную
ценность представляет не сама жертва, а тот результат, которому служит эта
жертва, и приписывали нравственную ценность жертве, отказу как таковому
-- и
только. Но жертвование нравственно только тогда, когда оно служит нравственному
результату. Существует бездна различий между человеком, который рискует жизнью и
имуществом из высших побуждений, и человеком, который жертвует ими, никоим
образом не принося этим пользы обществу.
Все, что служит сохранению социального порядка,
-- нравственно; все, что
наносит ему ущерб, -- безнравственно. Соответственно, когда мы приходим к
заключению, что какой-либо институт полезен для общества, то нельзя более
утверждать, что он безнравственен. Могут, вероятно, существовать разные мнения
относительно того, общественно полезен или вреден тот или иной институт. Но коль
уж он был назван полезным, то нельзя более утверждать, что по какой-то
необъяснимой причине он должен быть признан безнравственным.
7. Государство и правительство
Соблюдение нравственного
закона есть конечный интерес каждого индивида, потому что от сохранения
социальной кооперации выигрывают все. Это же налагает на каждого человека
необходимость жертв, даже всего лишь условных, которые с избытком компенсируются
выгодой. Осознание этого тем не менее требует определенного проникновения в
связь между вещами, а согласование своих действий в соответствии с достигнутым
пониманием требует определенной силы воли. Те, кто не имеет этого понимания или,
понимая, не имеет необходимой силы воли, чтобы воплотить его, не способны
добровольно следовать нравственному закону. Ситуация здесь та же самая, что и в
отношении соблюдения правил гигиены, которым должен следовать человек в
интересах собственного благополучия. Кто-то предается вредному и легкомысленному
образу жизни, потворствуя своей слабости к наркотикам либо потому, что он не
знает о последствиях, либо потому, что считает их менее губительными, чем отказ
от моментного удовольствия, либо потому, что ему не хватает силы воли
приспособить поведение к знанию. Существуют люди, которые считают, что общество
должно прибегать к принудительным мерам и наставлять такого человека на путь
истинный, стремясь исправить любого, чьи бездумные действия подвергают опасности
его собственную жизнь и здоровье. Они выступают за то, чтобы алкоголиков и
наркоманов принудительно удерживали от своих пороков и заставляли заботиться о
своем добром здравии.
Вопрос о том, действительно ли принуждение отвечает в таких случаях
поставленным целям, мы оставим для последующего рассмотрения. Нас волнует здесь
нечто совершенно другое, а именно вопрос о том, следует ли людей, чьи действия
представляют опасность для продолжения существования общества, принуждать
воздержаться от них. Алкоголик и наркоман вредят только себе; человек, который
нарушает правила морали, управляющие жизнью людей в обществе, вредит не только
себе, но и всем. Жизнь в обществе была бы совершенно невозможной, если бы люди,
которые желают продолжения его существования и ведут себя соответственно, должны
были бы отказываться от применения силы и принуждения против тех, кто готов
своим поведением это общество подорвать. Небольшое число антиобщественных
индивидов, т.е. люди, хоторые не хотят или не могут приносить временные жертвы,
требуемые от них обществом, способны сделать всю общественную жизнь невозможной.
Без принуждения и насилия против врагов общества, не может быть никакой жизни в
обществе.
Мы называем аппарат принуждения и насилия, который заставляет людей
придерживаться правил жизни в обществе, государством. Правила, в соответствии с
которыми действует государство, -- законом; а органы, на которых лежит
ответственность за управление аппаратом принуждения,
-- правительством.
Существует, впрочем, секта, которая верит, что можно было бы вполне спокойно
избавиться от всякой формы принуждения и строить общество всецело на
добровольном соблюдении морального кодекса. Анархисты считают государство, закон
и правительство излишними институтами в социальной системе, которая бы
действительно служила на благо всем людям, а не только особым интересам
привилегированного меньшинства. Только лишь потому, что существующий
общественный порядок основан на частной собственности на средства производства,
необходимо прибегать к принуждению и насилию для его защиты. Если бы была
уничтожена частная собственность, то все без исключения стали бы спонтанно
соблюдать правила социальной кооперации.
Уже указывалось на то, что эта доктрина ошибочна в той мере, в какой она
касается характера частной собственности на средства производства. Но даже
независимо от этого, она совершенно непригодна к употреблению. Анархист вполне
правильно не отрицает того, что каждая форма человеческого сотрудничества в
обществе, основанном на разделении труда, требует соблюдения некоторых правил
поведения, которые человеку не всегда приятны, поскольку они вынуждают его к
жертве, правда, лишь временной, но все же, по крайней мере на данный момент,
болезненной. Но анархист ошибается, полагая, будто каждый без исключения будет
соблюдать эти правила добровольно. Есть люди, страдающие дурным пищеварением,
тем не менее они, прекрасно зная, что употребление определенной пищи вызовет у
них через некоторое время жестокие, даже невыносимые боли, не могут отказать
себе в наслаждении изысканным блюдом. Взаимные же связи жизни в обществе не так
легко обнаружить, как физиологический эффект от пищи, и последствия их
разрушений наступают не быстро и, главное, ощутимо для того, кто творит зло.
Можно ли тогда предположить, не впадая окончательно в абсурд, что, несмотря на
все это, каждый индивид в анархическом обществе будет иметь большую
дальновидность и силу воли, чем обжора, страдающий расстройством пищеварения?
Можно ли в анархическом обществе целиком исключить возможность того, что
кто-нибудь по небрежности не бросит зажженную спичку и устроит пожар или в
приступе злости, ревности или мести не причинит вред своему соседу? Анархизм не
понимает истинной природы человека. Он был бы реален только в мире ангелов и
святых.
Либерализм -- не анархизм, и ничего общего с анархизмом он не имеет. Либерал
вполне ясно понимает, что без помощи принуждения существование общества будет в
опасности и за правилами поведения, соблюдение которых необходимо для
обеспечения мирного сотрудничества, должна стоять угроза силы, иначе всей
системе общества будет постоянно угрожать произвол любого из его членов. Нужно
иметь возможность принудить человека, который не уважает жизнь, здоровье, личную
свободу или частную собственность других, следовать правилам жизни в обществе.
Вот та функция, которую либеральная доктрина возлагает на государство: защита
собственности, свободы и мира.
Немецкий социалист Фердинанд Лассаль пытался выдать за нелепицу концепцию
правительства, ограниченного исключительно этой сферой, называя государство,
построенное на основе либеральных принципов, "государством
-- ночным сторожем". Но
трудно понять, почему государство "ночного сторожа" должно быть более нелепым
или плохим, чем государство, которое заботится о приготовлении кислой капусты,
производстве пуговиц для брюк или издательстве газет? Для того что понять
впечатление, которое Лассаль пытался создать своей острой критикой, нужно иметь
в виду, что немцы его времени еще не забыли о государстве монархических деспотов
с разнообразием административных и регулирующих функций и по-прежнему находились
под большим влиянием философии Гегеля, который возвысил государство до положения
божественной сущности. Если смотреть на государство так же, как Гегель, как на
"самостоятельную нравственную субстанцию", как на "всеобщее в себе и для себя",
как "рациональность воли", то, конечно, выглядит богохульством любая попытка
ограничить функцию государства служением в качестве ночного сторожа.
Только таким образом можно понять, как люди могли зайти столь далеко, чтобы
упрекать либерализм за враждебность или неприязнь к государству. Если я
придерживаюсь того мнения, что нецелесообразно возлагать на правительство задачу
управления железными дорогами, гостиницами или рудниками, то я не более враг
государства, чем мог бы называться врагом серной кислоты, потому что я считаю,
что как бы полезна она ни была для многих целей, она не пригодна ни для питья,
ни для мытья рук.
Неправильно представлять отношение либерализма к государству так, будто он
желает ограничить сферу возможно деятельности последнего или ненавидит в
принципе любую деятельность государства в области экономики. Такая интерпретация
вообще вне существа дела. Позиция, которую либерализм занимает в отношении
функций государства, является следствием защиты им частной собственности на
средства производства. Будучи сторонником частной собственности, невозможно,
конечно, быть одновременно приверженцем общественной собственности на средства
производства, т.е. передачи ее в распоряжение правительства, а не индивидуальных
владельцев. Таким образом, защита частной собственности на средства производства
уже означает жесткое ограничение функций государства.
Социалисты иногда имеют обыкновение упрекать либерализм за недостаток
последовательности. Они утверждают, что нелогично ограничивать деятельность
государства в сфере экономики исключительно защитой собственности. Трудно
увидеть, почему, если государство не должно оставаться совершенно нейтральным,
его вмешательство следует ограничить защитой прав собственников.
Этот упрек был бы оправдан только в том случае, если бы оппозиционность
либерализма в отношении всей правительственной деятельности в сфере экономики,
выходящей за рамки защиты собственности, произрастала из отвращения в принципе к
любой деятельности со стороны государства. Но дело совсем не в этом. Либерализм
возражает против дальнейшего расширения сферы правительственной деятельности
именно потому, что оно, в действительности, уничтожило бы частную собственность
на средства производства. А в частной собственности либерал видит наиболее
удобный принцип для организации жизни человека в обществе.
8. Демократия
Либерализм, следовательно, далек от
оспаривания необходимости механизма государства, системы законов и
правительства. Серьезным непониманием идей либерализма является любая попытка
связать его с анархизмом. Для либерала государство есть абсолютная
необходимость, поскольку на него возложены наиболее важные задачи: защита не
только частной собственности, но также и мира, так как, если мира нет,
невозможно полностью получить выгоды от частной собственности.
Достаточно одних только этих соображений, чтобы определить те функции,
которые должно выполнять государство для того, чтобы соответствовать
либеральному идеалу. Оно не только должно быть способно защищать частную
собственность; оно также должно быть построено таким образом, чтобы ровный и
мирный ход его развития общества никогда не прерывался гражданскими войнами,
революциями или восстаниями.
Многие люди по-прежнему находятся в плену представления, которое восходит к
долиберальной эпохе, о том, что с исполнением правительственных функций связано
определенное благородство и достоинство. До совсем недавнего времени, а зачастую
и сегодня, государственные должностные лица получали удовольствие от того
престижного положения, которое делало карьеру чиновника самой уважаемой.
Общественное уважение, которым окружен молодой "асессор"<Тот, кто сдал второй
государственный экзамен. -- Прим. ред. амер. изд.> или помощник, далеко
превосходит уважение к бизнесмену или юристу, состарившемуся в честных трудах.
Писатели, ученые и художники, известность и слава которых распространилась
далеко за пределы Германии, пользуются у себя на родине уважением,
соответствующим зачастую довольно скромному рангу, который они занимают в
бюрократической иерархии.
Не существует разумного основания для подобной переоценки деятельности,
осуществляемой в конторах административных служащих. Это своего рода атавизм,
след тех дней, когда бюргер должен был бояться князя и его рыцарей, так как в
любой момент мог быть ими ограблен. На самом деле ничем не лучше, благороднее
или почетнее проводить дни в правительственной конторе, заполняя документы, чем,
например, работать в чертежной мастерской машиностроительного завода. У сборщика
налогов занятие ничуть не более выдающееся, чем у тех, кто прямо занят созданием
богатства, часть которого забирается в виде налогов для того, чтобы оплачивать
расходы аппарата правительства.
Представление об особо выдающемся положении и особом достоинстве, связанном с
выполнением правительственных функций, и составляет основу псевдодемократической
теории государства. Согласно этой доктрине любой человек чувствует стыд, когда
позволяет другим управлять собой. Ее идеалом служит конституция, по которой
принимает решения и правит весь народ. Этого, конечно, никогда не было, никогда
не может быть и никогда не будет, даже в условиях маленького государства.
Когда-то считалось, что идеал непосредственной демократии был осуществлен в
античных греческих городах-государствах и в маленьких кантонах швейцарских гор.
Это тоже было ошибкой. В Греции только часть населения, а именно свободные
граждане, имела какое-либо представительство в правительстве; колоны (metics) и
рабы его не имели. В швейцарских кантонах только определенные дела сугубо
местного характера решались и по-прежнему решаются согласно конституционному
принципу прямой демократии. Все дела, выходящие за пределы этих узких
территориальных границ, управляются федерацией, правительство которой никоим
образом не соответствует идеалам прямой демократии.
Для человека вовсе не является постыдным, если он позволяет другим управлять
собой. Правительство и администрация, полицейские и другие институты также
требует специалистов: профессиональных чиновников и профессиональных политиков.
Принцип разделения труда не обходит и функций правительства. Невозможно быть
инженером и полицейским в одно и то же время. Моего достоинства, моего
благополучия или моей свободы нисколько не умаляет тот факт, что сам я не
полицейский. Когда определенное число людей отвечает за предоставление защиты
всем остальным, то это не более недемократично, чем если несколько человек берут
на себя производство обуви для всех остальных. Нет ни малейшего смысла возражать
против профессиональных политиков и профессиональных чиновников, если институты
государства являются демократическими. Но демократия совершенно отлична от
представлений романтических фантазеров, которые болтают о прямой демократии.
Правительство, состоящее из горстки людей
-- а правители всегда в меньшинстве
по сравнению с теми, кем они управляют, как, например, производители обуви по
сравнению с потребителями, -- зависит от согласия управляемых, т.е. от принятия
ими существующей администрации. Они могут рассматривать ее только лишь как
наименьшее из зол или как неизбежное зло и все же придерживаться того мнения,
что изменение существующей ситуации было бы нецелесообразным. Но если уж
большинство управляемых приходит к убеждению, что необходимо и возможно изменить
форму правления и заменить старый режим и старый персонал новым режимом и новым
персоналом, дни прежнего сочтены. Большинство всегда будет иметь средства
осуществить свои желания силой даже против воли старого режима. В конечном счете
ни одно правительство не сможет поддерживать власть, если оно не имеет поддержки
общественного мнения, если те, кем управляет, не убеждены в том, что это
правительство хорошее. Сила, к которой прибегает правительство для того, чтобы
сломить непокорные настроения, может быть успешно использована только до тех
пор, пока большинство не объединяется в сплоченную оппозицию.
Следовательно, при любой форме государственного устройства существуют
средства сделать правительство, по меньшей мере, зависимым от воли управляемых,
а именно: гражданская война, революция, восстание. Но это как раз те самые
средства, применения которых либерализм хочет избежать. Не может быть
продолжительного экономического улучшения, если мирное течение дел постоянно
прерывается внутренними столкновениями. Политическая ситуация, вроде той, какая
существовала в Англии во времена войн Роз, за несколько лет ввергла бы
современную Англию в глубочайшую и ужаснейшую нищету. Существующий уровень
экономического развития никогда не был бы достигнут, если бы не было найдено
способа предотвращать постоянные вспышки гражданских войн. Братоубийственная
борьба, такая как Французская революция 1789 года, обходится тяжелыми потерями
жизней и имущества. Наша нынешняя экономика не смогла бы выносить такие
катаклизмы. Населению современных столиц пришлось бы столь страшно страдать от
революционных потрясений, которые могли бы преградить путь ввозу продовольствия
и угля и перекрыть электричество, газ и воду, что уже один только страх перед
возможностью таких беспорядков парализовал бы жизнь города.
Вот та область, где находит применение социальная функция демократии.
Демократия -- это такая форма политического устройства, которая позволяет
адаптировать правительства к желаниям управляемых без насильственной борьбы.
Если в демократическом государстве правительство более не проводит ту политику,
которой хотело бы большинство населения, не нужно никакой гражданской войны,
чтобы посадить в кабинеты тех, кто желает работать так, чтобы удовлетворять
большинство. Путем выборов и парламентских соглашений перемена правительства
происходит гладко -- без трений, насилия и кровопролития.
9. Критика доктрины силы
Борцы за демократию в XVIII
столетии утверждали, что только монархи и их министры морально развращены,
неблагоразумны и порочны. В целом хорошие люди чистые, благородные и, кроме
того, обладают необходимыми интеллектуальными способностями и всегда знают и
делают то, что правильно. Это, конечно, совершеннейшая чепуха, не меньшая, чем
лесть придворных, которые приписывают своим правителям все самые хорошие и
благородные качества. Народ -- это сумма отдельных граждан; и если некоторые люди
не умны и не благородны, то все вместе, однако, таковыми не являются.
Поскольку человечество вошло в эпоху демократии с такими возвышенными
ожиданиями, то не удивительно, что вскоре иллюзии должны были рассеяться. Вскоре
выяснилось, что демократии совершают по крайней мере столько же ошибок, сколько
совершали монархии и аристократии. Сравнение, которое люди провели между теми,
кого демократия выдвигала в качестве главы правительств, и теми, кого императоры
и короли во исполнение своей абсолютной власти возвышали до этого положения,
оказалось ни в коей мере не в пользу новых обладателей власти. Французы обычно
говорят об "убийственной силе смешного". И действительно, государственные
деятели, представляющие демократию, вскоре повсеместно сделали ее посмешищем.
Представители старого режима сохраняли определенное аристократическое
достоинство, по крайней мере, во внешнем проявлении. Поведение новых правителей
заставило презирать их. Ничто не принесло большего вреда демократии в Германии и
Австрии, чем пустое высокомерие и бесстыдное тщеславие, с которым держались
лидеры социал-демократии, добравшись до власти после краха империи.
Таким образом, везде, где восторжествовала демократия, вскоре возникла
антидемократическая доктрина в качестве фундаментальной оппозиции. Говорилось,
что нет смысла позволять большинству править. Править должны лучшие, даже если
они в меньшинстве. Это кажется столь очевидным, что число сторонников
антидемократических движений всех видов постоянно растет. Чем более презираемыми
оказывались те, кого демократия возвела наверх, тем больше росло врагов
демократии.
Однако антидемократическая доктрина представляет серьезные заблуждения. Что
значит в конечном итоге говорить о "лучшем человеке" или "лучших людях"?
Польская республика поместила во главе правительства виртуозного пианиста,
считавшегося лучшим поляком века. Но те качества, которыми должен обладать глава
государства, -- совсем не те, которыми должен обладать музыкант. Оппоненты
демократии, употребляя выражение "лучший", не могут иметь в виду ничего другого,
кроме как человека или людей, наиболее подходящих к ведению правительственных
дел, даже если они плохо или совсем не разбираются в музыке. Но это приводит все
к тем же политическим вопросам: "Кто является наиболее подходящим? Это был
Дизраэли или Гладстон? Тори считали лучшим первого; виги
-- второго. Кто должен
решать это, если не большинство?"
И тут мы подходим к решающему пункту всех антидемократических доктрин,
выдвигаемому либо потомками старой аристократии или сторонниками наследственной
монархии, либо синдикалистами, большевиками и социалистами, а именно к доктрине
силы. Противники демократии отстаивают право меньшинства захватить
государственную власть силой и править большинством. Моральное оправдание такого
образа действий состоит, как считается, именно в силе, необходимой для
действительного захвата власти. Лучшими признаются лишь те, кто компетентны
править и командовать, продемонстрировав способности навязать свое правление
большинству против его воли. Здесь учение организации "Аксьон франсез" совпадает
с учением синдикалистов, а доктрина Людендорфа и Гитлера с доктриной Ленина и
Троцкого.
Можно выдвинуть много доводов "за" и "против" доктрины силы, в зависимости от
чьих-то религиозных и философских убеждений, по поводу которых едва ли можно
ожидать согласия. Здесь не место представлять и обсуждать доводы "за" и
"против", поскольку они не убедительны. Единственным решающим соображением может
быть такое, которое основывается на фундаментальном аргументе в пользу
демократии.
Если каждая группа, которая считает себя способной навязать свое правление
остальным, имеет право предпринять подобную попытку, мы должны быть готовы к
непрекращающейся серии гражданских войн. Но такое положение дел несовместимо с
той стадией разделения труда, которую мы нынче достигли. Современное общество,
основанное на разделении труда, может сохраняться только в условиях длительного
мира. Если бы нам следовало готовиться к возможности продолжительных гражданских
войн и внутренних столкновений, то нам пришлось бы отодвинуться назад
-- к такому
примитивному состоянию разделения труда, когда пусть не каждая деревня, но, по
крайнем мере, каждая провинция стала бы практически автаркичной, т.е. способной
прокормить и обеспечить себя какое-то время как самостоятельный экономический
организм, ничего не импортирующий извне. Это состояние сопровождалось бы таким
огромным упадком производительности труда, что земля смогла бы прокормить лишь
часть того населения, которое она поддерживает сегодня. Антидемократический
идеал ведет к такому типу экономической организации, который был известен
средневековью и античности. Каждый город, каждая деревня, а в действительности,
и каждый человек были укреплены и оснащены для обороны, и каждая провинция была
настолько независима от остального мира в обеспечении себя продуктами, насколько
это было возможно.
Демократ также придерживается мнения, что править должен лучший. Но он
полагает, что пригодность человека или группы людей к управлению может быть
наглядно продемонстрирована, когда им удастся убедить сограждан в своем праве на
это положение, так что ведение общественных дел будет на них возложено
добровольно, а не когда они прибегнут к силе и вынудят остальных признать их
претензии. Тот, кто не может достичь лидирующего положения с помощью силы
аргументов и уверенности, которую вселяет его персона, не имеет оснований
жаловаться на то, что сограждане предпочитают ему других.
Конечно, нельзя отрицать, что существует определенная ситуация, когда соблазн
отступить от демократических принципов либерализма в самом деле очень велик.
Если здравомыслящие люди видят, что их народ или все народы мира находятся на
пути к разрушению, и они находят невозможным убедить своих сограждан обратить
внимание на их советы, то они могут склониться к мысли, что будет честно и
справедливо прибегнуть к любым мерам, чтобы спасти всех от несчастья. Тогда
может возникнуть и найти сторонников идея диктатуры элиты, правительства
меньшинства, удерживаемого у власти с помощью силы и правящего в интересах всех.
Но сила никогда не станет средством преодоления указанных трудностей. Тирания
меньшинства не может продолжаться, пока ей не удастся убедить большинство в
необходимости или, по крайней мере, в полезности ее правления. Но тогда
меньшинство не нуждается более в силе для того, чтобы удерживаться у власти.
В истории множество впечатляющих примеров того, что даже наиболее жестокой
политики подавления бывает недостаточно для сохранения власти у такого
правительства. Стоит привести всего один, самый недавний и самый известный
пример: когда большевики захватили власть в России, они были незначительным
меньшинством, и их программа не встречала достаточной поддержки среди огромных
масс их соотечественников. Крестьянство составляло основную массу русского
народа, не имело ничего общего с большевистской политикой коллективизации в
деревне. Крестьяне хотели раздела земли среди "деревенской бедноты", как
называли эту часть населения большевики. И именно программа крестьянства, а не
марксистских вождей была в действительности проведена в жизнь. Для того чтобы
остаться у власти, Ленин и Троцкий не только приняли эту аграрную реформу, но
даже сделали ее частью собственной программы, которую они и приняли для защиты
от внутренних и внешних нападок. Только таким образом большевикам удалось
завоевать доверие огромных масс русского народа. С того момента, как большевики
приняли политику раздела земли, они правили уже не против воли широких народных
масс, а с их согласия и поддержки. Для них были открыты только две возможности:
надо было пожертвовать либо программой, либо властью. Они выбрали первую и
остались у власти. Третьей возможности, т.е. возможности проводить программу с
помощью силы против воли широких народных масс, вообще не существовало. Как
всякое решительное и хорошо организованное меньшинство, большевики могли
захватить власть силой и удерживать ее в течение короткого времени. В длительной
перспективе, однако, они смогли бы удержать власть не дольше, чем любое другое
меньшинство. Все многочисленные попытки белых свергнуть большевиков потерпели
неудачу, потому что массы русского народа были против них. Но даже если бы это
удалось, то победителям тоже пришлось бы уважать желания подавляющего
большинства населения. После того как раздача земли стала свершившимся фактом,
они уже не смогли бы вернуть помещикам то, что было у них отнято.
Только та группа, которая может рассчитывать на согласие управляемых ею
людей, в состоянии установить длительный режим. Тот, кто хочет видеть мир
управляемым в соответствии со своими идеями, должен стремиться к власти над
умами людей. Невозможно на долгий срок подчинить людей против их воли режиму,
который они отвергают. Тот, кто пытается сделать это с помощью силы, в конечном
счете потерпит неудачу, и борьба, спровоцированная его попыткой, принесет больше
вреда, чем могло бы принести самое худшее правительство, основывающееся на
согласии управляемых людей. Людей нельзя сделать счастливыми против их воли.
10. Доводы фашизма
Несмотря на то что либерализм нигде
не нашел полного признания, его успех в XIX веке был настолько серьезным, что
некоторые из наиболее важных принципов либерализма стали считаться неоспоримыми.
К 1914 году даже наиболее упорные и злейшие его враги вынуждены были примириться
с тем, что многие либеральные принципы воспринимались как не подлежащие
сомнению. Даже в России, куда проникли лишь несколько слабых лучей либерализма,
защитникам царской деспотии, преследуя своих противников, все же приходилось
принимать во внимание либеральные мнения в Европе. В течение [первой] мировой
войны военные партии воюющих наций при всем своем рвении все же должны были в
борьбе против внутренней оппозиции проявлять определенную умеренность.
Только когда исповедующие марксизм социал-демократы завоевали господство и
захватили власть в полной уверенности, что эпоха либерализма и капитализма ушла
навеки, тогда исчезли и последние уступки либеральной идеологии, которые до
этого все еще считались необходимыми. Партии Третьего Интернационала считают
любое средство допустимым, если им кажется, что оно сулит помощь в борьбе за
достижение их результатов. Тот, кто не признает безоговорочно и целиком
единственно правильного их учения и не поддерживает их, несмотря на все
препятствия, заслуживает, по их мнению, смертного приговора; и они, не
колеблясь, уничтожат и его, и всю его семью, включая детей,
-- там и тогда, где и
когда физически возможно.
Откровенное проведение политики истребления оппонентов и убийства,
совершаемые во исполнение этой политики, положили начало противоборствующему
движению. Пелена внезапно спала с глаз некоммунистических врагов либерализма. До
этого они верили, что даже в борьбе против ненавистного противника все же
следует уважать определенные либеральные принципы. Им приходилось, хотя и
неохотно, исключать убийства и террористические акты из списка мер, к которым
можно прибегать в политической борьбе. Им приходилось мириться со многими
ограничениями в преследовании оппозиционной прессы и в подавлении свободы слова.
Теперь вдруг они увидели, что появились оппоненты, которые не обращают внимания
на подобные соображения, для кого все средства хороши, чтобы нанести поражение
противнику. Милитаристские и националистические враги Третьего Интернационала
почувствовали себя обманутыми либерализмом. Либерализм, думали они, остановил их
руку, когда они хотели нанести удар по революционным партиям, пока было еще
возможно это сделать. Если бы, полагали они, либерализм им не помешал, они бы
кровью в корне пресекли революционные движения. Революционные идеи получили
возможность укорениться и расцвести только благодаря терпимости, проявленной ими
к противникам, а их сила воли была ослаблена чрезмерным вниманием к либеральным
принципам. Если бы много лет назад им пришла в голову идея, что можно
просто-напросто жестоко разгромить любое революционное движение, то никогда не
стали бы возможны победы, одержанные Третьим Интернационалом начиная с 1917
года. Когда дело доходит до стрельбы или драки, то милитаристы и националисты
полагают, что они -- самые меткие стрелки и самые искусные бойцы.
Фундаментальная идея этих движений, которая, по имени самого грандиозного и
хорошо организованного среди них, итальянского, может быть названа фашистской
состоит из тех же самых недобросовестных методов борьбы) против Третьего
Интернационала, которые оно использует против своих противников. Третий
Интернационал стремится истребить своих врагов и их идеи тем же способом,
которым врач-гигиенист старается истребить заразные бактерии
-- он не считает
себя хоть как-то связанным условиями какого-либо соглашения, которое он мог бы
заключить с противниками, и полагает, что любая ложь и любая клевета в этой
борьбе допустимы. Фашисты по крайней мере, в принципе, открыто высказывают такие
намерения. То, что они пока не так сильно, как русские большевики, преуспели в
освобождении себя от соблюдения определенных либеральных представлений, идей и
традиционных этических норм, следует связывать единственно с тем фактом, что
фашисты делают свое дело среди наций, в которых невозможно одним ударом
уничтожить интеллектуальное и нравственное наследие нескольких тысячелетий, а не
среди варварских народов по обе стороны Урала, отношение которых к цивилизации
всегда было примерно таким же, как отношение мародерствующих обитателей лесов и
пустынь, привыкших совершать время от времени грабительские набеги на
цивилизованные земли в погоне за добычей. Из-за этой разницы фашизму никогда не
удастся столь абсолютно, как русскому большевизму, освободиться от либеральных
идей. Только под свежим впечатлением убийств и зверств, совершаемых поборниками
Советов, немцы и итальянцы смогли вычеркнуть из памяти традиционные сдерживающие
принципы справедливости и нравственности и получить импульс к кровавой расправе.
Деяния фашистов и других им соответствующих партий были эмоциональными,
рефлекторными действиями, вызванными возмущением против деяний большевиков и
коммунистов. Как только прошел первый приступ злости, их политика приняла более
умеренный курс и, возможно, станет еще более умеренной с течением времени.
<Напомним читателю, что книга Л.Мизеса была написана в 1927 году. Развитие
идеологии и практики фашизма в последующие годы быстро отбило охоту у либералов
видеть в нем союзника в борьбе с коммунистами.
-- Прим. науч. ред.>
Эта умеренность является результатом того, что традиционные либеральные
взгляды по-прежнему продолжают неосознанно влиять и на взгляды фашистов. Но как
бы то ни было, и переход правых партий к тактике фашизма показывает: сражение
против либерализма окончилось такими успехами, которые всего лишь немного
времени назад считались бы совершенно немыслимыми. Многие люди одобряют методы
фашизма, потому что, несмотря на то что его экономическая программа является в
целом антилиберальной, а политика -- совершенно интервенционистской, они далеки
от того бессмысленного и неограниченного деструкционизма, которым коммунисты
заклеймили себя как архивраги цивилизации. Другие, полностью отдавая себе отчет
в том, какое зло несет фашистская экономическая политика, смотрят на фашизм, в
сравнении с большевизмом и советизмом, как, по крайней мере, на меньшее из зол.
Однако же для большинства открытых или тайных сторонников и почитателей
привлекательность фашизма состоит именно в насильственном характере его методов.
Теперь невозможно отрицать, что единственный способ, которым можно оказать
действенное сопротивление насильственным методам,
-- это насилие. Против оружия
большевиков в качестве ответной меры следует применять оружие, и было бы ошибкой
проявлять слабость перед убийцами. Ни один либерал никогда не подвергал это
сомнению. Либеральную политическую тактику от фашистской отличает не различие во
взглядах на необходимость использовать силу оружия для сопротивления вооруженным
нападениям, а различие в фундаментальной оценке роли насилия в борьбе за власть.
Огромная опасность, угрожающая внутренней политике со стороны фашизма, лежит в
его безграничной вере в решающую роль насилия. Для того чтобы добиться успеха,
надо быть исполненным воли к победе и всегда действовать силой. Это высочайший
принцип фашизма. Что происходит, однако, когда чей-либо противник, точно так же
воодушевленный волей к победе, действует точно так же насильственно? Результатом
должна стать битва, гражданская война. Окончательным победителем будет более
многочисленная сторона. В конечном итоге меньшинство, даже если оно состоит из
наиболее способных и энергичных, не может добиться успеха в сопротивлении
большинству. Решающий вопрос, следовательно, остается всегда один: каким образом
можно добиться большинства для своей партии? Это, однако, дело чисто
интеллектуального характера. Такого рода победа может быть одержана только с
помощью разума, а не силы. Подавление всей оппозиции одним только насилием
-- наиболее неудобный способ завоевания сторонников любого курса. Использование
прямой силы -- так уж устроено общественное мнение
-- попросту вербует новых
друзей для тех, с кем пытаются таким образом бороться. В борьбе между силой и
идеей всегда побеждает идея.
Фашизм может восторжествовать сегодня потому, что всеобщее возмущение
бесчестьями, творимыми социалистами и коммунистами, завоевало ему симпатии
широких кругов. Но когда свежее впечатление от преступлений большевиков
несколько потускнеет, социалистическая программа снова станет привлекать массы.
Потому что фашизм не делает ничего для того, чтобы побороть эту программу, кроме
подавления социалистических идей и преследования людей, которые их
распространяют. Если бы он действительно хотел одолеть социализм, то ему бы
пришлось противопоставить социализму идеи. Существует, однако, лишь одна идея,
которая может эффективно противостоять социализму, а именно идея либерализма.
Часто говорилось, что ничто так не способствует делу, как сотворение
мучеников. Это верно, но только отчасти. Укрепляет дело преследуемой стороны не
мученичество его защитников, а тот факт, что на них нападают с помощью силы, а
не с помощью разума. Подавление грубой силой
-- это всегда признание
неспособности использовать лучшую силу -- силу разума
-- лучшую, потому что только
она обещает конечный успех. Это фундаментальная ошибка, от которой страдает
фашизм и которая в конечном счете приведет к его падению. Победа фашизма в ряде
стран -- это только эпизод в долгом ряду сражений "за" и "против" собственности.
Следующим эпизодом будет победа коммунизма. Окончательный исход борьбы, однако,
будет решаться не оружием, а идеями. Именно идеи разделяют людей на борющиеся
группировки, вкладывают оружие в их руки и определяют, против кого и за кого это
оружие употребить. Только они, а не оружие в конечном счете решают исход дела.
Эти соображения касаются внутренней политики фашизма. Его внешняя политика,
основанная на открыто признаваемом принципе силы в международных отношениях, не
может не вызвать бесконечной серии войн, способных уничтожить всю современную
цивилизацию, и не требует дальнейшего обсуждения. Чтобы поддерживать и повышать
дальше наш нынешний уровень экономического развития, нужно, чтобы был
гарантирован мир между народами. Но народы не могут жить вместе в мире, если
основополагающая идеология состоит в вере в то, что какой-то народ может
обеспечить себе мир в сообществе наций только силой.
Нельзя отрицать того, что фашизм и близкие к нему движения, направленные на
установление диктатур, полны лучших намерений, и их интервенция в данный момент
спасла Европейскую цивилизацию. Заслуга, которую фашизм таким образом завоевал
себе, навечно останется в истории. Но несмотря на то что его политика принесла в
данный момент спасение, она не принадлежит к числу тех, что может сулить
продолжительный успех. Фашизм был временным чрезвычайным средством. Расценивать
его как что-то большее было бы фатальной ошибкой. <Сегодня эти строки звучат
как напоминание о той страшной цене, которую заплатила наша цивилизация за
трагическую слепоту влиятельных представителей своей интеллектуальной элиты как
на западе, так и на востоке Европы. -- Прим. науч. ред.>
11. Границы правительственной деятельности
Задача
государства, как ее видит либерал, состоит единственно и исключительно в
гарантии защиты жизни, здоровья, свободы и частной собственности от
насильственных нападений. Все, что идет дальше этого, есть зло. Правительство,
которое вместо выполнения этих задач, зашло бы так далеко, чтобы, например,
посягнуло на персональные гарантии жизни и здоровья, свободы и собственности,
было бы, конечно, абсолютно неподходящим.
Все же, как говорит Джакоб Буркхардт, власть сама по себе есть зло, неважно,
кто ее осуществляет. Она имеет тенденцию развращать тех, кто ею обладает, и
приводит к злоупотреблениям. Не только абсолютные монархи и аристократы, но
также и массы, в чьи руки демократия вверяет высшую государственную власть,
также очень легко склоняются к излишествам.
В Соединенных Штатах запрещено производство и продажа алкогольных
напитков. <Речь идет о так называемом "сухом законе", действовавшем в США
-- Прим. науч. ред.> Другие страны не заходят так далеко, но почти везде
налагаются некоторые ограничения на продажу опиума, кокаина и подобных
наркотиков. Одной из общепризнанных задач законодательства и правительства
считается защита человека от самого себя. Даже те, кто в других случаях обычно
опасается расширения сферы правительственной деятельности, считают вполне
нормальным, чтобы свобода человека в этом отношении была ограничена. Право,
только невежественный доктринер может быть против таких запретов. В самом деле,
этот тип вмешательства властей в жизнь человека встречает такое признание, что
противники либерализма склонны строить на этой основе свои доводы и выводить
заключение, что полная свобода -- это зло и некоторые ограничительные меры все же
должны налагаться на свободу индивида правительственной властью, выступающей в
качестве попечителя частного благополучия. Не возникает вопроса, должны ли
власти налагать ограничения на свободу, а существует только вопрос, как далеко
они должны зайти в этом отношении.
Не стоит тратить слов по поводу очевидной истины
-- все наркотики вредны.
Вопрос здесь не в том, вредно ли даже малое количество алкоголя, или вред
приносит только злоупотребление алкогольными напитками. То, что алкоголизм,
пристрастие к кокаину и морфию являются смертельными врагами жизни, здоровья и
способности к работе и наслаждениям, есть установленный факт; и утилитарист
должен, следовательно, считать их пороками. Но все это вовсе не означает, что
власти должны подавлять эти пороки, вводя торговые запреты. Также никоим образом
не очевидно, что такое вмешательство со стороны правительства действительно
способно подавить эти пристрастия или, даже если этот результат мог бы быть
достигнут, это еще не означало бы, что тотчас же не открылся бы ящик Пандоры и
оттуда не появились бы другие, не менее вредоносные, чем алкоголизм и морфинизм,
опасности.
Никто не мешает жить в воздержании или в умеренности тому, кто убежден, что
употребление или чрезмерное употребление этих отрав пагубно. Этот вопрос нельзя
рассматривать исключительно в отношении алкоголизма, пристрастия к морфию и
кокаину и т.д., которые всеми здравомыслящими людьми признаются злом. Дело здесь
в другом: если большинству граждан, в принципе, дано право навязывать свой образ
жизни меньшинству, то невозможно ограничиться запретами потребления алкоголя,
морфия, кокаина и подобных ядов. Разве то, что правильно в отношении этих ядов,
не должно быть правильно также и для никотина, кофеина и других подобных
веществ? Почему бы государству вообще не начать предписывать, какую пищу можно
потреблять, а какой следует избегать, потому что она вредна? В спорте, например,
также многие люди склонны делать больше, чем им позволяют силы. Почему бы
государству не вмешаться и сюда? Немногие знают, как быть умеренными в
сексуальной жизни, и, по-видимому, стареющим людям особенно трудно понять, что
вообще следовало бы перестать предаваться подобным удовольствиям или, по крайней
мере, заниматься этим в меру. Не должно ли государство вмешаться и сюда?
Еще более вредным, чем все эти удовольствия, скажут многие, является чтение
порочной литературы. Следует ли позволять прессе, потворствующей самым низменным
инстинктам, развращать душу? Не стоит ли запретить показ порнографических
картинок, неприличных пьес, короче, всех приманок безнравственности? И не
является ли распространение ложных социологических учений столь же вредным для
людей и народов? Следует ли разрешать подстрекать к гражданской войне и к войнам
против других стран? И следует ли разрешать непристойным памфлетам и богохульным
речам подрывать уважение к Богу и Церкви?
Мы видим, что, как только мы отказываемся от принципа, согласно которому
государство не должно вмешиваться ни в какие вопросы, касающиеся образа жизни,
мы приходим к регулированию и ограничению вплоть до мельчайших деталей. Личная
свобода человека отменяется. Он становится рабом общества и обязан подчиняться
диктату большинства. Едва ли стоит распространяться о том, какими способами
могли бы злоупотреблять такими полномочиями злые люди, находящиеся у власти.
Обладание властью такого типа, даже для людей, движимых самыми лучшими
намерениями, непременно превратило бы мир в кладбище духа. Весь прогресс
человечества был достигнут в результате инициативы небольшого меньшинства,
которое начало отступать от идеалов и привычек большинства до тех пор, пока их
пример не подвигнул наконец и остальных воспринять нововведения. Дать
большинству право диктовать меньшинству, о чем и как ему думать, что читать и
что делать, -- значит, раз и навсегда положить конец прогрессу.
Не надо возражать, будто борьба против пристрастия к морфию и борьба против
"вредной" литературы -- совершенно разные вещи. Единственная разница между ними в
том, что некоторые из тех самых людей, которые сочувствуют запрету первого, не
согласятся на запрет второго. В Соединенных Штатах методисты и фундаменталисты
после принятия закона, запрещающего производство и продажу алкогольных напитков,
поднялись на борьбу за подавление теории эволюции, и им уже удалось в ряде
штатов изгнать дарвинизм из школ. В Советской России подавляется каждое
свободное выражение собственного мнения. Будет ли дано разрешение на печатание
какой-либо книги, зависит от усмотрения ряда необразованных и неотесанных
фанатиков, на которых правительство возложило за это ответственность заботиться
о такого рода вопросах.
Склонность наших современников требовать правительственного запрета, как
только им что-либо не нравится, и их готовность подчиняться таким запретам даже
тогда, когда то, что запрещено, вполне для них приемлемо, показывает, сколь
глубоко укоренился в них дух раболепия. Потребуется много лет самообразования,
чтобы подданный превратился в гражданина. Свободный человек должен уметь
мириться с тем, что его сограждане действуют и живут не так, как он считает
правильным. Он должен освободиться от привычки звать полицию, как только ему
что-то не нравится.
12. Веротерпимость
Либерализм ограничивает свое
внимание всецело и исключительно земной жизнью и земными стремлениями. Царство
религии не входит в этот мир. Таким образом, либерализм и религия могли бы
существовать бок о бок, не имея точек соприкосновения. То, что им суждено было
прийти к неприятию друг друга, не было виной либерализма. Он не переходил границ
своей сферы и не вторгался во владения религиозной веры или метафизической
доктрины. Тем не менее он столкнулся с церковью как политической силой,
претендующей на право регулировать в соответствии со своими взглядами не только
отношения человека с грядущим миром, но также и дела мира нынешнего. Именно
здесь и пришлось развернуть боевые порядки.
Победа, одержанная либерализмом в этом конфликте, была столь решительной, что
Церковь вынуждена была раз и навсегда отказаться от тех требований, на которых
энергично настаивала в течение тысячелетий. Сжигание еретиков, преследования
инквизиции, религиозные войны -- все это сегодня принадлежит истории. Никто
сейчас не сможет понять, как мирных людей, которые соблюдали свои религиозные
обряды так, как они считали правильным, в четырех стенах своего собственного
дома, могли привлекать к суду, заключать в тюрьмы, мучить и сжигать. Но даже
если костров больше нет ad majorem Dei gloriam <к вящей славе Божьей
(лат.) -- Прим. пер.>, нетерпимости по-прежнему хватает.
Либерализм, однако, сам должен быть нетерпим к любому виду нетерпимости. Если
считать мирное сотрудничество всех людей целью социальной эволюции, то нельзя
позволить, чтобы мир нарушался священниками и фанатиками. Либерализм
провозглашает терпимость к любой религиозной вере и любому метафизическому
учению не по причине безразличия к этим "высшим" вещам, а из убеждения в том,
что гарантия мира внутри общества должна иметь приоритет над всем и всеми. А
поскольку это требует терпимости ко всем мнениям и ко всем церквам и сектам, то
он должен призвать их всех вернуться в надлежащие рамки, когда они ведут себя
нетерпимо. В общественной организации, основанной на мирном сотрудничестве, нет
места притязанию Церкви на монополию воспитания и образования молодежи. Церквам
может и должно быть отдано все, что предоставляют им приверженцы по собственной
доброй воле. Им не может быть позволено ничего в отношении тех людей, которые не
хотят иметь с ними ничего общего.
Трудно понять, как эти принципы либерализма могли нажить врагов среди
религиозных людей различных вероисповеданий. Если они не позволяют церкви
навязывать людям свою веру с помощью собственной силы или силы, данной в ее
распоряжение государством, то одновременно и защищают эту же церковь от того,
чтобы другие церкви и секты принудительно обращали людей в свою веру. То, что
либерализм отбирает у церкви одной рукой, он снова отдает ей другой рукой. Даже
религиозные фанатики вынуждены признать, что либерализм не отбирает у религии
ничего такого, что принадлежит ее сфере деятельности.
Конечно, церкви и секты -- там, где они имеют превосходство, но могут
достигнуть успеха в преследовании раскольников,
-- также требуют терпимости, по
крайней мере к себе, там, где они оказываются в меньшинстве. Однако требование
терпимости не имеет ничего общего с либеральным требованием терпимости.
Либерализм требует терпимости, следуя принципу, а не из противоречия. Он требует
терпимости даже к очевидно бессмысленным учениям, абсурдным формам ереси и
ребячески глупым суевериям. Он требует терпимости к доктринам и мнениям, которые
он считает вредными и разрушительными для общества и даже для тех движений, с
которыми неутомимо борется. Требовать и проявлять терпимость либерализм
побуждают из соображения о содержании доктрины, к которой следует быть
терпимыми, а сознание того, что только терпимость может создать и сохранить
условие социального мира, без которого человечество может снова впасть в
варварсто и бедность давно прошедших столетий.
Против глупого, бессмысленного, ошибочного и вредного либерализм борется
оружием разума, а не грубой силой и репрессиями.
13. Государство и антиобщественное
поведение
Государство представляет собой аппарат принуждения и насилия.
Это верно не только в отношении "государства
-- ночного сторожа", но в равной мере
и любого другого государства, а более всего в отношении государства
социалистического. Все, что положено делать государству, оно делает с помощью
принуждения и силы. Подавление поведения, опасного для общественного порядка,
-- самая суть государственной деятельности; в социалистическом государстве к этому
добавляется контроль над средствами производства.
Здравомыслящие римляне символически выразили этот факт, изобразив топор и
связку розг в качестве эмблемы государства. Глубокомысленный мистицизм,
называющий себя философией, сделал в наше время все возможное, чтобы скрыть
истинный смысл этого вопроса. Для Шеллинга государство есть прямой и видимый
образ абсолютной жизни, ступень в раскрытии Абсолюта Мировой Души. Государство
существует только ради самого себя, и его деятельность направлена исключительно
на поддержание как сущности, так и формы своего существования. Для Гегеля в
государстве проявляется Абсолютный Разум, и Объективный Дух реализуется в нем
же. Это есть этический разум, развившийся в органическую реальность
-- реальность
и этическая идея как проявившаяся, овеществленная воля. Эпигоны идеалистической
философии превзошли даже своих учителей в обожествлении государства. Конечно, не
ближе к истине находятся и те, кто, как Ницше, в качестве реакции на эти и
подобные доктрины называют государство самым холодным из всех холодных чудовищ.
Государство не является ни холодным, ни теплым, поскольку оно представляет собой
абстрактную концепцию, от имени которой действуют люди в органах государства и
правительства. Вся государственная деятельность есть человеческое действие, зло,
причиняемое людям людьми же. Цель -- сохранение общества
-- оправдывает действие
органов государства, но зло от этого не ощущается меньше теми, кто от него
страдает.
Зло, которое один человек причиняет другому, приносит вред обоим
-- не только
тому, по отношению к кому оно делается, но и тому, кто это зло совершает. Ничто
не развращает человека так сильно, как возможность быть орудием закона и
причинять людям страдания. Судьба подданного
-- это тревога, рабский дух и
прислужливое низкопоклонство; но фарисейское самодовольство, самонадеянность и
высокомерие хозяина ничем не лучше.
Либерализм стремится смягчать остроту отношений правительственного чиновника
и гражданина. Делая это, он, конечно, не идет по стопам тех романтиков, которые
защищают антиобщественное поведение нарушителя закона и порицают не только судей
и полицейских, но и общественный порядок как таковой. Либерализм не хочет и не
может отрицать того, что принудительная сила государства и законное наказание
преступников -- это институты, без которых общество никогда, ни при каких
обстоятельствах не сможет обойтись. Однако либерал полагает, что цель наказания
состоит единственно в том, чтобы исключить, насколько это возможно, опасное для
общества поведение. Наказание не должно быть карательным или репрессивным.
Преступник заслужил приговор по закону, но не ненависть и садизм судьи,
полицейского и тем более толпы, жаждущей расправы.
Наибольший вред в принудительной силе, которая оправдывает себя "именем
государства", связан с тем, что она направляет свои удары против возникающих
инноваций, поскольку всегда в конечном счете поддерживается согласием
большинства. Человеческое общество не может обойтись без государственного
аппарата, но прогресса человечеству пришлось достигать вопреки сопротивлению
государства и его принуждающих сил. Не удивительно, что все, кто имел предложить
человечеству что-то новое, не могли сказать ничего доброго о государстве и его
законах! Неисправимые этатисты-мистики и почитатели государства вправе
предъявлять им претензии. Либералы поймут их положение, даже если они не могут
одобрить их взглядов. И все же каждый либерал должен противостоять этой понятной
антипатии ко всему, что имеет отношение к тюремщикам и полицейским, когда она
доходит до чрезмерной самонадеянности и провозглашает право человека восставать
против государства. Насильственное сопротивление государственной власти
-- это
последнее средство меньшинства в попытке вырваться из-под гнета большинства.
Меньшинство, которое хочет увидеть торжество своих идеалов, должно добиваться
интеллектуальными средствами того, чтобы стать большинством. Государство должно
быть устроено так, чтобы рамки его законов давали человеку определенную свободу,
в пределах которой он мог бы двигаться свободно. Гражданин не должен быть столь
жестко ограничен в своей деятельности, чтобы при расхождении взглядов с властями
он оказался перед единственным выбором -- либо погибнуть, либо уничтожить
государственный механизм.