| 27 август 2020 | |
 |
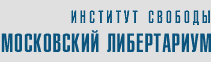 |
|
|
|||||||
| Пользователь: [login] |
настройки |
карта сайта |
статистика |
|
|||||||
|
Гражданское общество и конституция (структура политического) Рассмотрение вопроса о структуре политической активности является необходимым элементом исследования, поскольку конституционное регулирование политической активности осуществляется применительно к ее структурным подразделениям. Своеобразие же последних достаточно велико. Регулирование деструктивного политического поведения (например, через "право на восстание") существенно отличается от регулирования конструктивной активности. Конституционное отношение к созданию политических теорий иное, нежели к проведению политических забастовок. Массовые акции отличаются от индивидуальных политических действий, а профессиональная политическая активность от непрофессиональной и т.д. То обстоятельство, что политическая реальность обладает структурой, замечено давно. Еще Аристотель писал, что политическое устройство есть порядок общественной жизни всех людей [Аристотель. Политика. -- М.: 1893. -- С. 93], а у Э.Дюркгейма политический строй общества -- это способ, в соответствии с которым общественные слои приспособились жить рядом друг с другом. Люди нуждаются в структурировании своей жизни, ибо жизнь, недостаточно структурированная, есть бесцельная катастрофа [Toffler A. The Third Wave. -- N.-Y.: Bantam Books, 1994. -- P. 373]. Размышляя над устройством ноосферы, Т.де Шарден писал, что сознательная жизнь поднимается все более высоко лишь за счет ее структурирования. В своем подразделении обществ на открытые и закрытые Д.Сорос показывает, что открытое общество является более сложным по своей структуре, чем закрытое, поскольку оно позволяет людям разрабатывать индивидуальные стратегии, что и делает их подлинно автономными. К.Поппер считал, что в политике вопрос о носителях власти является второстепенным по сравнению с вопросом о структурных формах осуществления власти, ибо политический прогресс можно обеспечить лишь структурно. Д.Ролз, в свою очередь, писал о структуре общества, как о способе соединения его политических, социальных и экономических институтов в систему кооперации, действующую от поколения к поколению [Rawlz J. Political Liberalism. -- N.-Y.: Columbia University Press, 1993. -- P. 11]. Политическая структурность коренится в природе человеческой деятельности, которая представляет собой совокупность "систем, фикций и тайных замыслов" [Рокар М. Трудиться с душой. М.: Международные отношения, 1991. -- С. 131]. Для Д.Истона общество и политическая система структурны, поскольку состоят из взаимосвязанных действий групп и индивидов, осуществляющихся не в вакууме [Easton D. A Systems Analysis of Political Life. -- Chicago: University of Chicago Press, 1965. -- P. 507]. По определению В.Аршинова, Ю.Сачкова и Ю.Климонтовича, структура есть вид организации и связи элементов системы [Аршинов В., Климонтович Ю., Сачков Ю. Естествознание и развитие: диалог с прошлым, настоящим и будущим // Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса. -- М.: Прогресс, 1986. -- С. 410]. Иными словами, структура -- это каркас, внутренний скелет любой конструкции. Выявить структуру объекта -- значит упомянуть его части и способы, с помощью которых они вступают во взаимоотношения [Рассел Б. Человеческое познание. -- М.: Изд-во иностранной литературы, 1957. -- С. 284]. При этом, если одна структура становится причиной другой, то речь должна идти о структуре активности. Именно в этом смысле Б.Малиновский писал о структуре человеческого усилия, которое "инструктировано" правилами традиции, движимо мотивом и контролируемо ценностью. [Malinowsky B. Freedom and Civilization. -- London: George Allen, 1947. -- P. 137] В политической активности роль структуры играет функциональное предназначение отдельных видов политического поведения. Этот подход удобен и не противоречит устоявшимся способам определения структуры деятельности человека. В психологии в структуре деятельности различают обычно мотивационную, целевую, исполнительскую активность и т.д. [Маркарян Э. Теория культуры и современная наука. -- М.: Мысль, 1983. -- С. 101] Структура связывает объект, одновременно разделяя его, подобно тому как скелет животного, связывая его органы, одновременно разделяет их функционально. Смысл структуры в том, что она обеспечивает единство композиции автономных элементов, в отличие от массы, где композиционная множественность элементов (а потому и структура) отсутствует. Система, в основании которой лежит структура, писал К.Дойч, есть совокупность компонентов, связанных между собой таким образом, что сила их внутренней связи превосходит силу их связи с внешней средой [Дойч К. Основные изменения в политологии // Политические отношения: прогнозирование и планирование. -- М.: Наука, 1979. -- С. 84]. С другой стороны, каждая часть структуры есть также индивидуальная часть, а не "сторона", не "качество", не субъект отвлеченной категоричности [Шпет Г. Сочинения. -- М.: Правда, 1989. -- С. 351]. Структурность духовных и культурных образований в этом смысле является органической, изначальной. Нетрудно заметить, что структурно политическая активность может быть конструктивной и деструктивной, эволюционной и революционной, векторной и хаотической, направляемой внутренними мотивами и спровоцированной извне. Политической метаструктурой выступает, например, конструкция политических процессов по Б.Мору: образование либеральной демократии через буржуазную революцию; возникновение фашизма посредством революции сверху; возникновение коммунистического режима из крестьянской революции [Skocpol T. Social Revolutions in the Modern World. -- N.-Y.: Cambridge University Press, 1994. -- P. 79]. В любом случае структура политической активности определяется потребностями дифференциации политического действия в политической системе общества, где различие между ее составляющими является существенным [Башляр Г. Новый рационализм. -- М.: Прогресс, 1987. -- С. 85]. В.И.Ленин писал, что характер всякого учреждения определяется содержанием его деятельности [Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 6. -- С. 99]. Таким содержанием определяется и структура политической активности. Демократия требует свободы, а тоталитарное правление нуждается в контроле. Выборы предполагают плюрализм, а политическое лидерство -- харизму. Кроме того, структура состоит из элементов, которые всегда взаимосвязаны. По мнению А.Уайтхеда, социальный порядок общества обладает структурой, если: 1) существует некоторый общий элемент формы, проявляющийся в определенности каждой реальной сущности, входящей в общество-соединение; 2) этот общий элемент формы проявляется у каждого члена соединения благодаря условиям, налагаемым на него способностью схватывать другие члены соединения; 3) эти схватывания налагают условие воспроизведения, в силу того, что включают в себя позитивные чувства, содержащие общую форму [Уайтхед А. Избранные работы по философии. -- М.: Прогресс, 1990. -- С. 605]. Еще Д.Локк говорил, что не знает в природе части столь полной и совершенной, чтобы она не была обязана окружающим ее частям своим бытием и качествами [Локк Д. Сочинения. В 3-х т. Т.2. -- М.: Мысль, 1985. -- С. 65]. Данный принцип связывает органическую конституцию и политический либерализм не только хронологически, но и логически, т.е. структурно. Иными словами, конституция как нормативный регулятор охватывает политическую активность лишь определенного типа. Конституционные аспекты органически присущи политической активности не столько государства, сколько структурной пары: государство -- гражданское общество, нуждающейся в гарантиях взаимодействия высшего уровня. Говоря о структуре политического, П.Лебедев подчеркивал, что в политике структура играет стабилизирующую роль. Структуры редко подвергаются ревизии и коренным преобразованиям, обеспечивая, тем самым, стабильность государственного управления на протяжении жизни многих поколений [Лебедев П. Об устойчивости и изменчивости системы государственного управления. -- Советское государство и право, 1985, # 7. -- С. 16]. Политические структуры негосударственного управления также стабильны, однако нацелены не на безопасность, порядок и защищенность, а на свободную инициативу, плюрализм и терпимость, ибо именно этими свойствами политическая активность гражданского общества существенно отличается от политической активности государства. В тоталитарных странах спонтанная политическая активность гражданского общества носит маргинальный характер и, в целом, стагнирует, а конституции являются не более, чем декоративной правовой оболочкой порядка. Ведь тоталитаризм структурно близок порядку и основывается на презумпции единственной правды в политике, прилагаемой обычно ко всем областям жизни [Talmon J. The Origins of Totalitarian Democracy. -- London: Secker and Warburg, 1952. -- P. 2]. В демократических же странах структура политической активности нацелена на инновации и динамизм. Здесь политическая активность гражданского общества и государства составляют сложную конституционную метаструктуру, биполярную по своим приоритетам, хотя и с очевидным доминированием ценностей гражданского общества. Поэтому отобразить конституционные аспекты политической активности либерально-демократического общества можно лишь в системе двойной иерархии ценностей в материи политического. Только это позволяет корректно организовать элементы политической активности в соответствующие целям политического либерализма группировки [Богданов А. Всеобщая организационная наука (Тектология). Ч. 1. -- Л.-М.: Книга, 1925. -- С. 119]. Следует, однако, заметить, что в традиционной картине политического поведения иерархическая структура формирует высший закон жизни [Ницше Ф. Антихристианин // Сумерки богов. -- М.: Прогресс, 1989. -- С. 85]. У Аристотеля структурно поляризована вся политическая жизнь, и только Р.Арон впервые усомнился в том, что основу политического сообщества составляет структура власти. У Ж.-Ж.Руссо политический организм структурен, и называется государством, когда он пассивен, сувереном, когда он активен, державою -- при сопоставлении с себе подобными. Его члены в совокупности именуются народом, а в отдельности являются гражданами, как члены гражданской общины или как участвующие в верховной власти, и подданными, как подчиняющиеся законам государства [Руссо Ж.-Ж. Трактаты. -- М.: Наука, 1969. -- С. 312]. У К.Кавелина царь есть само государство -- идеальное, благотворное и грозное его выражение; он превыше всех, поставлен вне всяких сомнений и споров и неприкосновенен; он беспристрастен ко всем; все перед ним равны, хотя и неравны между собою [Кавелин К. Наш умственный строй. -- М.: Правда, 1989. -- С. 221]. По мнению Сен-Симона, народ должен размещаться "в виде пирамиды", бороться же можно лишь с изъянами ее отдельных элементов. И для Ф.Броделя не существует общества без структуры, побуждающей людей стремиться на социальный верх. Признавая, вслед за Ж.-П.Сартром, что уничтожение иерархии освободило бы людей от политической зависимости, он все же сомневался в принципиальной возможности такого уничтожения. Тело каждой эпохи обладает иерархической анатомией, писал Х.Ортега-и-Гассет, поэтому общество является аристократическим по своей сущности, хотим мы того или нет [Ортега-и-Гассет Х. Дегуманизация искусства. -- М.: Радуга, 1991. -- С. 49]. Поскольку политическая харизма -- это тяготение простых душ к выдающимся личностям, у Н.Лосского более развитые деятели стоят во главе менее развитых. Как вниз от человеческого "Я", так и вверх от него мы находим ступени организованности: совокупность "Я" образует народ (нацию, государство), народы -- суть элементы человечества, входящего в единство вселенной, из чего и возникает иерархический персонализм [Лосский Н. Избранное. -- М.: Правда, 1991. -- С. 527]. Всюду, где есть система, должно существовать и нечто сверхсистемное, писал он. Ч.Милош считал, что не все люди ведут борьбу за более высокое место и престиж, и потому делятся на тех, кто несет ответственность за "функционирование машины", и тех, кто наслаждается статусом безответственности [Milosz C. Visions from San-Francisco Bay. -- N.-Y.: Farrar Straus Giroux, 1983. -- P. 126]. Впрочем, еще у Аристотеля "прямо от рождения некоторые существа различаются <в том отношении, что одни из них как бы предназначены> к подчинению, другие -- к властвованию" [Аристотель. Сочинения. В 4-х т. Т.4. -- М.: Мысль, 1983. -- С. 382]. Х.Ортега-и-Гассет делил общество на людей действия и созерцания [Ортега-и-Гассет Х. Что такое философия. -- М.: Наука, 1991. -- С. 11], а Э.Фромм -- на тех, кому все небезразлично, и тех, кому "на все наплевать". У Т.Дезами государство подразделяется просто на активных и пассивных граждан [Дезами Т. Кодекс общности. -- М. : Изд-во АН СССР, 1956. -- С. 392]. В вечном существовании иерархии был убежден Г.Моска. Древность традиции политического манипулирования людьми признавал и Д.Рисмен [Riesman D. The Lonely Crowd. -- N.-Y.: Doubleday Anchor Books, 1953. -- P. 37]. Люди истощают свой разум, изыскивая шансы к продвижению вперед, писал К.Ясперс. А.Тойнби различал политически творческое меньшинство и нетворческое большинство [Тойнби А. Постижение истории. -- М.: Прогресс, 1991. -- С. 303]. В более широком смысле об этом же писал Э.Хикель [Хикель Э. Разрушить непонятное // Философия техники в ФРГ. -- М.: Прогресс, 1989. -- С. 468]. У Платона разделение между правителями и управляемыми служит разделением труда, основанным на естественном неравенстве хозяев и рабов, мудрых и невежественных. У А.Зиновьева люди делятся на исключенных из активной социальной деятельности, и вовлеченных в нее [Зиновьев А. Зияющие высоты. Т. 1. -- М.: Изд-во ПИК, 1990. -- С. 224], а у Ч.Милоша -- на тех, кто говорит, но знает мало; и тех, кто молчит, зная многое [Milosz C. Visions From San-Francisco Bay. -- N.-Y.: Farrar Straus Giroux, 1983. -- P. 112]. А.Богданов писал о полюсах "мысли и слова" и "мускульной работы", а Д.Дьюи -- о том, что одни и те же обстоятельства делают одних людей хозяевами, а других рабами [Dewey J. Essential Writings. -- N.-Y.: Harper Torhbooks, 1977. -- P. 222]. В известном смысле, на долю одной части человечества выпадает созидание мира, а на долю другой -- его сохранение. Иерархическое сознание, писали В.Эфроимсон и Е.Изюмова, является порождением советской авторитарной системы [Эфроимсон В., Изюмова Е. На что надеемся или нужно растить гениев // Квинтэссенция. -- М.: Политиздат, 1990. -- С. 33], однако, на самом деле оно формировалось всей человеческой историей. Политическое устройство с "балдахином единовластия наверху" [Носов Е. Что мы переживаем? -- Литературная газета, 1988, 20 апреля. -- С. 13] существует давно, и что бы не говорили по этому поводу гуманисты, общество не может существовать без иерархии и неравенства [Зиновьев А. Нью Йорк: Пара беллум. -- М.: Московский рабочий, 1991. -- С. 122]. У И.Степанова политические отношения делятся на субстанциональные (между классами, нациями и др.); субстанционально-институциональные (между народом, классами, нациями, личностью -- с одной стороны, и политической системой -- с другой); институциональные (внутри политической системы) [Степанов И. Конституция и политика. -- М.: Наука, 1984. -- С. 36]. В структуре политической реальности Б.Курашвили усматривал проявление закона минимально необходимой централизации. В целом же, анализируемое этими и другими авторами качество структурности политической активности дает значительные объясняющие возможности в интерпретации работы механизмов конституционного регулирования. В любом обществе соединены не только экономика и политика, социальное и религиозное, но и самые элементарные, равно как и самые утонченные проявления духа [Блок М. Апология истории. -- М.: Наука, 1987. -- С. 106]. Структурность проистекает из качества сложности, поэтому там, где невозможно или затруднительно объяснить структуру и связь элементов, мы признаем особую сложность мира, писал Ж.-М.Леге. За множественностью элементов политики стоит неисчерпаемость самой реальности. Именно это обстоятельство приводит нас к неприятию тоталитаризма и интеллектуальной диктатуры. На основе неопределенности легче строить здание демократии. Если истина неизвестна никому, все имеют право ее искать. Демократия дрейфует в неизвестном направлении, но в ней, пусть и с оговорками, реализуется эвристический потенциал каждого из участников, и это способно вдохновлять общество даже в глубоком кризисе. Поскольку эволюция любой системы ведет к увеличению количества ее внутренних элементов и связей между ними [Заславская Т. О стратегии социального управления перестройкой // Иного не дано. -- М.: Прогресс, 1988. -- С. 15], усложнение структуры демократического процесса в посттоталитарных странах является естественным. Однако, в отдаленной перспективе, такое усложнение угрожает структурным распадением общества на враждебные классы и личности [Соловьев В. Сочинения. В 2-х т. Т. 1. -- М.: Правда, 1989. -- С. 23--24]. Так или иначе, цивилизация Западной Европы традиционно благоприятствовала развитию в обществе многочисленных сил и иерархий, соперничество между которыми развертывалось в очень разных направлениях. Для Ю.Липы Европа всегда была разделена на блоки, обладающие моральной исключительностью и автономным "энергетическим ритмом" [Липа Ю. Призначення Укра"ни. -- N.-Y.: Говерля' 1953. -- С. 17]. Плюрализм политической жизни Запада уже в средневековье приводил к тому, что люди зачастую не могли понять, от кого в политическом смысле они зависят. Многоэтажная структура политической реальности отразилась в представлении Ш.Фурье о "четырех движениях", равно как и в представлении о "четырех причинах" социальной динамики у М.Хайдеггера: 1) causa materialis (предмет, субстанция, материя); 2)causa formalis (форма или образ, приобретаемые исходным материа-лом); 3) causa finalis (цель действия, активности применительно к субстанции); 4) causa officiens (творящее начало, индивид) [Хайдеггер М. Вопрос о технике // Новая технократическая волна на Западе. -- М.: Прогресс, 1986. -- С. 47]. У Э.Маркаряна в структуре активности присутствуют субъекты, сферы и средства деятельности, у Ф.Рудича -- цели, средства и результаты [Рудич Ф. Политика как объект системного исследования. -- Философская и социологическая мысль, 1990, # 1. -- С. 24], у Б.Курашвили -- субъект, объект и технология. Кроме того, политическая активность векторно ориентируется то на традицию и ценности прошлого, то на будущее, открывающее новые пути для изменений и роста [Тойнби А. Постижение истории. -- М.: Прогресс, 1991. -- С. 94]. Д.Рисмен описал основные типы политического поведения людей в рамках подобных ориентаций. Политическая активность может быть структурной и по психологическому рисунку, выступая то как целенаправленная и стихийная, то как созидательная и разрушительная [Кон И. Психология социальной инерции. -- Коммунист, 1988, # 1. -- С. 64--75]. Недаром А.Тойнби верил, что и внутри обретенного единства человечество будет оставаться многообразным. У Г.Маркузе органически умиротворяющей является лишь та политическая система, которая не утрачивает своего внутреннего многообразия [Маркузе Г. Одномерный человек. -- М.: REFL-book, 1994. -- С. 294]. Политическая активность структурна еще и потому, что люди бывают обычно враждебны в одном, и солидарны в другом отношении одновременно. И хотя им свойственно объединяться вокруг политических целей в группы, это не означает, что многообразие политических целей тем самым как-то ограничивается. Ведь политика -- это множественные отношения даже внутри отдельно взятого человека [Стрелер Д. Театр для людей. -- М.: Радуга, 1984. -- С. 255--256]. Поэтому не удивительно, что структура политического имеет сложный генезис. Адекватно или неадекватно отражаясь в конституциях, она не всегда помещается в пределах того или иного национального правового поля. Выходя за пределы регулятивных возможностей национальных правовых систем, современная политическая реальность отражается в публичном международном праве [см., например: Буроменский М. Политические режимы государств в международном праве. -- Харьков: 1997], проявляется на уровне национальных органических кодов политической активности непосредственно. По мнению О.Тоффлера, нормативный код как совокупность крупномасштабных органических принципов и правил пронизывает активность всякой цивилизации как ее повторяющийся дизайн [Toffler A. The Third Wave. N.-Y.: Bantam-Books, 1994. -- P. 46]. Г.Моска в близком к этому смысле писал, что каждая эпоха и век имеют собственный "набор идей и верований", влияющих на механизмы политического сосуществования [Mosca G. The Ruling Class. -- USA: Greenwood Press, 1980. -- P. 145]. Каждая национальная общность и каждое государство, утверждал О.Гирке, структурируются под влиянием не только качественных особенностей их членов, но также и под воздействием особенностей их территории [Gierke O. Natural Law and the Theory of Society. Translator's Introduction. -- Boston: Beacon Press, 1950. -- P. XXYIII]. Формы правления естественно различаются в зависимости от размеров, жизненных форм и привычек разных народов, считал А.Фергюсон [Ferguson A. An Essay on the History of Civil Society. -- Edinburgh: Duncan Forbes, 1966. -- P. 62]. В близком к этому смысле Д.Истон говорил об интеллектуальной, информационной и культурной основе общества [Easton D. A Systems Analysis of Political Life. -- Chicago: University of Chicago Press, 1965. -- P. 370], а М.Крюгер -- о его "нормативной структуре", развивающейся в скрытых политических формах и первоначально проявляющейся в "привычках души" (А.Мицкевич) -- отношениях, хотя и не заключенных в рамки юридических правил, но эти правила конституирующих [Krygier M. The Constitution of the Heart // Law and Social Inquiry. -- Journal of the American Bar Foundation, 1995, Nb. 4, Vol. 20, Fall 1995. -- P. 1057]. Примечательно, что и для С.Вейль "структура человеческого сердца -- реальность среди реальностей мира, такая же, как траектория небесного светила" [Вейль С. Укор?нення // Дух ? л?тера. Т. 1.-- Ки"в: 1997. -- С. 242]. В.Соколевич в сходном значении писал о предконституционной нормативной платформе, образуемой социальными связями, общественным сознанием и национальными историческими традициями [Sokolewicz W. The Relevance of Western Models for Constitution -- Building in Poland // Constitutional Policy and Change in Europe. -- N.-Y.: Oxford University Press, 1995. -- P. 250]. Сегодня мы вполне определенно можем говорить о структурных кодах западноевропейской, американской, восточноевропейской, центрально-европейской и других менее крупных политических цивилизаций, более или менее отраженных в текстах писаных конституций. По-видимому, существуют также автономные политические коды стран, входивших прежде в состав СССР. Собственно говоря, распад последнего есть лишь еще одно тому подтверждение. О.Тоффлер считал, что каждая цивилизация имеет собственную структуру распределения власти между классами, расами, регионами и полами [Тоффлер О. Раса, власть и культура // Новая технократическая волна на Западе. -- М.: Прогресс, 1986. -- С. 276], а М.Мид и Р.Бенедикт доказывали, что культуры обретают структурную неповторимость, по-разному оценивая отдельные стороны человеческой личности [Мид М. Культура и мир детства. -- М.: Наука, 1988. -- С. 49]. У В.Соловьева структурные различия Востока и Запада объясняются тем, что восточная политическая культура возникла на основе родового быта, а западная -- под преобладающим влиянием быта дружинного. Из этих предпосылок и возникли, по его мнению, восточная монархия и западная республика, как правление свободных людей [Соловьев В. Сочинения. В 2-х т. Т. 1. -- М.: Правда, 1989. -- С. 75]. Анализируя политическую структуру советской перестройки, С.Шаталин отмечал в ней одновременное присутствие элементов византийских, французских и американских политических систем [Шаталин С. Издержки неизбежны, но... -- Литературная газета, 1989, 11 октября. -- С. 10]. Как известно, Янь Цзяцы выделял четыре политических типа структурной организации общества в ХХ в.: автаркическое ("картофельное"); пирамидально-административное; правовое общество; общество высокоорганизованное [Савенков Ю. Китай: пора политической реформы. -- Известия, 1989, 2 февраля. -- С. 5]. Г.Ферреро структурно различал династическую, демократическую и революционную власть [Лисяк-Рудницький ?. М?ж ?стор?"ю й пол?тикою. -- Мюнхен: Сучасн?сть' 1973. -- С. 326--327], а Д.Шумпетер -- коммерческие и социалистические общества [Schumpeter J. Capitalism, Socialism and Democracy. -- London: George Allen, 1976. -- P. 167], которые он считал структурно противостоящими друг другу. В СССР Н.Азаров писал о структурных различиях политической активности классов, организаций и учреждений [Азаров Н. В.И.Ленин о политике как общественном явлении. -- М.: Высшая школа, 1975. -- С. 39], а М.Руткевич -- о структурных особенностях политической теории и политической деятельности [Руткевич М. Проблема истины в сфере политического сознания // Новый мировой порядок и политическая общность. -- М.: Наука, 1983. -- С. 128]. Ф.Рудич в аналогичном подходе анализировал механизмы политической забастовки, реформы и революции. Он также стратифицировал политическую реальность на действие, поведение, творчество, общение, сотрудничество, управление и руководство [Рудич Ф. Политика как объект системного исследования. -- Философская и социологическая мысль, # 1. -- С. 25]. А.Федосеев подчеркивал структурные особенности политической идеологии и психологии, а также политических норм, ценностей, учреждений, отношений, процессов и поведения [Федосеев А. Политика как объект социологического анализа. -- Л.: Изд-во ЛГУ, 1974. -- С. 21]. В.Шапиро, в свою очередь, писал о структурных особенностях получения политических знаний, выработки, принятия и реализации политических решений [Шапиро В. Социальная активность пожилых людей в СССР. -- М.: Прогресс, 1983. -- С. 70]. В.Гулиев анализировал структуру политического участия, которое, как он считал, может быть консультативным, сорешающим и решающим [Гулиев В. Теоретические вопросы социалистического самоуправления. -- Советское государство и право, 1986, # 2. -- С. 10]. Вместе с Ф.Рудинским он писал о политической структуре народовластия, в которой выделяются: источник власти (народ); носитель власти (государство); участники власти (общественные организации и граждане); субъекты властных полномочий (государственные органы, органы общественных организаций); объекты власти (общество, классы, коллективы, граждане) [Гулиев В., Рудинский Ф. Социалистическая демократия и личные права. -- М.: Юридическая литература, 1984. -- С. 28--29]. Ю.Скуратов в структуре политической активности различал функцию народа, вид управленческой деятельности и конституционный принцип. Структурными аспектами политической активности в советском государствоведении интересовались М.Орзих, В.Масленников, В.Кучинский, Б.Железнов, В.Копейчиков, Н.Бондарев [Социалистическое самоуправление: опыт и тенденции развития. -- М.: Изд-во АН СССР, 1986. -- С. 159], А.Клюев [Клюев А. Особенности развития политической активности граждан при социализме // Политические институты и процессы. -- М.: Наука, 1986. -- С. 125]. А.Чередниченко писал о структурном делении политической активности на организационную, теоретическую, воспитательную, исполнительскую и управленческую [Чередниченко А. Культура активного политического действия. -- М.: Мысль, 1986. -- С. 110]. Он также различал социально-практическую и духовно-теоретическую политическую деятельность [там же. -- С. 23]. А.Ковлер и В.Смирнов писали об индивидуальном и коллективном, добровольном и принудительном, активном и пассивном, традиционном и альтернативном, революционном и охранительном политическом участии [Ковлер А., Смирнов В. Демократия и участие в политике. -- М.: Наука, 1986. -- С. 8], а И.Ильинский, в свою очередь, выделял организационные, процедурные, статутные институты и субинституты политического поведения [Ильинский И. Социалистическое самоуправление народа. -- М.: Мысль, 1987. -- С. 78]. Структурными аспектами политического интересовался также Ю.Тихомиров. Политический институт у него выступает структурно упорядоченным и воспроизводящим себя способом жизнедеятельности людей, средством их целенаправленного воздействия на общественные процессы [Тихомиров Ю. Проблемы активизации политических институтов. -- Советское государство и право, 1986, # 6. -- С. 14]. Р.Макивер и Ч.Пейдж определяли институт как форму или способ поведения, характерный для всякой групповой человеческой активности [Жигульский К. Праздник и культура. -- М.: Прогресс, 1985. -- С. 67], что подтверждается также идеей П.Друкера о том, что если общество, община и семья существуют, то организации -- действуют. Структура политической активности проявляется и на уровне ее субъектов, среди которых Г.Атаманчук выделял объединенный в государство народ, органы и должностных лиц [Атаманчук Г. Типичное и уникальное в организации государственного управления. -- Советское государство и право, 1985, # 12. -- С. 33--34]. Политическая активность, как писал М.Цвик, может иметь также структурно-территориальное подразделение [Цвик М. Социалистическая демократия и самоуправление. -- Советское государство и право, 1985, # 4. -- С. 5]. В целом эти классификации объединяет то, что в своей основе они имеют некогда состоявшееся в СССР конституционное структурирование политической активности на виды, подвиды, группы, институты и субинституты. Почти все такие классификации исходили из анализа текстов правовых источников и документов КПСС. В них не упоминалась деструктивная политическая активность, равно как и политическая активность оппозиции, диссидентов и правозащитников. В таких подходах редко выделялись индивидуальные политические усилия и многое другое, что легко объясняется особенностями существовавшего в СССР политического режима. Более живые подходы характерны для западных политических исследований. У М.Вебера структура политической власти представлена тремя типами: традиционным, рациональным и харизматическим. Первый основан на обычае и религиозных нормах, второй опирается на правила, установленные для достижения отдельных рациональных целей (здесь важен момент деперсонифицированности). Харизматический же тип власти реализуется у него в конфликте между традиционной и рациональной властью [Медушевский А. Реформы Петра Великого в сравнительно-историческом аспекте. -- Вестник высшей школы, 1990, 32. -- С. 81]. По-видимому, деперсонифицированный тип власти является ключевой категорией органического конституционализма, ведь если основанное на обычае или харизме подчинение совместным конкретным целям, в конечном счете, означает рабство, то подчинение абстрактным правилам (сколь бы тяжелым не казалось их бремя) наилучшим образом обеспечивает простор человеческой свободе и многообразию [Хайек Ф. Пагубная самонадеянность. -- М.: Новости, 1992. -- С. 112]. У Т.Гоббса власть разделена на позитивную и негативную, причем первая подразделяется на монархическую, аристократическую и демократическую, а вторая -- на тираническую, олигархическую и анархическую. Г.Моска, в свою очередь, различал два способа правления: феодальный, в котором функции исполнительной, судебной, законодательной и религиозной власти объединены; и бюрократический, в котором не все исполнительские функции сконцентрированы в одних руках [Mosca G. The Ruling Class. -- USA: Greenwood Press, 1980. -- P. 83]. Разумеется, наиболее важным в конституционализме является деление политической власти на власть народа и государственную власть. Поскольку народ, как писал А.Шлезингер, в силу структурных причин не может править непосредственно, он делегирует свои полномочия представителям. В итоге общественные системы создают треугольник, образуемый политиками, государственным управлением и группами интересов [Литторин С.-О. Крушение социалистического мифа. -- Москва-Минск: Полифакт, 1991. -- С. 36]. При этом законы структурности располагают политические отношения в вертикально-горизонтальной системе координат. Вертикальные отношения возникают между носителями социальных интересов и их выразителями. Горизонтальные же образуются между слоями в обществе, партиями, движениями и классами [Курашвили Б. Политическая борьба и ее закономерности // Политические отношения: прогнозирование и планирование. -- М.: Наука, 1983. -- С. 58--59]. У Ю.Хабермаса избиратели способны осознавать свои интересы лишь после их обобщения в политическом дискурсе, ибо политические решения не поставляются суверенным народом, но предоставляются ему. В итоге формирование политической позиции не начинается с народа, но проходит через него [Sartori G. Democratic Theory. -- Westport: Greenwood Press, 1973. -- P. 77]. По мнению Д.Брайса, общественное мнение вырабатывается немногими, но затем укрепляется активностью многих людей [Bryce J. Modern Democracies. Vol. 2. -- London: Macmillan, 1921. -- P. 266]. Иными словами, политические отношения по схеме "народ--представители", равно как и по схеме "власть--народ", сами по себе еще не означают, что селективная (отбирающая образцы решений) демократическая власть парламентского большинства подчинена более узкой творческой (создающей рынок образцов) власти. Структура их взаимоотношений гораздо более сложная. Но очевидно, что из такой структуры вытекает вывод о том, что векторы прогресса и демократии далеко не всегда совпадают. Признаки политической структурности обнаруживаются в определении П.Сорокиным государства как совокупности народа, территории и власти. Они же предполагаются в утверждении М.Мариновича о том, что нация и государство -- это разные храмы, равно как и в замечании В.Соловьева о том, что монастырь, дворец и село суть общественные устои России. Идея структурности доминирует в политических интерпретациях теории разделения властей у Ж.-Ж.Руссо, Ш.Монтескье и Д.Локка. Для П.-А.Гольбаха не существует более верного политического пути, чем разделение власти между сословиями, а у Г.Мабли власть разделена, чтобы обеспечить повиновение правителей законам. Как известно, разделение властей "англичанами античности" (А.Мигранян) в Древнем Риме обеспечило его длительное и эффективное политическое доминирование. Внедрения даже самого простого механизма сдержек и противовесов оказалось достаточным, чтобы покончить с греческим сосредоточением власти в едином полисе, социальном слое или классе [Мигранян А. Механизм торможения в политической системе и пути его преодоления // Иного не дано. -- М.: Прогресс, 1988. -- С. 104]. У Т.Джефферсона политическое управление основано на принципах свободы, но из этого также следует, что верховная власть должна быть разделена между политическими институтами, каждый из которых мог бы выйти за пределы своей компетенции, лишь столкнувшись с противодействием со стороны других институтов [Джефферсон Т. Автобиография. Заметки о штате Виргиния. -- М.: Наука, 1990. -- С. 197]. Именно поэтому, писал Д.Мэдисон, ведомства должны иметь прямую заинтересованность в сопротивлении посягательствам на свою компетенцию. Честолюбие должности должно противостоять другому честолюбию и т.д. [Американские федералисты: Гамильтон, Мэдисон, Джей. -- Vermont: Benson, 1990. -- P. 181]. Как известно, политическая практика сделала разделение властей доктриной, равной по своему значению закону стоимости [Курашвили Б. Борьба с бюрократизмом. -- М.: Знание, 1988. -- С. 50]. К сожалению, в конституционализме посттоталитарных стран разделение властей обрело черты известного буквализма. Например, в ст. 10 Конституции России 1993 г. закреплено разделение государственной власти на законодательную, исполнительную и судебную. При этом подчеркивается, что каждая из властей самостоятельна [Новые конституции стран СНГ и Балтии. -- М.: Манускрипт, 1994. -- С. 351]. Аналогичное правило содержится в ст. 8 Конституции Болгарии 1991 г. [Конституц?" нових держав "вропи та Аз?". -- Ки"в: УПФ, 1996. -- С. 121], ст. 11 Конституции Узбекистана 1992 г. [там же. -- С. 344], ст. 4 Конституции Хорватии 1990 г. [там же. -- С. 374], ст. 6 Конституции Украины 1996 г. [Конституц?я Укра"ни. -- Ки"в: Укра"на, 1996. -- С. 4]. Подобные нормы есть также в Конституциях Казахстана 1993 г. и Кыргызской Республики 1993 г. Критику в данном случае вызывает не столько сам принцип структурного деления власти, сколько его формальное выражение. Наиболее сомнительным в данном случае выглядит определение судебной власти как государственной, отнесение судов к разновидности государственных органов. Именно в силу органической природы структуры политических отношений этот прием небезупречен по отношению к конституционным и иным высшим судам, принимающим иски к государству в целом, или выступающим арбитрами в спорах о прерогативах народного и государственного суверенитетов. Прямое отождествление судебной власти с государственной присуще Конституции Казахстана 1993 г., Конституции Кыргызской Республики 1993 г., Конституции Литвы 1992 г. и др. Попытка компромисса предпринята лишь в ст. 101 Конституции Македонии 1991 г., согласно нормам которой Верховный Суд Республики признается высшим судом в Республике [Конституц?" нових держав "вропи та Аз?". -- Ки"в: УПФ, 1996. -- С. 182], что формально несколько обособляет судебную власть от государственных структур. Еще более противоречивыми в посттоталитарных конституциях выглядят нормы об осуществлении правосудия именем государства, народа и общества, а не именем конституции или закона (права). Ведь в этом случае праву отводится роль не деперсонифицированного авторитета, абстрактного правила игры, в которой государство есть лишь один из участников [то, что конституция есть высшая деперсонифицированная нормативная структура, видно на примере ст. 1 Конституции Италии 1947 г., в которой записано, что суверенитет народа (высшая политическая живая власть) осуществляется "в формах и границах" Конституции, а также на примере ст. 1 Конституции Греции 1975 г., в которой говорится, что "вся власть... осуществляется так, как это указано в Конституции" (см.: Конституции буржуазных государств. -- М.: Юридическая литература, 1982 г. -- С. 124, 340)], а рабочего инструмента государственной власти, рычага государства, некоего позитивистского итога и продукта демократии. Между тем, как писал Д.Талмон, уже начиная с 1789 г. реальным врагом политической свободы является не деспотизм королей, а неограниченное парламентское большинство, тоталитарная демократия [Talmon J. Political Messianism. -- London: Secker and Warburg, 1960. -- P. 318]. Еще и сегодня, к сожалению, суд трактуется как один из прямых каналов народовластия (ст. 2 Конституции Чехии 1992 г.). Но ведь вынесение судебных решений (приговоров) именем государства не только косвенно подтверждает инструментальный характер суда по отношению к государству, но и недвусмысленно ставит государство в позицию судьи в собственном деле. Несмотря на противоречивость данной конструкции, она превалирует в целом ряде посттоталитарных конституций (ст. 109 Конституции Литвы 1992 г. и др.). Иногда встречается, что конституции провозглашают осуществление правосудия "именем Украины" (ст. 124 Конституции Украины 1996 г.), "именем народа" (ст. 101 Конституции Италии 1947 г.) [Конституции буржуазных государств. -- М.: Юридическая литература, 1982. -- С. 144], "именем Короля" (ст. 117 Конституции Испании 1978 г.) [там же. -- С. 306]. Однако, лишь в ст. 114 Конституции Молдовы 1994 г. закреплена норма об осуществлении правосудия именем закона [Конституц?" нових держав "вропи та Аз?". -- Ки"в: УПФ, 1996. -- С. 222]. Интересно отметить, что структурный принцип разделения властей проявляется в большей степени на горизонтальном, нежели вертикальном уровне. Собственно говоря, горизонтальные отношения и являются по-настоящему политическими. Вертикальная же схема политической активности на поверку почти всегда оказывается административной. Именно на горизонтальном уровне отношений требуются терпимость и плюрализм, именно здесь однопартийная демократия, как писал Н.Сесардич, становится столь же похожей на настоящую демократию, как человек по фамилии Зеленый похож на зеленый цвет [Сесардич Н. О некоторых идеологических препятствиях процессу демократизации Югославии. -- Проблемы Восточной Европы, 1989, # 27--28. -- С. 44]. Естественно, что структурные аспекты политической активности проявляются не только в практике реализации фундаментального принципа разделения властей, но и на факультативном уровне, в делении власти на ординарную и чрезвычайную, а политической активности на конструктивную и деструктивную. Например, если конструктивность проявляется в наделении объекта приложения усилий чертами, которые ранее ему не принадлежали, а деструктивность, наоборот, в лишении объекта ранее принадлежавших ему черт [Котарбинский Т. Трактат о хорошей работе. -- М.: Экономика, 1975. -- С. 46], то политически конструктивной будет активность, утверждающая многопартийность или свободу прессы, а политически деструктивной -- создающая партийную монополию или устанавливающая информационный контроль. Недаром А.Богданов писал, что деструктивная активность, как правило, всегда подразумевает уменьшение практической суммы и способов сочетания активностей в том или ином объекте [Богданов А. Всеобщая организационная наука (Тектология). Ч.1. -- Л.-М.: Книга, 1925. -- С. 143]. Таким образом, структура политической активности производна не только от иерархического устройства власти, множественности элементов политической системы или национального понимания классической схемы разделения властей. Однако, в конституционном смысле наиболее важной структурой политической активности всегда остается ее разделение на государственную политическую активность и политическую активность гражданского общества. Генетические истоки такого деления обнаруживаются в идее народ-ного суверенитета, который по отношению к суверенитету государственному считается первичным. Как утверждалось в "Энциклопедии" Д.Дидро, свою власть король получает от подданных. Именно из этой идеи воспоследовало представление эпохи Просвещения о народном суверенитете, как о первичной власти, конструирующей вторичную государственную власть из согласия управляемых. И хотя, как свидетельствует Р.Арон, Т.Гоббса долго не отпускал страх перед гражданской войной, спасти от которой могла лишь абсолютная монархия, уже Б.Спиноза смотрел на данную проблему проще, отстаивая ограничение правительственной власти в интересах социального мира и гражданской свободы. Идею ограниченного правления позднее концептуально развил В.фон Гумбольдт, который, в частности, писал, что при создании государственного устройства необходимо не только предварительное определение "господствующей" и "подчиненной" частей нации, но также и объектов, на которые политическая власть будет распространять свою деятельность, и по отношению к которым она обязана будет ее ограничивать [Гумбольдт В.фон. Язык и философия культуры. -- М.: Прогресс, 1985. -- С. 25]. Таким образом, политическую сферу он разделил на пространства, предполагающие особую структуру отношений между ними. Следует заметить, что и у А.Токвиля государственная и гражданская сферы отчетливо разделены. Государство у А.Токвиля суть ассамблеи, министерства, суды, армия и полиция. Гражданскую же сферу ("civil life") образует негосударственная активность, осуществляемая индивидами помимо домашних и бытовых забот [Bryant C. Civic Nation, Civic Society, Civic Religion // Civil Society. -- Cambridge, 1995. -- P. 143]. И если экономические гражданские ассоциации у него существуют ради частных интересов коммерции и индустрии, то политические гражданские ассоциации занимаются выработкой и поддержкой доктрин, которые им хотелось бы воплотить в жизнь. В итоге, религия гражданственности требует у А.Токвиля государственного подчинения обществу, а политическая религия -- общественного подчинения государству. Религия гражданственности, или идея приоритета народного суверенитета перед государственным, как известно, легла в основу американской конституционной доктрины уже в ХVIII в. В Европу эта идея проникла под влиянием Ш.Монтескье, пересадившего на континент английские представления о политической власти ассоциированных представителей общественности. Поэтому логично, что у О.Гирке уже и европейский конституционализм базируется на идее конкуренции двух сил в политическом поле: силе государства с его страстью к всемогуществу и силе индивида с его стремлением к свободе [Gierke O. Natural Law end the Theory of Society 1500 to 1800. -- Boston: Beacon Press, 1950. -- P. 152, 157, 165]. Тем не менее, наиболее основательно среди политических философов различал активность государства и гражданского общества, по-видимому, Гегель, который, в частности, писал: "Действительная власть полагается, правда, в качестве единой и сконцентрированной в правительстве; но ей противопоставляется возможная власть, и эта возможность должна в качестве таковой обладать способностью принуждения по отношению к данной действительности. Предполагается, что это второе бессильное существование общей воли должно обладать способностью суждения, следует ли власти покинуть ту первую волю, с которой она связана, соответствует ли еще власть понятию всеобщей свободы. И этой воле надлежит вообще осуществлять контроль над верховной властью, и если в ней частная воля вытеснит всеобщую, лишить ее власти; причем сделано это должно быть посредством публичного заявления, обладающего абсолютной силой воздействия, в результате чего с этого момента все действия верховной государственной власти теряют всякое значение. Нельзя, не следует допускать, чтобы власть обособлялась сама посредством собственного суждения; это было бы восстанием; ибо эта чистая власть состоит из множества частных воль, которые, следовательно, не могут конструироваться в общую волю. Однако вторая, общая воля объявляет, что это множество в качестве сообщества, или чистой власти, объединено с идеей всеобщей воли, поскольку эта воля больше не присутствует в предшествовавших властителях" [Гегель Г.В.Ф. Политические произведения. -- М.: Наука, 1978. -- С. 222]. Несмотря на трудности изложения, главная мысль, как представляется, здесь выражена достаточно лапидарно. Позднее эту мысль воспроизвел Ю.Хабермас, говоря, например, что систему финансового оборота, а также экономическую власть, равно как и власть гражданской администрации в структурно сложных современных обществах можно лишь сдерживать. Однако в любом случае эта власть должна быть отделена от коммуникативных сфер общества, устранена из пространства общественной мысли и частной жизни, природа которых имеет спонтанный характер. В противном случае враждебная спонтанности бюрократическая рациональность проникнет в повседневную жизнь людей. Чтобы этого не случилось, система гражданской коммуникация должна оберегать границы своего мира [Хабермас Ю. Социальная проекция Фрейда и утопия общества. -- Философская и социологическая мысль, 1990, # 2. -- С. 90]. Поэтому, как писал Ю.Хабермас, "мы должны различать власть, рождающуюся в процессе коммуникации, и административно применяемую власть. В деятельности политической общественности встречаются и перекрещиваются два противоположных процесса: с одной стороны, коммуникативное формирование легитимной власти, которая рождается в свободном от всякой репрессивности процессе коммуникации политической общественности, а с другой -- такое обеспечение легитимности через политическую систему, с помощью которой административная власть пытается управлять политическими коммуникациями" [Хабермас Ю. Демократия. Разум. Нравственность. -- М.: Наука, 1992. -- С. 49--50]. Б.Рассел также различал два вида крупномасштабной политической активности. С одной стороны, как он считал, общественная безопасность требует централизованного правительственного контроля, который может расшириться до размеров мирового правительства. С другой же стороны, гражданское общество движется по пути прогресса, конкурирующего с социальным порядком [Russell B. Authority and the Individual. -- N.-Y.: Simon and Shuster, 1949. -- P. 67]. Ситуация при этом осложняется еще и тем, что в интересах прогресса человечество вынуждено допускать если не все, то многое. Неудивительно поэтому, что в сознании современного человека все конфликты могут однажды слиться в фундаментальное противостояние: общество -- власть, духовный истэблишмент и духовный контристэблишмент [Сегал Л. Конец эпохи ясности. -- Проблемы Восточной Европы, 1989, # 27--28. -- С. 10]. По убеждению Р.Рейгана, любая демократия является системой ограничения государственной власти, в результате которого политика и правительство играют лишь второстепенную роль по сравнению с подлинными ценностями жизни, которыми выступают семья и вера [Рейган Р. Выступление в МГУ. Рейган в Москве. Встреча в верхах. -- USA: Изд-во Информационного агентства США, 1988. -- С. 7]. Впрочем, тезис о том, что высший долг люди имеют по отношению к своим родственникам, а не общиной или государством, не является исключительно западным. Цели государства хоть и широки, но ограничены. Традиционно ими являются безопасность, счастье и сохранность как общества в целом, так и его отдельных частей, писал П.-А.Гольбах. Следовать этому правилу на практике оказалось непросто. И хотя суверен, по замыслу Ж.-Ж.Руссо, должен был всецело посвятить себя охране человеческой свободы [Talmon J. The Origins of Totalitarian Democracy. London: Secker and Warburg, 1952. -- P. 35], защите гражданской свободы посвящается сегодня лишь небольшая часть правительственных прерогатив [см., например: ч. 1 ст. 94 Конституции Литвы 1992 г., ст. 114 Конституции России 1993 г., ч. 1 ст. 2 Конституции Греции 1975 г.]. На практике правительства в гораздо большей степени заботит стабильность и порядок. Еще Ф.Бэкон характеризовал государственную активность как обуздывающую, укрощающую и подчиняющую себе общественную жизнь [Бэкон Ф. Новый органон. -- М.: Главное социально-экономическое изд-во, 1938. -- С. 214], однако и сегодня универсальной правительственной мечтой остается упорядочение поведения народа. Недаром излюбленной доктриной государственной власти является доктрина порядка. Политические руководители легко отождествляют порядок со status quo, объявляя подстрекателем всякого, кто осмеливается выступить против [Оссовская М. Рыцарь и буржуа. -- М.: Прогресс, 1987. -- С. 469]. Всякий профессиональный управленческий аппарат стремится к сохранению сложившихся отношений и порядков, а не к их преобразованию [Пискотин М. Социализм и государственное управление. -- М.: Наука, 1988. -- С. 13]. В свое время Ч.Беккариа заметил, что "политические машины" дольше других сохраняют приданное им движение и медленнее остальных перестраивают свой ход [Беккариа Ч. О преступлениях и наказаниях. -- М.: Юридическое изд-во НКЮ СССР, 1939. -- С. 293]. Поэтому любимым занятием государственных бюрократов является обеспечение порядка на территории безотносительно к особенностям человеческой расы [Walzer M. Spheres of Justice. -- USA: Basic Boors, 1983. -- P. 37]. Бюрократы обычно невосприимчивы к тому, что правительственная власть, парализуя гражданскую жизнь, толкает тем самым государство к собственному параличу [Havel V. Open Letters. -- N.-Y.: Vintage Books, 1992. -- P. 75]. Недаром Ф.Ницше, не смущаясь, называл государство "псом лицемерия", а М.Бакунин приписывал государству изначальное убеждение, что человек зол и плох. По мнению Ж.-Ф.Ревеля, все, что есть в человеке неполитического, чиновникам ненавистно [Revel J.-F. Democracy Against Itself. -- USA: Free Press, 1993. -- P. 47]. У С.Вейль "от необходимости целовать металлическую холодность государства люди изголодались за противоположным" [Вейль С. Укор?нення // Дух i лiтера. Т. 1-2. -- Ки"в: 1997. -- С. 233]. Преданность порядку, наряду с убеждением в его незыблемости, есть стандарт бюрократического отношения к действительности [Макаренко В. Проблемы бюрократии в трудах классиков марксизма-ленинизма. -- Советское государство и право, 1986, # 9. -- С. 27]. Ведь государство, как говорили классики, осознает свои функции как вытекающие из противоположности между правительством и народными массами [Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 25, ч. 1. -- С. 422]. И тем не менее, в политическом смысле государство есть лишь временный триумфатор. Как писал К.Маркс, "с того момента, как управление государством и законодательство переходят под контроль буржуазии, бюрократия перестает быть сознательной силой; именно с этого момента гонители буржуазии превращаются в ее покорных слуг. Прежние регламенты и рескрипты, служившие лишь для того, чтобы облегчить чиновникам их деятельность за счет промышленников -- буржуа, уступают место новым регламентам, облегчающим деятельность промышленников за счет чиновников" [Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 4. -- С. 56--58]. Постепенно "центральной государственной власти" становится ясно, что продолжение старых отношений с обществом невозможно, и что правительству надлежит предоставить своим подданным свободу во всем, что не относится к его прямому назначению, что не связано с внешней и внутренней безопасностью. Так что не может быть бо-лее священной для правительства обязанности, чем предоставление гражданам свободы в такого рода вопросах и их защита, независимо от соображений утилитаристского характера, ибо эта свобода священна сама по себе, писал Гегель [Гегель Г.В.Ф. Политические произведения. -- М.: Наука, 1978. -- С. 84]. Естественно, что осуществление данной свободы может иметь место лишь в структурных рамках гражданского общества, представления о котором, однако, весьма различны. Ж.-Ф.Ревель определял гражданское общество состоящим из граждан, которые действуют во всем по собственной инициативе, вне актов государства и вне ответственности перед государственной властью [Revel J.-F. Democracy Against Itself. -- USA: Free Press, 1984. -- P. 30]. "Международное общество прав человека" (МОПЧ) гражданским называет общество, в котором его члены имеют не только независимые от правительства организации и прессу, но и сами являются экономически независимыми от государства. Д.Грин называл гражданское общество негосударственным добровольным "царством общей активности", руководимым чувством долга людей по отношению друг к другу и к социальной системе свободы в целом [Green D. Reinventing Civil Society. -- London: IEA Unit, 1993. -- P. 3]. Это определение близко к пониманию Д.Истоном политического сообщества, как объединенного чувством общности по отношению к известному количеству сходных или идентичных ценностей [Easton D. A Systems Analysis of Political Life. -- Chicago: University of Chicago Press, 1965. -- P. 184]. Для М.Новака эффект гражданского общества возникает вследствие углубляющейся политической дифференциации мира, в результате которой экономические и морально-культурные системы становятся автономными vis-а-vis государству [Novak M. The Spirit of Democratic Capitalism. -- London: IEA Unit, 1991. -- P. 416]. По представлениям Д.Сартори, гражданское общество -- это открытое общество, в котором общественное начало превалирует над государственным, а демос предшествует власти [Sartori G. Democratic Theory. -- Westport: Greenwood Press, 1973. -- P. 26]. Для М.Волсера оно напоминает совместное предприятие, публичное место, где люди спорят и обговаривают общие интересы, намечают свои цели и обсуждают приемлемый для них риск [Walzer M. Spheres of Justice. -- USA: Basic Books, 1983. -- P. 300]. По мнению Р.Дарендорфа, "гражданское общество есть общий знаменатель подлинной демократии и эффективной рыночной экономики" [Darendorf R. Roads to Freedom // Uncertain Futures: Eastern Europe and Democracy. -- N.-Y.: 1990. -- P. 13]. Гражданское общество также может быть определено как "сфера или подсистема общества, которая является аналитической и в определенной степени отдаленной от сфер политической, экономической и религиозной жизни". Иными словами, "гражданское общество является сферой солидарности, в которой напряженно переплетаются как абстрактный универсализм, так и партикуляристские версии общности. Оно является как реальной, так и нормативной концепцией" [Alexander J. Citizen and Enemy as Symbolic Classification: On the Polarizing Discourse of Civil Society // When Culture Talks: Exclusion and The Making of Society. -- Chicago: 1993. -- P. 291]. В современных развитых странах гражданское общество не является простым придатком экономической системы и, тем более, придатком государства, а выступает "ареной деятельности разнообразных организаций, каждая из которых стремится защитить политические или классовые интересы определенной социальной группы" [Свiнцицький В., Федорченко П. Громадянське суспiльство в Укра"нi: концепцi" i реалi" // Бюлетень Мiжнародного фонду "Вiдродження", # 4--5. -- Ки"в: 1994. -- С. 16]. В итоге именно сосуществование и конкурентная борьба разнородных социальных сил подрывают попытки государственной монополизации политического, морального или интеллектуального влияния. Теоретически традиция гражданского общества, по мнению А.Селигмана, берет свое начало в работах А.Шефтсбери, Ф.Хатчесона, А.Фергюсона и А.Смита. Позднее его концепция была развита Б.Констаном, Л.Стейном и А.Грамши. Сам А.Селигман считает, что гражданское общество есть арена, на которой свободная самодетерминирующаяся индивидуальность располагает свое стремление к личной автономии [Seligman A. The Idea of Civil Society. -- N.-Y.: Free Press, 1992. -- P. 5]. Иными словами, гражданское общество есть форма интеграции общественности, которая противостоит государственной интеграции. Поэтому, если в рамках марксистской интерпретации социальной динамики общественные противоречия ведут к государству, то в рамках англо-американских представлений о социальном прогрессе люди объединяются, чтобы противостоять ему. [Интересно то, писал С.Верба, что сегодня многие страны движутся в "гражданском" направлении США и Великобритании, в то время как сами эти страны постепенно уходят с этой позиции (см.: Verba S. On Revisiting the Civic Culture: A Personal Postscript // Civic Culture Revisited. -- USА: Sage Publications, 1989. -- P. 399).] Не желая быть поглощенными государством, они объединяются на "неинтегративной" основе индивидуальной свободы. Поэтому гражданское общество есть нечто отличное от государства, нечто "за пределами" государства и практики государственных функционеров [Ray L. A Thatcher Export Phenomenon? // Enterprise Culture. -- London: Routledge, 1991. -- P. 131]. Впрочем, еще в Великой хартии вольностей 1215г. утверждалось, что гражданское общество образует область, в которой люди являются свободными от необоснованного вторжения со стороны правительства. Этот подход, сохранившийся до настоящего времени, проник даже в современные популярные учебники политологии для средних школ. В одном из американских изданий такого рода утверждается, что гражданское общество образует область добровольных личных, социальных и экономических отношений и структур, которые, будучи ограничены законом, не являются частью государственных учреждений. Гражданское общество обеспечивает пространство свободы своих членов, защищенное против неосновательного вторжения в него со стороны официальных властей. Так благодаря созданию независимых структур силы и влияния гражданское общество становится необходимым средством поддержания идеи ограниченного правления [National Standards for Civics and Government. -- USA: Center for Civic Education, 1994. -- P. 47]. В свое время Гегель говорил, что хотя индивид, безусловно, является целью для себя, осуществление данной цели по необходимости связано с другими индивидами, и потому должно предполагать известную форму гражданской универсальности. Из данной идеи, писал позднее Д.Ролз, следует важное конституционное следствие, а именно то, что первичная политическая власть может быть представлена лишь исключительно коллективным организмом, властью общественности, волей свободных и равноправных граждан [Rawls J. Political Liberalism. -- N.-Y.: Columbia University Press, 1993. -- P. 136]. Данная теоретическая конструкция действительно близка исходным принципам политической эволюции США, что и позволило А.Селигману заявить о стилевой практике американской политической жизни, как о воплощенной идее (парадигме) гражданского общества [Seligman A. The Idea of Civil Society. -- N.-Y.: Free Press, 1992. -- P. 90]. Фактически ничто, кроме стремления сохранить свободу, не интегрирует людей в гражданское общество. Общество же, как уникальное политическое целое, не имеет корпоративного сознания [Spencer H. The Man Versus the State. -- Indianapolis: 1981. -- P. 397]. Как писал В.Перес-Диас, гражданская ассоциация не имеет никакой общей цели, кроме универсальных правил, которые должны соблюдаться всеми во имя осуществления индивидуальных устремлений [Peres-Dias V. The Possibility of Civil Society: Traditions, Character and Challenges // Civil Society. -- Cambridge: Polity Press, 1995. -- P. 81]. Уже для шотландских моралистов времен А.Фергюсона быть гражданином означало уважать чувства других [Bryant C. Civil Nation, Civil Society, Civil Religion // Civil Society. -- Cambridge: Polity Press, 1995. -- P. 143]. Эволюция же этого качества привела к тому, что защищая индивидуальность, гражданское общество оказалось в оппозиции государству [Hall J. In Search of Civil Society // Civil Society. -- Cambridge: Polity Press, 1995. -- P. 2]. В конечном счете, писал Д.Холл, гражданское общество стало сложным политическим комплексом, балансом согласия и конфликта, многообразия и консенсуса, равно необходимых для жизни современного человека [там же. -- С. 6]. Для Ф.Оксборна гражданское общество есть основанный на многообразии территориальных и функциональных гражданских объединений социальный феномен, значимость которого определяется мирным сосуществованием таких объединений, при сохранении ими способности сопротивляться подчинению государству [Oxborn P. From Controlled Inclusion to Coerced Marginalization: the Struggle for Civil Society in Latin America // Civil Society. -- Cambridge: Polity Press, 1995. -- P. 251--252]. Э.Гелнер писал, что гражданское общество является воплощением неправительственных институций, достаточно сильных для того, чтобы противостоять государству, одновременно не препятствуя ему сохранять мир и выступать арбитром между различными интересами [там же. -- С. 32]. Как говорил С.Гринер, зрелое гражданское общество предстает перед нами в нескольких измерениях, важнейшими из которых являются индивидуализм, privacy, рынок, плюрализм и классовая структура [Griner S. Civil Society and its Future // Civil Society. -- Cambridge: Polity Press, 1995. -- P. 304]. Его характерными чертами выступают также верховенство права, организация негосударственных групп и интересов, а также плюрализм, препятствующий любому доминированию [Mouzelis N. Modernity, Late Development and Civil Society // Civil Society. -- Cambridge: Polity Press, 1995. -- P. 226]. Недаром, как писал Д.Талмон, свобода находится в безопасности лишь там, где политика не считается важнейшим делом, и где существует много уровней неполитической частной и коллективной активности [Talmon J. The Origins of Totalitarian Democracy. -- London: Secker and Warburg, 1952. -- P. 47]. Естественно, что в последнем случае успех гражданского общества будет зависеть от человеческой способности строить отношения на взаимном доверии, независимо от того, хорошо ли индивиды знают друг друга [Krygier M. The Constitution of the Heart // Journal of the American Bar Foundation. Vol. 20, 1995, Nb. 4, Fall 1995. -- P. 1051]. Гражданское общество структурно, как структурно и государство. Однако структурность гражданского общества имеет не вертикальный, как у государства, а горизонтальный характер. В этом смысле гражданское общество есть "свободная синергия", "анархия в смысле положительном", порядок, спонтанно вытекающий из внутренней солидарности людей, работающих, не нуждаясь в понуждении и управлении [Соловьев В. Сочинения. В 2-х т. Т. 2. -- М.: Правда, 1989. -- С. 331]. Логично, что при этом гражданское общество имеет отличные от государства приоритеты. Если для государства ими остаются безопасность, стабильность, порядок и защищенность, то для гражданского общества приоритетами становятся свобода, инициатива, динамизм и спонтанная активность. Такое разграничение приоритетов имеет глубокий характер, структурно предопределяя содержание большинства органических конституций. Если, как писал В.Амелин, государственная власть служит прозаической цели поддержания общественного порядка, то развитие общества инициируется другими социальными механизмами. Поэтому попытка коммунистического режима синтезировать власть и механизмы развития была, по его мнению, не только исторической, но и логической ошибкой [Амелин В. Власть как общественное явление. -- Социально-политические науки, 1991, # 2. -- С. 15]. В этом же смысле Б.Курашвили писал о системе социального оппонирования аппарату управления в СССР [Курашвили Б. Борьба с бюрократизмом. -- М.: Знание, 1988. -- С. 55]; А.Мигранян -- об институтах публичной власти, могущих контролировать деятельность бюрократии; В.Гулиев -- о дифференциации самоуправления и государственного управления при социализме [Гулиев В. К новому качеству советской политической системы. -- Советское государство и право, 1987, # 9. -- С. 7]. Отчетливое разграничение государственного и общественного, как известно, признавалось также в марксизме, противопоставлявшем государству свободу и разнообразие частной жизни, не подавляемых и не поглощаемых единством государственной воли. Органические конституции возникли в эпоху доминирования частной собственности, личной инициативы и предприимчивости, поэтому конституция и капитализм связаны не столько хронологически, сколько структурно. Конституционализм есть исторический феномен, возникший одновременно с буржуазным убеждением, что благосостояние и справедливость достижимы лишь с помощью самоуправления и рынка [Grimm P. Constitutional Reform in Germany after the Revolution 1989 // Constitutional Policy and Change in Europe. -- N.-Y.: Oxford University Press, 1995. -- P. 143--144]. Конституция, таким образом, есть общественное, а не государственное новое право. Цель последнего -- охранить буржуазно-капиталистические приоритеты, главным из которых является свобода. Иными словами, конституция оформляет отделение благосостояния и справедливости от политической власти, регулируя отношения между государством и обществом таким образом, чтобы государство, оставаясь гарантом гражданских прав, перестало политически контролировать общество [Grimm P. Constitutional Reform in Germany after the Revolution 1989 // Constitutional Policy and Change in Europe. -- N.-Y.: Oxford University Press, 1995. -- P. 144]. Закономерно, что при капитализме правовые системы начинают трансформироваться из однополярных в биполярные, где один полюс -- новое право (право гражданского общества), или конституции, ориентируется на свободу, а второй полюс -- текущее законодательство (право государства) сохраняет преданность "умиротворенности настоящего". Как говорит один из героев романа О.Хаксли: "Во времена Джефферсона было много американцев, умевших самостоятельно заработать на жизнь. Экономически они были независимы. И от правительства, и от большого бизнеса. Вот потому-то появилась наша конституция" [Хаксли О. И после многих воен. -- М.: Изд-во Сабашниковых, 1992. -- С. 116]. Достижение ограниченного правления является общим для всех конституционных систем, писали Ч.Сандерс и У.Прусс [Saunders C. Evolution and Adaptation of the British Constitutional System // Constitutional Policy and Change in Europe. -- N.-Y.: Oxford University Press, 1995. -- P. 69; Preuss U. Patterns of Constitutional Evolution end Change in Eastern Europe // Ibid. -- P. 95], поэтому конституционализм следует интерпретировать как систему ограничений правительственной власти (Д.Коммерс и В.Томсон [Kommers D., Thompson W. Fundamentals in the Liberal Constitutional Tradition // Ibid. -- P. 23, 24]). Недаром у Д.Талмона главным объектом конституции является защита граждан от собственного правительства и его оскорблений. Конституции действительно не создаются, а вырастают. Их появление знаменует зрелость гражданского общества. Поэтому принятие нефиктивной конституции является как бы актом политической инициации народа. Оно означает, что общественность не только осознала свое принципиальное верховенство над государственной властью, но и начала отождествлять себя с главным фактором политического прогресса [Речицький В. Констiтуцiя як форма осягнення влади. -- Вiснiк АН Укра"ни' 1993' # 11. -- С. 3--12; Речицький В. Конституцiйний процес в Укра"нi як феномен демократi". -- Вiсник Академi" правових наук Укра"ни' 1995' # 4. -- С. 125--134]. Конституция -- это гарант свободы гражданского общества, выражением которой является известная мера позитивного хаоса, неупорядоченности в экономике (рынок), политике (демократия), частной жизни (privacy). Она есть не столько упорядочиватель гражданской жизни, сколько гарант против ее чрезмерной организованности и регламентированности. Посредством конституции, писал Т.Грин, мы предостерегаем себя против "заботливого, как бабушка, правительства" а также против избыточного законодательства [Green T. Liberal Legislation and Freedom of Contract // Liberty. -- N.-Y.: Oxford University Press, 1991. -- P. 25]. Иными словами, органическая конституция создается для того, чтобы защитить людей от государства, а вовсе не для того, чтобы помочь государству в защите граждан друг от друга [Kommers D., Thompson W. Fundamentals in the Liberal Constitutional Tradition // Constitutional Policy and Change in Europe. -- N.-Y.: Oxford University Press, 1995. -- P. 35]. В рамках социалистической политико-правовой парадигмы общественность привыкла относиться к конституции, как к юридическому генералу (качество "генеральности" конституций анализировалась в науке) -- отчасти благодушному, иногда склонному к социальной демагогии, но в своей основе всегда пирамидальному, авторитарно самовластному. Конечно, конституция, как и любой органический закон, должна противостоять юридическому и политическому произволу. Но более важным в ней является то, что она предохраняет гражданское общество против чрезмерной зарегулированости, идейного обскурантизма, посягательств живой власти на власть деперсонифицированную и абстрактную. В поисках оснований реального конституционализма мы должны отречься от представлений о конституции, как о правовой структуре коллективизма. Органически составленные конституции отрицают утилитарные аргументы в пользу вторжения государства и его агентов в сферу частной жизни, индивидуальных прав и свобод человека. Уже с момента своего возникновения органическими были лишь конституции, служившие "уздечкой для вождей" (П.-А.Гольбах) [Гольбах П.-А. Избранные произведения. В 2-х т. Т. 1. -- М.: Мысль, 1963. -- С. 286] и возвышавшие авторитет права над политическим авторитетом власти (Ж.-Ж.Руссо) [Руссо Ж.-Ж. Трактаты. -- М.: Наука, 1969. -- С. 117]. Именно такое возвышение абстрактного авторитета права над персонифицированной властью проявилось в Великой хартии. Тот факт, что органические конституции отстаивают приоритет свободы, включая риск "сверхдемократии" и хаоса, а не стабильности на основе доктрины порядка, хорошо иллюстрируется примерами. Уже Великая хартия беспокоится о "свободе", "неприкосновенности прав", "неотъемлемых вольностях" церкви; использует понятия "свободного человека", который не может быть "задержан, заключен, лишен имущества, поставлен вне закона", "изгнан" или "разорен" иначе, как "по законному приговору равных ему и по закону страны" (ст. 39) [Дурденевский В. Иностранное конституционное право в избранных образцах. -- Л.: Государственное издательство, 1925. -- С. 138]. Свобода выезда из Англии и возвращения в нее гарантируется при этом не только купцам (ст. 41), но и "каждому" (ст. 42). В свою очередь, английский Билль о правах 1689 г. запрещает судам ограничивать "свободу слова, суждений и актов в парламенте" (ст. 9), провозглашает принцип свободных выборов, разрешая отстаивать "указанное и изложенное здесь ограничение... короны всеми своими силами, не щадя ни жизни, ни состояния, против всех лиц, которые предпримут что-либо сему противное" [там же. -- С. 145]. Декларация независимости США 1776 г. провозглашает, что "когда какая-либо форма правления становится губительной для этой цели (обеспечения жизни, свободы и стремления к счастью -- В.Р.), то народ вправе изменить или уничтожить ее, и установить новое правительство, основав его на таких принципах и организуя его власть в такой форме, которые покажутся наиболее пригодными для осуществления его безопасности и счастья" [там же. -- С. 164]. О структурной оппозиции свободы и регламентированности гражданской жизни косвенно упоминается в ?Х поправке к Конституции США (1791 г.): "Перечисление в Конституции определенных прав не должно толковаться как отрицание или умаление других прав, сохраняемых народом" [Конституции буржуазных государств. -- М.: Юридическая литература, 1982. -- С. 34]. Французская Декларация прав человека и гражданина 1789 г. также провозглашает, что: "Целью всякого политического объединения является сохранение естественных и непогашаемых прав человека. Эти права суть свобода, собственность, безопасность и сопротивление угнетению" (ст.2). Свобода обретает конституционное толкование в ст. 4 Декларации как возможность "делать все, что не вредит другому: таким образом, осуществление естественных прав каждого человека имеет лишь те пределы, которые обеспечивают другим членам общества пользование этими же правами" [Дурденевский В. Иностранное конституционное право в избранных образцах. -- Л.: Государственное издательство, 1925. -- С. 179]. Цель защиты свободы и гражданских прав содержится в "Общих положениях" (ст. 2) Конституции Швейцарской Конфедерации 1874 г. Конституция ФРГ 1949 г. в ст. 20, абзац 4 (включен в 1968 г.) утверждает: "Все немцы имеют право оказывать сопротивление всякому, кто попытается устранить этот (демократический -- В.Р.) строй, если иные средства не могут быть использованы" [Конституции буржуазных государств. -- М.: Юридическая литература, 1982. -- С. 178]. Характерно, что и "право народа иметь и носить оружие", которое "не подлежит ограничениям" и записано во ?? поправке к Конституции США (1791 г.) предусмотрено не для индивидуальной самозащиты, а для "безопасности свободного государства" [там же. -- С. 32], то есть по политическим соображениям. Следует заметить, что обеспечение конституциями режима свободы, в которой в первую очередь заинтересовано гражданское общество, не противоречит, с точки зрения общественных интересов, стабильности и порядку. По наблюдениям В.Эбенстайна, идея выгодности свободы для обеспечения целей порядка, высказанная в 1690 г. Д.Локком, была затем неоднократно подтверждена, так что правление народа в соединении с правом на восстание против тиранического правительства стало... "наилучшим препятствием восстанию". Англо-американская конституционная система, основанная на праве народа на восстание, оказалась, как известно, наиболее стабильной в мире. Данный тезис в общей форме сохраняет справедливость и по отношению к таким государствам как Голландия, Швейцария, страны Скандинавии [Эбенстайн В. Государь, государство, общество. -- Знание-сила, 1990, # 9. -- С. 73]. Конституции посттоталитарных стран учли эти факторы весьма самобытно. Хотя в Украине, как и ранее в России, отказались от конституционного закрепления глав, специально посвященных гражданскому обществу, попытки к этому в их официальных конституционных проектах достаточно симптоматичны. Что же касается действующих посттоталитарных конституций, то в Преамбуле Конституции Молдовы 1994 г. перечислены общегражданские, а не государственные приоритеты: правовое государство, гражданский мир, демократия, достоинство человека, права и свободы, свободное развитие личности, справедливость и политический плюрализм. [Не разделены интересы гражданского общества и государства в Конституции Узбекистана 1991 г., где в ст. 16 записано, что статьи Конституции не могут толковаться в ущерб Республике Узбекистан, а осуществление прав и свобод граждан не должно нарушать прав и свобод государства (ст. 20).] В ч. 4 ст. 29 Конституции Словацкой Республики 1992 г. записано, что политические партии и политические движения, а также союзы, товарищества или иные организации отделены от государства [Конституц?" нових держав "вропи та Аз?". -- Ки"в: УПФ , 1996. -- C. 454]. Аналогичное правило записано в ч. 4 ст. 20 Конституции Чешской Республики 1992 г. [там же. -- C. 516]. Конституция Литовской Республики 1992 г. содержит главу III под названием "Общество и государство", а Конституция Эстонской Республики 1992 г. -- главу "Народ". В ст. 54 Конституции Казахстана 1993 г. запрещается незаконное вмешательство государственных органов и должностных лиц в деятельность общественных объединений, равно как запрещается возложение на общественные объединения функций государственных органов [Новые конституции стран СНГ и Балтии. -- М.: Манускрипт, 1994. -- С. 230]. Эта же Конституция содержит два раздела под названиями: "Общество, основы его устройства" (раздел II) и "Государство, его органы и институты" (раздел III). В ст. 4 Конституции Болгарии 1991 г. утверждается, что Республика создает условия для свободного развития гражданского общества, а в Преамбуле Конституции Литвы 1992 г. -- что Основной Закон принимается в результате стремления литовского народа к открытому, справедливому, гармоничному гражданскому обществу [Конституц?" нових держав "вропи та Аз?". -- Ки"в: УПФ, 1996. -- С. 119--122; Новые конституции стран СНГ и Балтии. -- М.: Манускрипт, 1994. -- С. 542]. В Преамбуле Конституции Кыргызстана 1993 г. говорится, что Конституция принимается в результате стремления народа утвердить себя в качестве свободного и демократического гражданского общества [Новые конституции стран СНГ и Балтии. -- М.: Манускрипт, 1994. -- С. 258]. Уважение к принципам гражданского общества провозглашено в Преамбуле Конституции Чехии 1992 г. [Конституц?" нових держав "вропи та Аз?". -- Ки"в: УПФ, 1996. -- С. 486]. Вместе с тем, как писал В.Шаповал, новые конституции посттоталитарных стран остались, в своей основе, законами государства, а не гражданского общества [Шаповал В. Передмова // Конституц?" нових держав "вропи та Аз?". -- Ки"в: УПФ, 1996. -- С. YIII]. Будучи ориентированными на конкретный образ будущего, они предстают перед нами жестко программными документами для грядущих поколений, что весьма отличает их от либеральных конституций, обычно устанавливающих лишь процедурные правила, и не предопределяющих характера и целей политики [Jonston N. Constitutionalism: Procedural Limits and Political Ends // Constitutional Policy and Change in Europe. -- N.-Y.: Oxford University Press, 1995. -- P. 56--57]. В итоге, следует, видимо, признать, что в основе структурного деления политической активности на общественную и государственную лежит фундаментальное различие между суверенитетом народа и государственным суверенитетом. Помимо же этого стратегического противостояния политическую активность можно структурировать и по иным основаниям. Например, у Э.Фромма порядок, власть, подчинение и иерархия заложены в патриархальном начале, а структуры кровной связи -- в матриархальном. Впрочем, еще В.Розанов отмечал, что в противостоянии своем наибольший самец и наибольшая самка суть: 1) герой, деятель; 2) семьянинка, домоводка [Розанов В. Уединенное. Т. 2. -- М.: Правда, 1990. -- С. 33]. Л.Ионин различал политическую активность по случаю, по совместительству и по профессии [Ионин Л. Политика как профессия. -- Новое время, 1989, # 8. -- С. 26], а Э.Мюррей выделял политическую активность лояльных граждан, последователей, реформаторов, восстающих, отклоняющихся, обособленных и созерцателей [Murray E. The Symbolic Uses of Politics. -- Chicago: University of Illinois Press, 1985. -- P. 202]. К.Поппер писал о применении политической теории души Платона в изучении иерархических структур психоанализа, а В.Штерн -- о способах разрядки политической энергии личности "в себя" и "из себя" [Штерн В. Персоналистическая психология // История зарубежной психологии (30-60-е годы ХХ в.). Тексты. -- М.: Изд-во МГУ, 1986. -- С. 193]. Очевидно, что по отношению к status quo любой страны политическая активность может иметь консервативный, реформаторский, революционный и контрреволюционный характер. Тирании, как известно, свергаются диктатурами, а демократии предполагают мирный способ замены негодных правлений, хотя обычно в истории редко считаются со старением общественных институтов и весьма нечасто предпринимают серьезные попытки к их обновлению [Гарднер Д. К самообновляющемуся обществу. -- Америка, 1971, май. -- С. 49]. По-видимому, плодотворными также в структурном смысле могли бы стать идея о сочетании в человеке потребности в "целом мире" с потребностью в "камерном сообществе семейного типа" [Джордж Ф. После 1984. Перспективы лучшего мира // Новая технократическая волна на Западе. -- М.: Прогресс, 1986. -- С. 358], равно как и идея о том, что лишь динамичные условия стимулируют социальный прогресс [Беме Г., Даале В., Крон В. Сциентификация техники // Философия техники в ФРГ. -- М.: Прогресс, 1989. -- С. 121]. Ценным в структурном аспекте выглядит требование Ф.Хайека не переносить правил административно управляемой микросреды на макросреду гражданского общества, ибо структурные особенности малых коллективов не воспроизводятся на этом уровне. Кроме того, как писал М.Маринович, посттоталитарный парламент не способен совершить рывок из тоталитарного общества в демократическое, ибо в его структурной трансформации заложен не столько политический прагматизм, сколько таинство народного духа [Маринович М. Укра"на на полях святого письма. -- Дрогобич: 1991. -- С. 99]. Так или иначе, но общий анализ показывает, что в конституциях посттоталитарных стран должны быть закреплены гарантии обеспечения прогресса на основе максимально быстрых преобразований, однако не таких, которые бы дорого обошлись простым людям. Они должны предполагать как традиционный контроль гражданского общества за государством, так и специальный контроль за государственной деятельностью со стороны специальных общественных институций, прежде всего, правозащитных организаций. Применительно к Украине речь, например, могла бы идти о таких общественных институтах как "Международная амнистия", "Зеленый мир", "Международное общество прав человека", "Мемориал", "Украинско-Американское бюро защиты прав человека" и др. Как сказал однажды П.Друкер, с течением времени будущие общества очеловечатся, возможно, настолько, что из "кристаллических" превратятся в "жидкостные". Эта широкая метафора требует пояснения, однако общий смысл универсальных структурных изменений современной политической активности она схватывает. Комментарии (2)Последние темы:
Гражданское общество и конституция (структура политического) |
Все темы
|
| [email protected] | Московский Либертариум, 1994-2020 | |