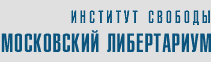Принятая в условиях социальной борьбы и
отражающая конфликты интересов разных
общественных групп программа реформ в
России вызывала и будет еще в течение
долгого времени вызывать споры и
столкновения мнений. Одна из трудностей
идеологических дискуссий о смысле и
основном направлении реформ состоит в
определении механизма оценки их
результатов. Логика российских
реформаторов в части объяснения
катастрофических для большей части
реального сектора российской экономики
последствий реформ состоит в том, что они
явно или неявно предполагают, что
альтернативы выбранному пути перехода к
рыночной экономике у России не было.
Непоследовательность и промедления в
шоковой терапии, с их точки зрения, должны
были неизменно приводить к возврату той
системы, которую они предполагали
разрушить. Важно отметить, что свою позицию
они обосновывали не только теоретическими
положениями, активно защищаемыми основными
международными финансовыми институтами, но
и эмпирическим опытом ряда стран,
проводившим разгосударствление
собственности в 80-х годах, прежде всего,
развитых (Великобритания, США, Франция) и
развивающихся (главным образом
латиноамериканских) стран.
Их оппоненты неизменно возвращали им их
же собственные аргументы в виде примеров
большого числа стран, свидетельствовавших
о возможности проведения политики
разгосударствления со значительным
приростом, а не падением физического объема
производства в обрабатывающей
промышленности и сельском хозяйстве.
Эмпирические аргументы обеих сторон тем не
менее не сопровождались, как правило,
детальными исследованиями реальных
приватизационных процессов и этапов
становления рынка корпоративных ценных
бумаг, между тем именно компаративистская
проблематика становится основным полем
научных дискуссий, где те или иные
разновидности политики реформирования
экономики, должны проверяться эмпирически.
В силу того, что интересы различных слоев
и групп в обществе не совпадают, а идеология
лишь обслуживает такие разные интересы,
системы ценностей и, как следствие, системы
оценок даже такого базового понятия как "экономическая
эффективность" не схожи- от понимания ее
как синонима понятия прибыльность в
денежном выражении в конкретных условиях
до понимания ее как максимальной
утилизации существующих материальных
ресурсов в целях достижения максимального
потребления. В этих условиях непросто
договориться о какой-либо системе
критериев для оценки успехов или неудач
реформ. На наш взгляд, одним из возможных
способов выработки оценочных суждений
теоретико-методологического характера
могут быть сопоставления с другими
странами, сталкивающимися с проблемами,
аналогичными российским, и проводящими
схожие реформы.
Автор считает своим долгом выразить свою
благодарность людям, сделавшим возможным
публикацию настоящей работы: Игорю
Оболенскому, Наташе Анищенковой и Оле
!!!, взявшим на себя львиную долю
расходов по финансированию исследования и
предоставившим автору во время работы над
книгой огромную организационную поддержку;
Борису Ротенштейну, Анатолию Семенцову и
Владимиру Владимировичу Максимову, в
беседах с которыми оттачивались многие
мысли книги; профессору Александру
Владимировичу Бузгалину, взявшему на
себяогромный труд по просмотру и
редактированию первого варианта рукописи,
профессору Кайсыну Азретовичу Хубиеву, чьи
усилия по исправлению косноязычия автора
не могут быть переоценены, всему коллективу
кафедры политической экономии
экономического факультета МГУ, чья
дружеская поддержка и справедливая критика
были незаменимы в подготовке книги, и
своему отцу Закерии Шагизановичу Гафурову,
без которого эта книга вряд ли была бы
вообще возможной.