| 27 август 2020 | |
 |
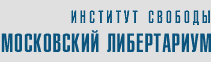 |
|
|
|||||||
| Пользователь: [login] |
настройки |
карта сайта |
статистика |
|
|||||||
|
перевод под ред. Вадима Новикова Настоящая работа послужила также основой публичной почетной лекции, прочитанной в школе права университета Джорджа Мейсона. 25.02.2009, Рэнди И. Барнетт
Я благодарю за ценные комментарии Эйнера Элхойга, Франка Михельмана, Дон Нунциато, Ларри Солума, а также участников семинаров юридических факультетов университета Джорджа Вашингтона, Бостонского университета, Университета Чикаго, Университета Вилланова, Университета Нотр Дам и Гарвардской школы права. Настоящая работа послужила также основой публичной почетной лекции, прочитанной в школе права университета Джорджа Мейсона. Вопрос о легитимности конституции заключается в том, чтобы установить, почему повиновение конституционно правомерному закону является обязательным. Законодательная система легитимна, если существует prima facie обязанность повиновения установленным ею законам. Повиновение не может быть оправдано ни «согласием управляемых», ни «получаемыми взамен выгодами». Скорее, prima facie обязанность повиновения может существовать либо а) при наличии действительного всеобщего согласия с властью законодателя, либо, в отсутствие такового, б) при установлении законов процедурами, которые обеспечивают их справедливость. При отсутствии всеобщего согласия писаная конституция должна рассматриваться как один из элементов законодательной системы. Данная конституция является легитимной в той мере, в которой она устанавливает законодательные процедуры, способные действенно гарантировать справедливость принимаемых законов, даже если эта конституция принята без согласия народа. Такой подход к легитимности конституции не основан на какой-либо конкретной теории справедливости; скорее он представляет собой нечто среднее между концепцией справедливости и концепции правомерности. Введение Многие теоретики конституционного права высказывают мнения о том, что такое Конституция. У некоторых есть свои теории толкования Конституции или — что встречается чаще — теории того, как ее не следует трактовать. Однако лишь немногие из ученых задумываются о легитимности Конституции. Это прискорбно, ведь если Конституция нелегитимна, нет смысла говорить о ее трактовках. Если же она легитимна, то хорошо бы выяснить основания этой легитимности, прежде чем приступить к ее толкованию. Из этого следует, что нельзя принять предположение о легитимности Конституции как данное. Если не задаваться вопросом легитимности конституции как таковой, невозможно понять, следует ли ей подчиняться, надо ли ее совершенствовать, или же стоит ее попросту игнорировать. При том, что каждый год появляется все больше публикаций о Конституции Соединенных Штатов, удивительно практическое отсутствие среди них работ, систематически исследующих проблему легитимности. Возможно, причина в отношении к Конституции как чему-то священному, и поэтому для многих любое серьезное сомнение в ее легитимности означало бы признание ее несовершенства. Как если бы мы опасались того, что за кулисами никого нет. Но есть и иное объяснение. Несмотря на замалчивание проблемы легитимности и на личные убеждения, в работах многих ученых, пишущих о Конституции, неявно присутствует мысль, что ее буква не является обязательной к исполнению. Стряхнуть с себя конституционные оковы можно, указывая на нелегитимность оригинальной Конституции и повторяя, что мы не можем позволить, чтобы нас, живых, хватали мертвые, или же злоупотребляя упоминаниями о многочисленных грехах самих создателей Конституции. Риторические приемы, делающие нелегитимной Конституцию, как она написана, направлены на то, чтобы освободиться от ее ограничений. Но любопытнее и знаменательнее всего, что лишь немногие из упомянутых исследователей решаются признать это. Что за этим кроется? Возможно, им нужны законопослушные граждане, а если Конституция будет окончательно делегитимизирована, с какой стати прислушиваться к мнению доктора юриспруденции, философа или политолога? В этом смысле неясно, зачем повиноваться указаниям мужчин и женщин в черных мантиях, не считая конечно того, что в противном случае можно угодить за решетку и оказаться в весьма ненадежном положении? Вот так, исподволь подтачивая легитимность Конституции, при внешнем благоговейном соблюдении ее формы, специалист по конституционному праву (или судья) может превратиться в закулисного деятеля, чего вероятно хотел бы для себя любой ученый. Не обращайте внимания на этого книжного червя, слово имеет сама Великая и Ужасная Конституция! Это явный обман публики. Намекайте, но не произносите вслух, что Конституция нелегитимна, и значит мы не обязаны ей следовать. Можно переделывать или «интерпретировать» ее по собственному усмотрению, но раз то, что мы толкуем, является Самой Конституцией, народ будет вынужден ей следовать. Такая тактика помимо прочего позволяет ученому занять позицию морального превосходства по отношению к прошлым поколениям, при этом не принимая на себя ответственности открыто объявить лишенным авторитета документ, который те приняли и которым руководствуется правительство. В данной статье я хочу задать вопрос, которого многие боятся, и дать на него ответ: «Почему вообще следует подчиняться приказам людей, утверждающих, что власть предоставлена им Конституцией»? В части 1 я обращаюсь к наиболее распространенному объяснению легитимности конституции, а именно – что легитимность вытекает из согласия «нас, народа», жить в соответствии с настоящей конституцией. Этот довод часто называется «согласием подданных» или «народным суверенитетом», но я докажу его несостоятельность. Он несостоятелен потому, что в нем использована формула согласия, которой не соответствует ни одна конституция. Попытка опереться на недостижимый идеал не только подрывает легитимность Конституции, но и позволяет подменять ее текст собственной трактовкой. Это парадоксально, поскольку несмотря на широкий размах движения за расширение избирательных прав с момента основания государства, любое новое и улучшенное толкование Конституции также не будет легитимным на основании «согласия подданных». Далее, в части 2 я рассматриваю и отвергаю основную альтернативу «согласию подданных», а именно: выгоды, предоставляемые гражданам существующим конституционным порядком, по справедливости обязывают их к повиновению, вне зависимости от их согласия. Несмотря на то, что аргументы, связанные с согласием или получением выгод, являются несостоятельными, я утверждаю, что законы, принимаемые конституционно легитимной властью, могут являться обязывающими для граждан, то есть, влекут моральную обязанность подчинения. В части 3 я сперва показываю, как, вопреки расхожему мнению, всеобщее согласие с правлением может быть возможным и охватывать многие стороны жизни, а также — почему конституции, подобные Конституции США, не могут получить согласия по формуле «мы, народ». Чтобы быть морально обязывающей при отсутствии всеобщего согласия, конституция должна получить статус легитимной каким-то иным способом. И я поясняю далее, почему статус легитимности при отсутствии всеобщего согласия требует наложения правовых ограничений на власть правительства, каковых не потребовалось бы при наличии всеобщего согласия. Я намерен утверждать, что если в конституции предусмотрены адекватные процедуры обеспечения справедливости (отсутствия несправедливости) законов, навязанных гражданам без их согласия, такая конституция может считаться легитимной даже при отсутствии всеобщего согласия; в то время как без адекватных процедур обеспечения справедливости действующих законов, конституция останется нелегитимной, даже если с ней согласно большинство граждан. В самом деле, лишь поняв, что «согласие подданных» является фикцией, можно понять императивность удовлетворения требованиям справедливости (как бы их не трактовать) со стороны законодателей. И хотя мой тезис в отношении легитимности основан на утверждении, что «справедливость» не зависит от указов правительства или не является чем-то, что может быть установлено позитивным правом, она также не зависит от принятия конкретной концепции справедливости, которую я отстаиваю в другой работе. [См. по этой тематике [Barnett, 1998] [далее Barnett, Structure of Liberty], защищающую либеральную концепцию справедливости, основанную на определенных естественных правах личности, позволяющих различать свободу и разрешение.] Какой бы концепции справедливости вы не придерживались, если существует хоть какая-то концепция справедливости, легитимность конституции можно рассматривать как следующую из процедурных гарантий того, что законы не окажутся несправедливыми. В узком смысле тезис, который я здесь отстаиваю, касается только самой концепции легитимности конституции, а не всех тех условий, которые позволят оценить легитимность того или иного конституционного строя. Для оценки легитимности любой из законодательных систем потребуется не только процедурная концепция легитимности, но и концепция справедливости, на основании которой можно было бы оценить адекватность законотворческих процедур. Процедурная концепция легитимности, которую я здесь отстаиваю, несводима к теории справедливости, и ее следует отличать от более распространенной позиции, приписываемой обычно теоретикам «естественного права» и заключающейся в том, что несправедливый закон не является (в каком-то смысле) законом. [На самом деле, позиция сторонников теории естественного права состоит в том, что несправедливый закон — даже позитивный — не является морально обязывающим. Даже Фома Аквинский уже различал на концептуальном уровне законы справедливые и несправедливые, когда писал, что «законы, созданные человеком, либо справедливы, либо не справедливы» [Aquinas, 1952 : 233]. Вместе с тем, для Фомы Аквинского и других сторонников теории естественного права, проблема законности является не концептуальной, как для современных позитивистов, а нормативной. Только справедливый закон «имеет силу морально обязывать» [Aquinas, 1952 : 233]. Именно в силу этой «моральной обязанности» Фома Аквинский поддерживает утверждение Августина о том, что «„все, что не справедливо, по видимости не является и законом"; таким образом сила закона зависит от меры его справедливости» [Aquinas, 1952 : 227] (курсив наш).] Ниже я не ставлю знака равенства между легитимностью закона и его обоснованностью или «справедливостью» — хотя эти два понятия тесно связаны — равно как и между легитимностью и простым восприятием конкретного закона как уместного или справедливого. Я готов согласиться, что правомерно принятый закон может оказаться несправедливым даже в рамках легитимной законодательной системы. Более того, «легитимность», в моем понимании этого термина, не имеет отношения к «правомерности» [valid] данного закона, следующей из его принятия по установленной правовой процедуре. Например, Конституция указывает, что закон является правомерным, если его принимает большинство обеих палат Конгресса и подписывает президент. Я бы скорее определил развиваемую в настоящей статье концепцию легитимности как занимающую промежуточное положение между справедливостью законов и их правомерностью [validity]. Она исследует, может ли процесс, определяющий правомерность закона, гарантировать его справедливость. В моем понимании, правомерный закон может быть нелегитимным, а легитимный закон может быть несправедливым. Закон может быть «правомерным» в силу его принятия с соблюдением всех предусмотренных данным законодательством процедур, но в то же время являться «нелегитимным», если эти процедуры недостаточны, чтобы гарантировать справедливость закона. Такой закон нельзя считать морально обязывающим. Закон может быть «легитимным», поскольку он был принят с соблюдением процедур, обеспечивающих его справедливость, и все же быть «несправедливым» из-за того, что в данном конкретном случае процедуры (которые всегда несовершенны) не сработали. Такой закон будет морально обязывающим, пока его несправедливость не будет каким-либо образом доказана. [Данная в тексте квалификация следует из того, что обязанность повиновения, которую я здесь обсуждаю, является обязанностью prima facie или обязанностью, которая может быть отменена при соответствующих условиях. Я утверждаю, что если вам известно о законе только то, что он был принят с соблюдением процедурных норм, это достаточное основание ему повиноваться в системе, где существуют и действуют адекватные процедуры обеспечения справедливости. Каким образом можно опровергнуть подобное предположение по отношению к легитимной правовой системе и показать, что процедуры не сработали, и принятый закон оказался несправедливым, остается отдельным сложным вопросом, ответ на который поднимает важную и широко обсуждаемую тему гражданского неповиновения.] Я обсуждаю легитимность в нормативном залоге, и, следовательно, мой термин нужно отличать от социологического или дескриптивного его употребления. Часто, а скорее, почти всегда, при обсуждении легитимности речь идет о том, могут ли конституция, законодательный процесс или правительство восприниматься как легитимные. И хотя широкое признание легитимности может оказаться критическим для получения правовым режимом всеобщего одобрения, я все же исследую другое — каковы условия, гарантирующие такое восприятие легитимности. Однако преимущества моего подхода, в свою очередь поднимающего некоторые вопросы, становятся очевидными только в том случае, когда сталкиваешься лицом к лицу с суровыми и непреодолимыми проблемами, вытекающими из концепции легитимности, основанной на согласии подданных или народа в формулировке «мы, народ». Итак, давайте же наконец поднимем занавес и посмотрим. 1. Фикция формулировки «мы, народ...» Конституция начинается со следующих слов: «Мы, народ Соединенных Штатов, ... провозглашаем и устанавливаем настоящую Конституцию для Соединенных Штатов Америки. [Преамбула к Конституции США. (Здесь и далее цитаты из Конституции США и ее терминология приводятся по переводу В. И. Лафитского (См.: Соединенные Штаты Америки: Конституция и законодательство. Под ред. О. А. Жидкова. — М.: Прогресс, Универс, 1993.) — Прим. ред.).] И это не было риторической формулой. Эти слова означали притязание на легитимность самого документа. Притязание отцов-основателей на легитимность зиждилось не на божественном праве королей, а на праве «нас, народа» управлять собой самим. Основатели объявляли, что «народ» реализовал свои права и изъявил свое согласие на то, чтобы им управляли органы, которые были «учреждены» данным документом. Это заявление было сделано, поскольку основатели полагали, что согласие от имени «народа» было необходимо для установления легитимного правления, и что после ратификации таковое согласие будет считаться полученным. В этой части настоящей работы я подвергаю сомнению принцип, называемый иногда еще принципом «народного суверенитета», в соответствии с которым Конституция Соединенных Штатов являлась или является легитимной, поскольку была принята с согласия «нас, народа» или «с согласия управляемых». Я утверждаю, что условий, необходимых для обоснованности притязаний на согласие народа в отношении данной Конституции, не было и даже не могло никогда быть. И хотя «народ», без сомнения, может быть связан собственным согласием, необходимо, чтобы это согласие было реальным, а не фиктивным, и кроме того, единогласным, а не мажоритарным. Более того, фикция формулы «мы, народ» может на практике оказаться опасной и породить необоснованную критику легитимности Конституции. 1.1 Согласие как основание законопослушности Иногда мы исходим из того, что Конституция сама по себе обязывает либо не обязывает граждан. Но, за единственным исключением [Тринадцатая поправка запрещает частным лицам, а не только правительству, порабощать других или принуждать их к подневольной работе (Конституция США, Поправка XIII).], Конституция не имеет в виду обязывать к чему-либо граждан. На самом деле, она обязывает само правительство. Как заявил Конституционному Собранию Руфус Кинг, делегат от Массачусетса: «При образовании Обществ Конституция играла для Законодателей ту же роль, что законы для индивидов» [Madison, 1984 : 231]. И хотя Конституция является законом, это закон не в основном, а в производном смысле. [См. [Hart, 1961 : 77–96] (Харт проводит различие между «основными правилами», которые управляют индивидами, и «вторичными правилами», которые определяют порядок установления первичных правил).] Он призван выступать в качестве такового для представителей правительства, а не для частных лиц. Вопрос, таким образом, заключается не в том, обязывает ли Конституция граждан, а в том, обязаны ли граждане подчиняться приказам или законам, издаваемым чиновниками, действующими ее именем. Является ли факт принятия «закона» в соответствии с корректной конституционной процедурой достаточным для того, чтобы сделать закон морально обязывающим? Иными словами, налагает ли любой закон, принятый в соответствии с конституционными процедурами, моральную обязанность повиноваться? Или же единственной причиной законопослушности является страх перед наказанием в случае неповиновения? И хотя некоторые философы права могут возражать [См. например, [Raz, 1979 : 233] («Не существует необходимости повиновения закону. ... Не существует даже prima facie обязанности повиновения закону. ... Не существует обязанности повиновения закону даже в обществе, чья правовая система является справедливой»). (Опущено примечание в конце страницы). Я подробно отвечаю на это утверждение в работе [Barnett, 1995].], большинство граждан полагает, что если приказ получает титул «закона», это влечет за собой моральную обязанность подчинения — хотя эта обязанность и может быть в некоторых случаях снята. [Именно это философы типа Рэза называют обязанностью «prima facie», что подразумевает возникновение обязанности, коль скоро не выявлена причина, по которой эта обязанность не приложима в данном случае. [Raz, 1979 : 234–35].] Разумеется, большинство законодателей и правительственных чиновников настаивает на том, что граждане морально обязаны повиноваться закону, принятому корректной процедурой. И если общепринятое представление о «законе» таково, а система, издающая такие правовые приказания, не обладает должным институциональным качеством — каким бы оно ни было — для обоснования этого столь распространенного мнения, все сомнения в таком обществе трактуются в пользу законодателей, иными словами они окружаются неким ореолом, на который не имеют права. Таким образом, если термин «закон» подразумевает моральную обязанность подчинения, это необходимое свойство обязательности должно возникнуть прежде, чем закон получит право называться законом. Итак, законодательная система является легитимной, если она издает указания, которым граждане повинуются, сознавая моральную обязанность. Конституция является легитимной, если она создает такой тип правовой системы. Каким свойством должна обладать конституция, чтобы стать легитимной в этом смысле? Почему у граждан возникает моральная обязанность повиновения приказаниям тех, кого конституция назначает законодателями и исполнителями закона? Большая часть исследователей конституции старается уйти от обсуждения этих вопросов. В ответ на прямой вопрос большинство, скорее всего, сошлется (по крайней мере, в первую очередь) на «согласие управляемых», или, как оно иногда называется, «народный суверенитет». [См. по этой теме [Morgan, 1988] (где прослеживается развитие идеи народного суверенитета).] Весьма характерным является высказывание Майкла МакКоннела: «Представители народа имеют право управлять, коль скоро они не преступают границы своей власти, явно следующие из конституционных принципов, принятых самим народом...» [McConnell, 1997 : 1269, 1291]. Или, как выразился в своей прощальной речи Джордж Вашингтон: «Основанием нашей политической системы является право народа учреждать и изменять правление. ... Сама идея власти и права народа учреждать правление предполагает обязанность каждого индивида подчиняться учрежденному правлению» [Washington, 1973 : 169, 172] . [Считается, что этот пассаж речи Вашингтона был подготовлен Александром Гамильтоном. См. [Ellis, 2001 : 152].] В то время как Брюс Аккерман в двух объемных работах под названием «Мы, народ» яростно отрицает право законодателей на управление именем народа [Ackerman, 1991 : 184] [«Ни одна группа людей никогда не может быть пресуществлена в народ посредством правовой формы» (курсив опущен нами).], он слишком явно признает, что народ может обязать сам себя, хотя ни разу не выражает эту мысль открыто. Вместо этого, он неоднократно обращается к «решениям народа» [Ackerman, 1991 : 6], «конституционному решению именем „нас, народа"» [Ackerman, 1991 : 9], «волеизъявлению „нас, народа"» [Ackerman, 1991 : 10], «пересмотру народом» [Ackerman, 1991 : 13] и праву народа «изменить мнение» [Ackerman, 1991 : 14]. Короче, такие либералы как Аккерман, не меньше, чем консерваторы типа МакКоннела, считают «народ» способным к принятию решений, вынесению суждений, волеизъявлению и изменению «своего мнения» [Ackerman, 1991 : 14]. [Само выражение «их мнение» говорит о том, что что-то здесь не так. Если «народ» может иметь единое мнение, разве не следовало бы Аккерману сказать «его мнение»? Тогда ему пришлось бы объяснять, что именно имеет в виду данное местоимение (каждый? большинство?), а также, каким образом столь разношерстная многомиллионная армия людей может иметь единое мнение. Если же единого мнения не существует, не следовало бы ему сказать «их мнения»? Однако такое выражение ослабило бы образ единого выбора, воления и действования агента, который (является ли он одушевленным лицом?) принимает решение.] В противоположность этому в следующей части я намерен показать, что формулировка «Мы, народ» является фикцией. Я докажу, что легитимность не может быть придана конституции ни согласием индивида, ни коллективным согласием «нас, народа». Как мы убедимся, принцип «согласия управляемых» не является простым, а складывается из нескольких весьма популярных утверждений, которые следует различить и рассмотреть отдельно, чтобы убедиться, что ни одно из них не работает. Хотя всеобщее согласие, если бы таковое было возможно, могло бы служить основанием для возникновения подчинения из чувства долга, условий, необходимых для реализации согласия «нас, народа» в отношении Конституции или поправок к ней, до сих пор не существовало и вообще не может существовать. [В то время как увлеченный разбор Аккерманом тропа «мы, народ» с очевидностью ставит его работу под удар этой критики, насколько мне известно, ни в одной из двух своих новаторских книг он не отстаивает систематически нормативное допущение, что «воля народа» действительно обязывает к повиновению конкретного индивида, или что конституционно принятые законы являются обязательными для граждан. Вместо этого, он защищает свой «дуалистический» подход как наиболее подходящий при описании Американской конституционной традиции (и в этом он, скорее всего, прав). См. [Ackerman, 1991 : 13] («Мои доводы ... основаны на том, что наша Конституция никогда ... открыто не посягала на право народа пересматривать существующие верховные законы»). Ниже я обсуждаю дуалистическую концепцию конституционализма Аккермана. См. ниже раздел 1.4.] 1.2 Почему «мы, народ» — это фикция Сторонники оправдания законопослушности «согласием управляемых» должны быть в состоянии точно объяснить, каким образом и когда «мы, народ» — то есть, вы, я и все остальные — дали согласие подчиняться законам страны. Кое-кто скажет, что свое согласие на будущее подчиняться законам мы выражаем голосованием; другие станут утверждать, что проживание в стране или нежелание протестовать или требовать внесения поправок в Конституцию подразумевает согласие с ней. Все эти предположения не выдерживают критики. Давайте рассмотрим их все по очереди. 1. Влечет ли участие в голосовании согласие подчиняться законам? — Поскольку мы живем не в условиях прямой демократии, при которой каждый индивид голосует по каждому закону, было бы естественным предположить, что мы выражаем согласие подчиняться законам путем голосования за законодателей, которые будут их принимать. Аналогично тому, как мы нанимаем агента, который будет нас представлять и выражать нашу волю, когда мы с вами голосуем за представителей в законодательном собрании, разве мы не даем тем самым согласия подчиняться законам, которые они, назначенные нами представители, принимают? Возможно, все это так. Но что произойдет, если наш кандидат проиграет выборы? Как мы может считать себя представленными его оппонентом, человеком, против которого мы голосовали? Или например, человек, которого мы назначили представителем своими голосами, голосует против какого-то определенного закона. Каким образом в этом случае мы выражаем свое согласие подчиняться закону, против которого возражал наш представитель, и мы вместе с ним? В ответ нам скажут, что согласие выражается совсем не так. Решив проголосовать, мы уже выражаем согласие с результатами выборов, каковы бы они ни были. Как в игре, вы согласны играть по правилам, даже если проигрываете. Люди часто соглашаются на арбитраж, при котором, как им известно, можно и выиграть, и проиграть. По тем же основаниям, разве соглашаясь участвовать в избирательных «играх» или избирательном процессе, мы не подтверждаем свое согласие принять последствия в случае проигрыша своего кандидата? Однако, если своим согласием мы сообщаем всем: «Я согласен принять любой результат», то это сообщение не вытекает с очевидностью из участия в голосовании. Что если для кого-то голосование является не согласием принять любой результат выборов, а формой «самозащиты» — то есть человек голосует потому, что надеется повлиять, пусть и не кардинально, на результат и сделать его более благоприятным, чем в ином случае. Например, кое-кто может проголосовать за кандидата, потому что он обещает снизить налоги, а не в знак согласия со всем, что этот кандидат может сделать, находясь у власти. Избиратель надеется, что этот кандидат дает шанс на снижение, а не увеличение налогов. Избиратель хочет сохранить свои доходы. По тем же причинам люди голосуют за сторонников и противников права на аборт. Делать из результатов голосования вывод, что тем самым избиратели выражают согласие с любым результатом выборов или согласие подчиниться принятым избранными законодателями законам, было бы серьезным искажением смысла голосования. И все же, пытаясь своим голосом повлиять на результат голосования, разве человек не соглашается участвовать в процессе, и разве его выбор не влечет за собой обязательства принять и последствия голосования? В конце концов, если выигрывает кандидат одной из сторон, от проигравшей стороны ждут подчинения и принятия результата выборов. Если проигравшие откажутся принимать результаты выборов, вся система перестанет работать. Пусть так, но даже если избиратели победившей стороны предполагают, что проигравшая сторона должна согласиться с результатами выборов, это еще не означает, что сами голосовавшие дали согласие подчиняться законам. Избиратели могут голосовать просто для того, чтобы сократить до минимума негативное воздействие законодательного процесса на собственные интересы. Голосование по такой причине ни в коей мере не подразумевает согласия с любыми последствиями. Таким образом, акт голосования сам по себе не позволяет понять, соглашается ли избиратель принять результаты выборов (и все, что за этим последует) или же голосует по другим основаниям. И, хотя я не согласен с тем, что голосование в качестве самозащиты означает принятие результатов выборов, предположим ради дискуссии, что это так. В таком случае, как можно говорить о согласии тех, кто вовсе воздерживается от голосования? Они никоим образом не выражали согласия принять любые итоги выборов, равно как и согласия подчиниться решениям «представителей», которых они не выдвигали. С заявленной точки зрения такие граждане не связывали себя обязательством подчиняться закону своим согласием. Подождите, — скажете вы. Ведь возможность участвовать в голосовании была предоставлена всем, так что тем, кто решил не голосовать, грех жаловаться. Сравните это с судебным заседанием — ответчику дано право воспользоваться услугами адвоката, который может представлять его в суде. Если он откажется от своего права и решит защищать себя сам или хранить молчание, ему не на кого жаловаться в случае осуждения — если конечно ему было дано право на защиту. Так и с голосованием — мы вольны голосовать, и если сами от этого отказываемся, нам не на что жаловаться при любом исходе выборов. В конце концов, нам была дана возможность повлиять на исход, но мы добровольно отказались от нее. Аналогия с правом преступника на адвоката явно неуместна. Не потому ответчика признают виновным, что он согласился быть признанным виновным. Суд признает его виновным, если приходит к выводу, что он виновен. Нет никаких оснований ожидать или требовать согласия обвиняемого с обвинением в судебном процессе. Некоторые обвиняемые согласны, но большинство все же нет. Мы не можем этого знать наверняка, но нам нет до этого дела, поскольку их согласие не имеет никакого значения. В противоположность этому, аргумент, что мы обязаны подчиняться законам, поскольку нам было дано право голосовать, основан на согласии — согласии управляемых. Непонятно почему, давая возможность выразить согласие, скажем, участием в голосовании, следует делать вывод о согласии тех, кто оказался от такого участия. Этот момент становится понятнее, если принять, что согласие можно рассматривать как выражение готовности принять последствия только в том случае, если существует возможность выражения несогласия. Так же, как например, я могу сказать, что согласен, я могу сказать и что я не согласен. Я не говорю сейчас о вероятности такого отказа или обстоятельствах, которые не оставляют человеку иного выбора, кроме как согласиться. Нет, я просто настаиваю на том, что слово «нет» означает нечто противоположное слову «да», и значит, чтобы согласие имело какой-то смысл, должна быть возможность сказать «я не согласен» вместо «я согласен». Посмотрите, куда заводит нас этот спор, если считать, что согласие подчиняться законам основано на участии в голосовании.
Неправда ли, странная форма согласия без возможности отказаться. Этот псевдовыбор лучше всего описан поговоркой «Орел — я выиграл, решка — ты проиграл». «Орел» — ты согласен, «решка» — ты согласен, «не бросал монету» — угадайте, что теперь? — Правильно, все равно согласен. Это не настоящее согласие. 2. Подразумевает ли проживание в стране согласие с законами? — Этот аргумент заставляет многих думать, что я сражаюсь с ветряными мельницами. Никто и не утверждает, что согласие может следовать из участия в голосовании или из наличия права голоса. [С этим я, кстати, не согласен. Многие высказывают подобные доводы — или, по крайней мере, верят в них — до тех пор, пока им не указываешь на трудности аргументации. Разумеется, нельзя привести какие-либо цитаты, ибо подобного рода споры редко происходят в печати.] Скорее, мне скажут, человек соглашается подчиняться законам страны, решив, что хочет в ней жить. Так же, как вы соглашаетесь в разумных пределах подчиняться требованиям своего работодателя, согласившись работать на него, требованиям своего арендодателя, согласившись снимать у него квартиру, решениям рефери, согласившись играть в баскетбол за свою лигу — вы обязаны подчиняться законам правительства. Вы можете в любой момент уйти с работы, найти себе другую квартиру, уйти из баскетбольной команды, но коль скоро вы предпочитаете этого не делать, вы принимаете на себя обязательство признавать чью-то власть и ведете себя соответственно. Это верно и в случае проживания в стране — вы можете эмигрировать, если хотите, но коль скоро вы этого не делаете, вы выражаете молчаливое согласие с законами Соединенных Штатов. Так сказать, «не нравится — убирайся», вот и все согласие. И хотя было бы справедливым признать наличие молчаливого согласия подчиниться работодателю, начальнику спортивной команды, билетеру в кино и т. п., все не так просто с утверждением, что человек выражает согласие с законами Соединенных Штатов только тем, что не эмигрирует из страны. Разумеется, никто и никогда не спрашивал моего согласия, равно как и вашего. В отличие от иммигрантов, произносящих при принятии гражданства развернутую клятву, уроженцы Соединенных Штатов не дают и не должны давать клятвы, обязывающей их соблюдать законы. Задумайтесь на минуту, что стоит за этим требованием. Предположим кто-то откажется принимать такую клятву. Значит для него, в таком случае, законы Соединенных Штатов не будут являться обязательными к исполнению? Или его придется выдворять из страны? В последнем случае подразумевается, что лицо, требующее принятия клятвы, обладает властью выдворять несогласных из страны, но ведь его власть как раз и ставится под вопрос, поскольку она-то и основана на нашем согласии. Все это напоминает порочный круг. Всегда сложно объяснить в чем порочность порочного круга (и при этом не впасть в ту же ошибку), поэтому просто задумайтесь: предположим я прихожу и требую от вас подписания обязательств подчиняться моим требованиям, а вы отказываетесь. После этого я предъявляю права на ваше жилище и приказываю вам покинуть страну. Вы совершенно справедливо скажете, что это абсурд. Я не имею права требовать от вас принятия клятвы, и вы вольны игнорировать меня. Ваш отказ от принятия клятвы никоим образом не может обязать вас покинуть страну. Вы совершенно правы. Поскольку вы не давали согласия наделять меня властными полномочиями, у меня нет права требовать от вас принять клятвк или эмигрировать. Вздумай существующая система законодательной власти требовать от нас принятия клятвы, она поставила бы себя именно в такое положение. Если принимая клятву мы соглашаемся наделить законодателей властью, значит, они должны уже располагать властью, чтобы требовать от нас принятия клятвы. Если же законодатели уже обладают властными полномочиями требовать клятвы, то сама клятва становится ненужной в качестве инструмента наделения властью. Все, что относится к клятве, верно и для случая с проживанием на территории страны. Совершенно неправомерно объяснять власть законодателей так называемым молчаливым согласием с ней всех тех, кто проживает на территории страны и не хочет оттуда уезжать. Решение остаться в стране может означать молчаливое согласие только если предположить, что законодатели изначально имеют право требовать от вас повиновения законам или отъезда из страны. Однако, именно это право и должно быть им дано нашим с вами молчаливым согласием. Итак, проблема с выведением согласия из отказа покинуть страну заключается в необходимости для законодателей уже иметь власть над вами, чтобы требовать от вас этого. Ваше решение остаться, следовательно, никак не может служить основанием для их претензий на власть. И власть, если она существует, не имеет отношения к вашему согласию. Ли Брильмайер назвал это возражением против того, чтобы положение выводилось само из себя [Brilmayer, 1989 : 74]. Брильмайер точно определяет это возражение как опровергающее территориальные юрисдикции, претендующие на то, чтобы быть основанными на согласии, а не как возражение, относящееся к внетерриториальным юрисдикциям, основанным на действительном согласии: Эти возражения против того, чтобы положение выводилось само из себя, в отношении договорного формирования властного органа не всегда возникают в отношении создаваемых сторонами управляющих органов, не имеющих территориального статуса. Например, два человека могут договориться о том, что в случае спора они обратятся к третьему лицу, чье решение будет обязательным к исполнению. Хотя власть судьи в этом случае установлена по договору, она не является территориальной. В таких случаях обязательство подчинения возникает только в отношении участников договора. Юрисдикция власти не определяется территориальными принципами [Brilmayer, 1989 : 16]. Таким образом, это возражение не будет иметь отношения к законодательным юрисдикциям, основанным на реальном всеобщем согласии, как это описано в части 3. Концепция «не нравится — убирайся» должна быть отвергнута не только потому, что основана на замкнутых в порочный круг положениях. Как я уже отмечал, заявление «я согласен» является нашим сообщением для других. Выражение «я согласен» является совершенно недвусмысленным (коль скоро существует и возможность выражения несогласия). В любом контексте вряд ли можно найти какие-то иные способы интерпретировать эти слова. В то время как проживание человека в стране поддается в высшей степени неоднозначным трактовкам. Это может означать ваше согласие подчиняться принятым Конгрессом законам; или это может говорить о том, что у вас хорошая работа и в другой стране вам такой не найти; или же о том, что вы просто не хотите покидать своих родных и близких. Было бы совершенно необоснованным пытаться сделать из простого факта проживания в стране вывод о согласии гражданина со всеми законами данного государства. Перед Холокостом многие евреи остались в Германии, хотя у них была возможность бежать. Они предпочли остаться по разным причинам. Что бы не стояло за их решением, мы едва ли можем заключить, что своим решением остаться они выразили молчаливое согласие на принятие Нюрнбергских законов. Я не хочу излишне акцентировать этот аргумент. Основания власти Третьего Рейха были подорваны различными обстоятельствами, что делает его совершенно непохожим на Соединенные Штаты в этом отношении. Я только хочу подчеркнуть, что просто оставшись в стране, где они родились, в то время как им была дана возможность уехать, евреи Германии никоим образом не заслужили упрека в том, что они тем самым дали согласие на принятые в этой стране законы. Мы также не давали подобного согласия. И, возвращаясь к возражению Брильмайера, нацисты не могли претендовать на власть с согласия евреев Германии, чтобы поставить их перед выбором. 3. Связаны ли мы согласием отцов-основателей? — Те, кто стремится найти обоснование обязанности подчинения в народном суверенитете или «согласии управляемых», ни за что не хотят признать свое поражение по этому пункту. Они начинают указывать на то, что правительство Соединенных Штатов появилось раньше, чем все живущие в этой стране сегодня. На этом основании оно имеет права требовать согласия подчиниться своим законам или выдворения несогласных. Вспомните цитату из Майкла МакКоннела, начинающуюся следующими словами: «Представители народа имеют право управлять, коль скоро они не преступают границы своей власти, явно следующие из конституционных принципов, принятых самим народом...» [McConnell, 1997 : 1291]. Источником власти «представителей народа» является не наше с вами согласие, утверждают сторонники этой точки зрения, а согласие от имени «нас, народа», данное в период учреждения этого правления. Именно этим согласием было установлено и сделано легитимным это правление, и именно это согласие дает правительству право требовать от вас «подчиниться или уйти». Например, если вы родились и выросли в чужом доме, вам приходится или подчиняться правилам, установленным хозяевами, или съехать. Если вы предпочитаете остаться, это подразумевает ваше молчаливое согласие жить по установленным правилам. Более того, сторонник теории народного суверенитета может привести и иной довод в пользу того, что принцип «согласия управляемых» никогда и не подразумевал нашего с вами согласия подчиняться законам, коль скоро мы голосуем или продолжаем жить в этой стране. Настоящим источником согласия было изначальное согласие «нас, народа» на учреждение правления, и с тех самых пор, коль скоро народ не делал успешных попыток свергнуть правительство, можно считать, что он согласен на такое правление. Именно неспособность свергнуть правительство и лежит в основе нашего согласия подчиняться его законам. Оба довода ссылаются на легитимное происхождение Конституции, основывая эту легитимность на согласии «нас, народа», выраженном в 1789 г. Именно это согласие делает Конституцию изначально легитимной, а затем позволяет возложить на самих граждан выбор — подчиниться, эмигрировать или успешно свергнуть правительство. Такая сдвижка аргументации с необходимости нашего с вами согласия на согласие народа во время основания государства дает нам право задать вопрос, кто именно соглашался на создание данного правительства, что именно уполномочило их связать этим обязательством себя и свое потомство. Мы сразу убедимся, что эти вопросы приводят нас к тем же самым проблемам, с которыми мы сталкивались, обсуждая участие в выборах, только эрой раньше. Мы все еще говорим о том же ненастоящем согласии, но не нашем собственном, а других людей. Конституция не была одобрена единогласно, ни даже большинством тогдашнего населения страны. Ее одобрило большинство делегатов собраний каждого штата. Эти делегаты были избраны большинством принимавших участие в выборах. Означало ли участие в выборах делегатов, голосовавших против Конституции (а значит и тех, кто голосовал за этих диссидентов) принятие обязательства подчиниться закону? А как же большинство населения, которому не было позволено выдвинуть ни одного делегата? И хотя в различных округах требования к участникам голосования были разными, ни в одном штате в выборах не могли принимать участие женщины, дети, чужестранцы, сервенты и рабы. Более того, во многих округах существовал имущественный ценз, ограничивающий избирательные права белых мужчин и свободных чернокожих мужчин. Может ли абсолютное меньшинство населения, пусть и называющее себя «мы, народ», связать обязательствами кого-то, кроме самих себя? И даже если считать, что они каким-то образом обязали к подчинению всех жителей того времени, как их согласие может связать их потомков? [Нельзя ручаться за достоверность этого утверждения, но в преамбуле к Конституции ее основатели не претендовали на то, чтобы связать обязательством потомков, скорее они хотели сохранить для них «благо свободы». Преамбула к Конституции США.] Выше был предложен ответ на этот вопрос — отказ от сопротивления или попыток свержения правительства и означает продолжающееся молчаливое согласие подчиняться законным приказам системы правления, созданной основателями. Но, согласитесь, было бы несправедливо требовать подобных действий от несогласных. Разве согласие следует из подчинения приказам заведомо более сильного в силу простой неспособности физически отвечать на угрозу насилия в случае неподчинения? Действительно, физическое сопротивление может считаться свидетельством отсутствия согласия, но цена физического сопротивления довольно высока, и никак нельзя уравнивать пассивное непротивление и согласие. То же самое, хоть не в той же мере, относится к отказу эмигрировать. Цена эмиграции, учитывая, скольким приходится жертвовать, просто слишком высока, чтобы из отказа эмигрировать можно было вывести согласие подчиняться законам страны проживания. Более того, неспособность достаточного количества людей собраться и опрокинуть правительство ничего не говорит нам о согласии индивида подчиняться приказам правительства, и следовательно, ничего не говорит о том, почему законы должны быть обязательными для индивидов. Спорить с этим означало бы утверждать, что большинство своей неспособностью к протесту может обязать меньшинство к подчинению. На это сторонник теории народного суверенитета может ответить, что если Конституция предусматривает менее дорогостоящие механизмы внесения изменений — например, механизм поправок — то скорее нежелание вносить эти поправки, а не нежелание действенно протестовать против правительства, говорит о молчаливом согласии с ним и его законами. И все же этот ответ явно недостаточен. Вне зависимости от того, требуется ли для внесения поправки абсолютное большинство обеих палат Конгресса и одобрение тремя четвертями законодательных собраний штатов, или простое большинство голосов избирателей, неспособность принять поправку с помощью этого механизма едва ли может означать чье-либо согласие с существующим правительством. Из отказа одобрить поправку к Конституции не следует также и то, что те, кто поддерживал отклоненную поправку, или те, кто выступал против нее, согласны с действующим режимом правления. Так, наконец, мы возвращаемся вновь к проблеме выведения согласия меньшинства или индивидов из согласия большинства. А согласие устроено совсем не так. Теперь мы подходим вплотную к главной причине, по которой ни один из приведенных выше аргументов в пользу легитимности, основанной на согласии, не работает: чтобы согласие стало обязывающим для индивида, у него должен быть выбор между согласием и несогласием, кроме того необходимо, чтобы этот индивид лично выражал свое согласие. И за исключением детей, недееспособных или доверителей, которые осознанно соглашаются быть представленными, ни один человек не может дать согласие за другого. Этот факт создает непреодолимое препятствие для любых теорий легитимности, в которых принцип «согласия управляемых» не основан на всеобщем согласии. Как писал Джеффри Рейман: В самом процессе выборов нет ничего, что само по себе несет легитимность. Более того, избирательный процесс ставит, а не решает вопросы. ... Нормы, которые устанавливаются в результате выборов, навязываются несогласному меньшинству против его воли. И в таком случае выборы не только не являются основанием для признания легитимности, но и поднимают вопрос о правах этого несогласного меньшинства. Почему правила, одобренные большинством против воли меньшинства (и, возможно, препятствующие выражению его воли), должны быть обязательными для этого меньшинства? Почему бы не рассматривать такое проявление власти как тиранию большинства над меньшинством? [Reiman, 1988 : 127] . [Как он пишет: «Эти вопросы не только указывают на ошибку принятия ответственности избирателей за независимый источник легитимности, они также предполагают, что было бы ошибкой считать ответственность избирателей и конституционные гарантии альтернативным источником легитимности. Скорее, Конституция с ее гарантиями ограничения возможности большинства применить силу отвечает на вопрос о том, почему решения, за которые проголосовало большинство, должны являться обязывающими для несогласного меньшинства». [Reiman, 1988 : 127]] Попытка основания легитимности конституции на мажоритарном, а не на всеобщем согласии, является моральным эквивалентом квадратуры круга. 4. Почему примирение не равно согласию. — Принцип молчаливого согласия является весьма живучим. И вот почему: разве нельзя сказать, что в какой-то мере все «признают» нынешнее правительство Соединенных Штатов легитимным? Разве не ничтожно число тех, кто считает его нелегитимным? В противном случае правительство потеряло бы свою стабильность, не правда ли? Если внешнее примирение с действующим режимом является эмпирическим фактом, и к тому же фактом, существенным для функционирования этого режима, разве не может режим заявлять о молчаливом согласии населения и претендовать на вытекающую из этого согласия легитимность? Признавать наличие молчаливого согласия на основании всеобщего примирения с режимом означает смешивать «правило признания» с необходимыми условиями легитимности конституции. Правило признания — это способ для населения узнать, что наличествует действующий правовой режим. [См. [Hart, 1961 : 92–93] (где утверждается, что правило признания является «правилом убедительного указания на основные правила обязательства»). Заметьте, что Харт здесь обращается к «правилам обязательства». Харт также утверждал, что если правило признания соблюдено, граждане будут не просто вынуждены или «обязаны» подчиниться закону, они также будут связаны «обязанностью» или долгом повиновения. [Hart, 1961 : 84–85]. Я отрицаю это по причинам, которые уже приводились. См. [Barnett, 1998 : 17–23].] Однако, знание того, что то или иное приказание является «законом», не свидетельствует о признании его обязательности, а знание о «существовании» некоторого правового режима при общем его признании ничего не говорит о том, является ли повиновение законам этого режима моральной обязанностью. Разумеется, общее признание в одной из форм является необходимым условием установления конституции и ее дальнейшего существования в качестве позитивного права. Как отмечает Фредерик Шауэр, это признание есть то, что отличает Конституцию Соединенных Штатов от любого другого документа, озаглавленного «Конституция Соединенных Штатов», который могу составить хоть я сам, ратифицировав свое творение в кругу друзей. [«Только одна из этих „Конституций" будет той самой Конституцией Соединенных Штатов, поскольку только один из этих документов был признан, социально и политически, народом Соединенных Штатов как его Конституция» [Schauer, 1994 : 45, 52].] Ратификация плебисцитом или съездом представителей может явиться действенным правилом признания конституции населением и может помочь в достижении общего признания конституционного режима. Само по себе такое признание, каким бы образом оно не было достигнуто, — а на него может претендовать каждое существующее правительство или проект позитивного права — далеко не равнозначно всеобщему согласию. Суть вопроса заключается не в том, существует ли некоторая правовая система, а в том насколько данный существующий конституционный режим легитимен. И только если он легитимен, эта система может издавать такие законы для своих граждан, которые будут морально обязывать индивидов. Если признание, на которое может претендовать любое действующее правительство, уравнять со всеобщим согласием, то даже самые деспотические режимы потребуют для себя статуса заслуживающих обязательного повиновения, коль скоро им удается существовать. Это с очевидностью абсурдно. В то время как некоторая степень признания может оказаться необходимой для придания приказанию статуса позитивного закона, для установления моральной обязанности повиновения такому приказанию требуется нечто большее, чем простое признание. Джеймс Мэдисон уловил природу этой моральной проблемы, отметив в 1784 году, что не ратифицированная Конституция Вирджинии «основана только лишь на признании», что составляет весьма «шаткое основание». [Мэдисон полагал что при «ратификации народом» Конституция Вирджинии будет «более стабильной и защищенной от сомнений и обвинений, под бременем которых она сегодня существует» [Madison, 1973 : 75, 78].] Действительное согласие со стороны индивида может установить для него моральное обязательство, но один индивид не может дать согласия за другого, поэтому всеобщего согласия, со всеми допущениями, не может существовать и никогда не существовало. [И хотя согласия на что-либо подобное Конституции получить невозможно, далее в настоящей работе я поясняю, почему, вопреки расхожему мнению, всеобщее согласие на повиновение другим управляющим структурам вполне достижимо и часто встречается. См. ниже раздел 2.1.] В широко распространенном утверждении, что «молчаливое» согласие является источником обязанности подчинения законам, содержится немалая доля иронии. Многие из тех, кто защищает это притязание, ни за что не согласятся распространить такую худосочную версию согласия в качестве правила, например, на покупку в кредит телевизора или отказ от ответственности за причинение вреда. В этих обстоятельствах они потребуют утвержденного подписью «сознательного» согласия, которое встречается редко, если вообще встречается. Они потребуют наличия «полной информации» обо всем, на что дается согласие (или о чем написан отказ), помимо наличия разнообразных в равной степени привлекательных альтернативных решений, прежде чем согласятся считать, что настоящий контракт, например, на покупку музыкального центра может иметь юридическую силу, поскольку покупатель действительно вступил в контрактные отношения на основе своего согласия. Если же контракт не удовлетворяет таким условиям, он будет признан «фиктивным» или «навязанным». [Примеры этой точки зрения слишком многочисленны, чтобы нуждаться в цитировании. См. например [Braucher, 1990 : 697, 713; Linzer, 1988 : 217–20].] И вместе с тем, часто те же самые люди просят нас согласиться с утверждением, что просто оставаясь в городе, где мы родились, или не уезжая из своей страны, мы даем тем самым свое согласие повиноваться любым распоряжениям, издаваемым действующим режимом. А согласие большинства почему-то должно иметь силу связывать обязательством не только членов этого самого большинства, но также и меньшинство, и будущие поколения. Проблема легитимности, рассматриваемая здесь, состоит в том, чтобы решить, являются ли приказы действующего режима морально обязательными для его граждан. Если проблема легитимности поднимается только при наличии действующей правовой системы, и не может существовать правовой системы без некоторого признания граждан, в таком случае признание можно рассматривать как необходимое, но не достаточное условие легитимности. По тому же принципу, если сознание легитимности системы необходимо для признания ее гражданами, все, что способствует сознанию этого, может также рассматриваться как необходимое условие легитимности. Тем не менее, включение таким образом признания в концепцию легитимности нисколько не изменяет моего основного тезиса: чтобы быть легитимным при отсутствии действительного согласия, существующая правовая система должна представить гарантии того, что законы, которые она устанавливает, являются не только необходимыми, но и уместными. [Я заимствую этот критерий из самой Конституции и объясню ниже, что именно я под ним подразумеваю. См. ниже раздел 2.3.2.] Признания, как бы оно ни было достигнуто, недостаточно для обеспечения таких гарантий. И хотя признание может быть необходимым для принятия указаний правовой системы в качестве позитивного права, оно не эквивалентно действительному согласию и не является его адекватной заменой. 1.3 Опасность фикции выражения «мы, народ...» Бывают фикции безвредные, бывают даже полезные. Как показал Эдмунд Морган, фикция народного суверенитета возникла в качестве противовеса фикции божественного права королей. [См. по этой теме [Morgan, 1988 : 17–77].] Если король получал свою власть от Бога, то члены палаты представителей получали такую власть от народа. Как ни парадоксально это звучит, но фикция божественной власти королей использовалась для ограничения королевской власти. Во-первых, эта формулировка использовалась для оспаривания любых намерений короля, недостойных безупречного существа. «Божественная сущность, принятая смертными (или навязанная им), может ограничивать больше, чем повиновение. В самом деле, приписывание королю божественной сущности всегда мотивировалось отчасти желанием ограничить его проявлениями власти, достойными божества» [Morgan, 1988 : 21]. Во-вторых, божественная сущность короля не распространяется ни на кого, кроме него самого, и в особенности на министров, которые могли быть не в ладах с палатой представителей. «Король был божественным и неподотчетным, но те, кому он поручал действовать от своего имени, не разделяли ни его божественной природы, ни той неподотчетности, которую эта природа предполагала. Для палаты представителей агенты короля были его подданными; и если они действовали от имени короля, они делали это на свой страх и риск» [Morgan, 1988 : 33]. Точно так же фикция власти, получающей свою легитимность от народа, может быть использована для ее ограничения. В самом деле, «непосредственной целью смены фикции стала потребность усилить не власть народа, а власть его представителей» [Morgan, 1988 : 58]. Однако сразу возникла новая проблема: «При получении власти фиктивным народом, реальные люди, живущие в местных сообществах, обнаружили, что их традиционные права и свободы находятся под угрозой нарушения со стороны представительного органа, который признавал над собой власть только фиктивного народа» [Morgan, 1988 : 53]. Без некоторого ограничения «народный суверенитет будет представлять еще большую опасность не только чаяниям, но и самим правам и свободам реальных людей, чем когда-либо могла представлять божественная власть короля» [Morgan, 1988 : 82]. Реакция англичан на эту угрозу принимала различные формы и развивалась в ходе затяжной борьбы. [См. по этой теме [Morgan, 1988 : 55–121].] Позднее, в Соединенных Штатах, после едва не кончившихся катастрофой экспериментов с установлением законодательной власти, не ограниченной монархией, было установлено ограничение в форме Конституции, не только для законодательной власти, но и для самого фиктивного народа. Те, кто разрабатывал и принимал Конституцию, лучше других понимали то, о чем мы позабыли: власть законодательного большинства вкупе с фикцией формулировки «мы, народ» может таить в себе угрозу. Несмотря на теоретическую приверженность «народному суверенитету», к моменту написания Конституции ее создатели были уже твердо убеждены, что власть большинства или демократия в чистом виде не так уж хороша. Как объясняет Джек Ракоув, ко времени ее принятия было принято считать, что «большинство заслуживало не столько права на власть, сколько права на защиту от власти, не столько права на законотворчество для проведения своих интересов, сколько на защиту от законов, которые отражали бы чаяния привилегированного класса» [Rakove, 1997 : 233]. [Обсуждение Ракоувом «отражения представителями» с очевидностью показывает, что создатели Конституции отрицали, или, по крайней мере, смягчали принцип соревновательности республиканского, или народного, правления, возникшего в различных штатах после революции. См. [Rakove, 1997 : 203–43].] Настаивающие на принятии новой конституции имели опыт жизни при системах правления, в которых доминировали мощные однопалатные законодательные собрания, исполнительная власть была слаба, а судебная система зависима — все это их совершенно не устраивало. В результате получилось то, что Мэдисон назвал проблемой крамолы. В своем эссе Федералист N 10 он писал: «Под крамолой, или крамольным сообществом, я разумею некое число граждан — независимо от того, составляет ли оно большую или меньшую часть целого, — которые объединены и охвачены общим увлечением или интересом, противным правам других граждан или постоянным и совокупным интересам всего общества» [Federalist, 1961 : 78] (Джеймс Мэдисон). Мэдисон, очевидно, лучше многих своих современников понимал, что большинство представляет собой не меньшую угрозу правам народа, чем коррумпированное меньшинство или отдельный узурпатор. Опасность деспотии кроется в том же, в чем заключена реальная власть правительства. Реальная власть наших правительств зависит от большинства общества, и стало быть посягательств на права частных лиц следует ожидать не со стороны правительственных актов, принятых вопреки воле избирателей, а со стороны таких действий, в которых правительство является лишь инструментом в руках большинства избирателей. [Письмо Джеймса Мэдисона Томасу Джефферсону (17 окт., 1788), в [Madison, 1867 : 421, 425].] Когда власть попадает в руки большинства, действующего через своих представителей, интересы большинства становятся более серьезным источником опасности как для меньшинства, так и для общего блага, чем это было при других режимах. Против такой серьезной опасности следовало надежно защититься. С этой целью, основатели разработали новую схему, в соответствии с которой электорат «народа», голосуя на выборах, будет осуществлять не законодательную власть, а право «контролировать» законодателей. «Мы, народ» не будем править непосредственно; вместо этого электорат, отражающий права и интересы народа, получит право действенно «контролировать» тех, кто издает законы для народа. [Заметьте, что хотя разговоры о правлении «народа» являются в целом фикцией, разговоры о навязывании законов народу или о нарушении неотъемлемых прав человека не обязательно фиктивны.] Точно так же правительства штатов получат право «контролировать» федеральные законодательные собрания посредством сенаторов, избираемых законодательными собраниями штатов. Эта новаторская и даже изощренная схема многоуровневых контролирующих инстанций, сдержек и противовесов находилась где-то посредине между властью «демократического» большинства и властью «аристократического» меньшинства. За прошедшие 200 лет мы несколько отошли от концепции «народного суверенитета», при которой народ посредством избирательного права эффективно контролирует проявления власти правительства, сместившись в сторону фикции «народного суверенитета», при котором демократическое большинство именно правит. Многие уже не воспринимают больше Конгресс как институт, которому поручено исполнение некоторых важнейших задач, как группу избранных мужчин и женщин, которые являются слугами народа и контролируются им. Вместо этого Конгресс предстает самим воплощением «нас, народа». При господстве теории «народного суверенитета» законодательное собрание кажется персонифицированным народом, которому поручено в полной мере осуществлять власть суверенного народа. ]Конгресс предстает самим воплощением «нас, народа». При господстве теории «народного суверенитета» законодательное собрание кажется персонифицированным народом, которому поручено в полной мере осуществлять власть суверенного народа. При этом многие прибегают к лозунгу «мы являемся правительством» или «правительство — это мы» (хотя чаще мне приходилось такое слышать во времена моей молодости, до Вьетнама и Уотергейта). Эта точка зрения на правительство наделяет законодателей огромной властью поступать по своему усмотрению, при условии, что они набирают достаточно голосов. Поскольку, если «мы являемся правительством», мы естественно должны быть согласны со всем, что это правительство делает. Фикция народного суверенитета, таким образом, становится опасной, когда законодательные собрания воспринимаются как буквальное воплощение самого народа. Поскольку «народ» может дать «согласие» на отчуждение любых свобод или прав — кроме абстрактных неотчуждаемых прав — законодательные собрания, подменяющие собой народ, могут ограничить практически любые права и свободы, оправдывая это народным согласием. Фикция власти народа, в противоположность осуществлению народом контроля за правителями, позволяет законодателям найти оправдание практически любым своим действиям в собственных интересах. И это, в свою очередь, позволяет как большинству, так и меньшинству электората захватывать контроль и осуществлять власть в законодательной палате в ущерб совокупным правам других граждан. 1.4 Способы уменьшения опасности: дуалистическая демократия Аккермана Брюс Аккерман называет управление, при котором законодательное собрание подменяет собой «народ», «монистической демократией», при которой «демократия требует предоставления полной законодательной власти победителям последних выборов. ... [и] всякий контроль за действиями победителей объявляется заранее недемократичным» [Ackerman, 1991 : 8]. В противоположность этому, Аккерман оспаривает положение о том, что «победивший в честных и открытых выборах имеет право на управление именем народа» [Ackerman, 1991 : 9]. Более того, он проводит различие между волей народа и действиями политиков [Ackerman, 1991 : 10]. Аккерман постулирует идею «дуалистической» конституции, в которой обычные правомерно принятые законы не смешиваются с «законодательством высшего порядка», «представляющим конституционный выбор именем народа» [Ackerman, 1991 : 9]. Этот термин относится лишь к законотворческим инициативам, которые «вырабатываются в отчаянной борьбе» [Ackerman, 1991 : 10], призванной открыть глубокий диалог между лидерами и массами в рамках демократической структуры, борьбе, приводящей к широкому народному согласию на изменение существующего положения вещей» [Ackerman, 1991 : 19]. [Обратите внимание на роль «народного согласия».] Дуализм Аккермана — серьезный и решительный шаг вперед по сравнению со все еще превалирующей концепцией народного суверенитета. Если законодательная власть отделена от «нас, народа», опасность этой фикции значительно снижается. Процесс систематического контроля за действиями законодательных органов уже не рассматривается как нарушение прав или «контрмажоритарная проблема». [См. [Bickel, 1962 : 16–23] (где отмечается роль правосудия в контроле за политическим законотворчеством); см. по этой теме [Friedman, 1998] (где рассматривается история вызовов независимости правосудия).] Более того, дуализм в значительной мере помог описать и понять изменения конституционной доктрины с течением времени. И все же в одном из своих положений Аккерман претендует на то, что ему удалось выдвинуть «нормативный довод» [Ackerman, 1998 : 6], основанный на императиве получения «сознательного согласия» «нас, народа». [См. [Ackerman, 1998 : 6] (где описывается, как дуализм «не позволяет политической элите подрывать завоевания народа ... и мобилизует их твердую поддержку, дабы не допустить демократического пересмотра фундаментальных принципов»).] При этом он вовсе не считает, что ему удалось обосновать необходимость повиновения индивидов конституционным законам. Такой вопрос не поднимался и не обсуждался в тех двух из его работ, о которых здесь идет речь. Однако, аргументы, которые я здесь привожу, свидетельствуют о том, что дуалистическая теория конституционализма Аккермана в любом случае не дает на них ответа. Несмотря на то, что Аккерман не признает реализации воли народа в обыденном законотворчестве, создание законов высшего порядка, по его мнению, претендует на то, чтобы считаться волеизъявлением «нас, народа». Аккерман, не задумываясь, свободно рассуждает о «принципах законотворчества высшего порядка, утвержденного народом в ходе редких удачных вмешательств в конституционную деятельность» [Ackerman, 1991 : 21] и о «фундаментальных принципах, ... утвержденных народом» [Ackerman, 1991 : 21]. Но все это представляет собой не меньшую фикцию и потому никак не может оправдать необходимость законопослушности граждан. И хотя под словом «народ» имеется в виду нечто реально существующее — 250 миллионов или около того граждан Соединенных Штатов, каждый из которых обладает правами — народ как целое никогда не выражает своего мнения и никогда ничего не утверждает в этом качестве. Только какая-то часть народа, большинство или меньшинство, голосует за или против чего-либо, и даже те, кто поддерживает какие-либо конституционные изменения и теоретически может связать себя обязательством (в чем я не вполне уверен), не могут своими голосами обязать к чему-либо голосовавших против и воздержавшихся. Согласие, как мы могли убедиться, устроено совершенно иначе. Аккерман определяет свою теорию как по преимуществу дескриптивную (несмотря на пафос процитированных отрывков), и, вероятно, по этой причине он не пытается разобраться с фиктивностью правления «нас, народа». Это приводит к тому, что нормативный принцип легитимности конституции — то есть вопрос о том, что может привести к возникновению у индивидов обязанности соблюдать законы — не ставится в его теории конституционного дуализма. Яркий образ преображающего воздействия «законотворчества высшего порядка» заставляет меня завершить первую часть моей работы весьма важной оговоркой. До сих пор я утверждал только, что обязанность подчинения законам не может основываться на согласии управляемых, если это согласие не является единодушным, а также, что с очевидностью ни одна правовая система не может претендовать на получение такого согласия. Я не утверждаю, что принятие конституции (или законов) народным голосованием или договором является злом. Вполне может быть, что такого рода ратификация весьма действенна, поскольку она увеличивает вероятность того, что нечто, делающее конституцию легитимной, действительно существует. Более того, такие процедуры принятия законов могут действенно гарантировать общее признание, являющееся обязательным условием существования любого функционирующего правового строя, вне зависимости от того, легитимен он или нет. Я всего лишь оспариваю широко распространенное утверждение о том, что благодаря народному суверенитету или согласию управляемых, «мы, народ» гипотетически морально обязаны повиноваться всем законам, принятым в соответствии с конституцией. И далее, поскольку всеобщее согласие является недостижимым идеалом, на практике «согласие управляемых» сводится к согласию большинства законодателей, избираемых большинством принимавших участие в голосовании. Таким образом, фикция «мы, народ», неправомерно притязающая на воплощение согласия со всем, что принимается законодательными органами в качестве законов, серьезным образом подрывает права и свободы всех и каждого из тех, кто и составляет народ. 2. Сомнительные альтернативы «нам, народу...» В конечном счете, единственным основанием вывода обязанности повиновения законам из согласия является получение такого согласия. Ничто, кроме единодушного согласия, не может связать обязательством того, кто не согласен. Признающие это положение занимают одну из двух позиций. Как мы могли убедиться выше, некоторые, например, Рэз, утверждают, что не существует prima facie или презюмируемой обязанности повиноваться закону только на основании того, что это закон. [См. [Raz, 1979 : 233].] И хотя такую позицию можно обосновать, она неприемлема для режимов, в которых сомнения толкуются в пользу законодателей и широко распространено убеждение в необходимости законопослушности. Другие сторонники теории народного суверенитета отказываются от концепции народного суверенитета и начинают утверждать, что законодательная власть действительно основана не на «согласии управляемых», а на чем-то другом. Что же представляет из себя это «что-то другое»? 2.1 Честная игра: обязывает ли нас получение выгод к законопослушности? Одним из таких аргументов выступает утверждение, что законы обязательны к исполнению не в силу согласия народа, а потому что народ, принимающий выгоды от существующей правовой системы, обязан повиноваться ее законам. Таким образом, не согласие, а именно получение выгоды является обязывающим фактором. Эта теория, иногда называемая «принципом честной игры» [Ранняя теория правового обязательства Джона Ролза основывалась на «обязательстве честной игры». И хотя внешне она напоминает аргументацию принципа получения выгоды, на деле она основана «на принятии и намерении в будущем принимать привилегии, включенные в справедливую схему сотрудничества, определяемую конституцией» См. [Raz, 1979 : 233] (курсив наш). Таким образом, эта аргументация не основана исключительно на принятии выгоды. «Важным условием обязательства является справедливость конституции и соответствия ей в целом всей правовой системы. Таким образом, обязательство повиновения ... несправедливому закону поставлено в сильную зависимость от наличия справедливой конституции» [Raz, 1979 : 233]. Это делает структуру старой теории Ролза похожей на ту, что предложена в Части 3, хотя теория Ролза добавляет требование добровольного принятия выгоды, что, на мой взгляд, является лишним для оправдания обязательства prima facie повиновения законам, принятым с помощью процедур, обеспечивающих их справедливость.], широко обсуждалась философами, и я не стану подводить итоги этих дебатов. [Хороший срез академических мнений на этот счет см. в [The Duty..., 1999].] Один из наиболее действенных ответов на эту теорию дал Роберт Нозик, показав, что и эта теория фактически зиждется не на «получении» выгод, а на представлении о согласии [Nozick, 1974 : 90–95]. Если вам ни с того ни с сего вдруг приходит бандероль с ценным подарком, будете ли вы чувствовать себя должником, если не выражали согласия на получение этого подарка? Считаете ли вы себя обязанным вернуть бандероль отправителю? Большинство из нас ответят отрицательно. Точно так же, большая часть граждан не считает, что должна платить за те выгоды, которые ей навязываются кем-то против их воли. Кое-кто скажет, что соглашаясь принять подарок, вы ставите себя в положение обязанного отплатить за него. В этом есть разумеется и доля правды: принимая подарок, который, как вы знаете, послан вам с ожиданием некоего ответного действия, вы тем самым даете понять, что готовы отплатить. (Даже это не свидетельствует однозначно, что в противном случае вы обязаны вернуть подарок, а не просто выбросить его). Остается неясным, однако, возникает ли обязанность платить за непрошенные подарки, получаемые от других. Ведь мы можем получать большое наслаждение от красивой архитектуры, или можем залюбоваться привлекательным человеком, проходящим мимо, но при этом мы вовсе не рассчитываем на то, что с нас могут потребовать платы за искреннее наслаждение, которое мы при этом испытываем. Мне бы не хотелось здесь вдаваться в подробности, поскольку все те выгоды, которые мы якобы получаем в результате функционирования правовой системы — например, выгоды от общественного взаимодействия — являются на деле выгодами от которых, как ни крути, отказаться невозможно. А если невозможно отказаться от выгод, навязываемых тебе против воли, то вовсе не очевидно, что ты обязан платить за такой подарок деньгами, либо повиновением. По той же причине совершенно не очевидно, что получение «выгод» в силу проживания в конкретной юрисдикции — выгод, от которых невозможно отказаться, даже если очень захочется — обязывает индивида к повиновению законам этой системы. Если мы рассмотрим приобретаемые нами в связи с реализацией «формы сотрудничества» и якобы проистекающие из функционирования правовой системы осязаемые выгоды — как то: дороги, парки, школы и т. п. — то очень скоро обнаружится, что практически все это и так оплачивается нами же путем уплаты налогов, то есть платой, на которую никто из нас не давал согласия в полном смысле этого слова. Разве можно требовать от того, кто оплачивает из своих доходов устройство дорог, парков, школ (и неизвестно, до какой степени оплачивает), чтобы он отказался от пользования всем этим, дабы его нельзя было обвинить в добровольном принятии даров государства, и стало быть обязать не только повиноваться законам, но и чувствовать себя морально обязанным еще и платить за такие выгоды? В своем получившем широкий отклик эссе Джон Симмонс защищает принцип «честной игры» от критики со стороны Нозика, оговаривая, что речь не идет всего лишь о «получении» выгод. Более точное прочтение этого принципа подразумевает именно принятие выгод участниками определенной системы. Чтобы реально участвовать в определенной форме сотрудничества, индивид должен либо а) дать обязательство поддерживать эту систему или молчаливое согласие подчиняться правилам этой системы, либо б) играть активную роль в деятельности системы после ее учреждения. Недостаточно просто быть связанным с другими членами некоторым неопределенным образом; необходимо проявить себя и стать активным участником или одним из «инсайдеров»... [Simmons, 1999 : 107, 124–25]. Для Симмонса важность такой переформулировки, не допускающей склеивания с позицией молчаливого согласия, заключается в том, чтобы подчеркнуть, что «ни в коем случае нельзя считать, что все, получающие выгоды от формы сотрудничества, сознательно принимают получаемые выгоды» [Simmons, 1999 : 132]. Симмонс утверждает, что как и в случае со всеобщим согласием, «принятие выгод» может потенциально служить основой для обязательства повиноваться закону, но (также подобно всеобщему согласию) условия для этого едва ли достижимы в рамках современных политических структур. Если даже предположить, что, по крайней мере, большинство граждан в большинстве государств получают выгоды от работы правовых и политических государственных учреждений, насколько верным будет утверждение, что они добровольно приняли все эти блага, даже если речь идет о самых что ни на есть демократических из существующих политических обществ? Я не думаю, что такое утверждение верно [Simmons, 1999 : 136]. Симмонс трактует «принятие» как отношение, удовлетворяющее определенным требованиям. Среди прочего, следует понимать, что выгоды являются следствием вовлеченности индивида в определенную форму сотрудничества, а не раздаются «просто так» всем подряд. И мы должны, в частности, считать, что получаемые выгоды стоят того, что мы отдаем взамен их получения (со всеми обременениями), или отказа от них [Simmons, 1999 : 137]. Симмонс затем утверждает, что далеко не все индивиды именно так рассуждают и именно так относятся к получаемым выгодам. Большинство граждан, я полагаю, относятся к одной из этих двух категорий: «несогласные», которые не принимают выгод (и соответствующих им обременений) добровольно; и «несогласные», которые не считают выгоды, раздаваемые государством, продуктом формы сотрудничества [Simmons, 1999 : 137]. Все это говорит о том, что доводы, объясняющие необходимость повиновения закону «получением» или «принятием» выгод оказываются не более состоятельными, чем доводы, приводимые в пользу существования молчаливого согласия управляемых. Однако и это еще не все. Защитники теории повиновения в обмен на получение выгод могут возразить, указав на то, что доводы критиков и с той, и с другой стороны упускают важный момент. Получаемые выгоды создают основание для повиновения закону совершенно независимо от согласия на них или их принятия. И по этой причине бессмысленно возражать, что отсутствует молчаливое согласие повиноваться законам, или платить, или принимать даруемые преимущества. Давайте рассмотрим этот довод буквально и примем, что у индивида возникает моральная обязанность повиновения тому, кто решает самостоятельно, без согласия или соглашения со стороны бенефициара одарить его (насущными?) благами. Нельзя ли этот довод использовать и для оправдания правомерности рабского труда? Разве не может рабовладелец заявлять, и часто вполне правдиво, что он обеспечивает своих рабов всем необходимым: пищей, одеждой, кровом, медицинской помощью при необходимости, защитой от насилия и т. п.? Конечно, можно оспорить правдивость его заявлений, но на каком основании? На том, что пища, кров и прочее не являются «выгодами»? Вряд ли это возможно. На том основании, что данные выгоды не являются достаточными? Но как измерить достаточность? В таком случае можно ли утверждать, что граждане бедных стран не обязаны повиноваться закону, поскольку законодательные системы их стран обеспечивают их только ничтожно малыми благами? С какого момента выгоды становятся достаточно значимыми, чтобы приводить к возникновению обязательства повиноваться даже при отсутствии согласия? Состоит ли моральная проблема рабства в том лишь, что хозяева не платят рабам минимальной заработной платы? Чтобы лучше понять, почему не согласованное заранее принятие преимуществ не может являться источником возникновения обязанности повиновения, давайте рассмотрим следующий случай. Представьте себе очень щедрого хозяина, который обеспечивает своих вассалов — или домашних рабов — всем самым необходимым и даже предоставляет им определенный выбор или свободу, от которых они все же не могут отказаться. Существует ли для рабов таких щедрых хозяев моральный долг повиноваться им? В чем порочность всей этой линии защиты? Очевидным ответом будет отсутствие необходимого согласия самого раба. Если бы такое согласие раба имелось, мы вряд ли могли бы говорить о рабстве вообще — при условии, что слуга волен выйти из соглашения в любой момент. [Личный сервитут существовал наряду с рабством на протяжении почти всей истории Америки. См. [Smith, 1947 : 336] («Если не считать миграции пуритан в 1630-х гг., можно смело сказать, что не менее половины и не более двух третей белых иммигрантов, заселивших колонии, были сервами, или иммигрантами-должниками, или осужденными преступниками»). Такие виды зависимости были добровольными и все же, на мой взгляд, недопустимыми, поскольку слуга обязывался нести службу в течение ряда лет и не мог выйти из этого соглашения. Причины, по которым это также нарушает неотъемлемые права личности, приводятся в [Barnett, 1998 : 77–82]. Другие классики либерализма выступали в защиту такого «добровольного рабства» как допустимого. См. например [Nozick, 1974 : 331].] Но если согласие требуется только для того, чтобы превратить морально неприемлемое рабство в повиновение на основании долга, такое согласие не может быть фиктивным. Оно должно быть настоящим, но мы уже убедились и в том, что оно именно фиктивно, и в том, что реальное согласие при установленной Конституцией правовой системе невозможно. Ведет ли все вышесказанное к выводу, что при отсутствии действительного согласия конституционность устанавливаемого закона никогда не сможет повлечь обязанности повиновения закону? Я так не думаю. В части 3 я попытаюсь предложить альтернативный источник возникновения такой обязанности при отсутствии согласия. Однако, в настоящий момент важнее понимание того, что 1) согласие по отношению к законодательному процессу, установленному Конституцией, не только не существует, но и в принципе невозможно; и 2) раздача благ со стороны законодателей не приводит к возникновению обязанности повиноваться их приказам при отсутствии согласия. Если такая обязанность и существует, она должна быть основана на чем-то ином, а если нет иного основания, не существует и обязанности повиноваться приказаниям этих законодателей. И хотя нетрудно усмотреть необходимость согласия для превращения отношений рабства в отношения, допускаемые моралью, от внимания ускользает явно подразумеваемые тем самым прирожденные права человека. Ведь только при наличии у индивида права отказать в согласии можно вообще говорить о согласии. Такое подразумеваемое право на отказ должно предшествовать возможности возникновения обязанности повиновения, основанной на согласии. Если источником обязанности повиновения закону является согласие, значит сначала надо вести речь о правах и только потом о законе. Как мы скоро убедимся в части 3, при отсутствии согласия предсуществование всех этих изначальных, или «естественных», прав имеет важнейшие последствия для любой правовой системы, которая претендует на наличие обязанности повиновения. 2.2 Предполагаемое согласие и значение прав Некоторые теоретики-политологи отстаивают теорию «предполагаемого согласия» или такого согласия, которое дал бы любой здравомыслящий человек. [См. например [Rawls, 1999 : 11] («Выбор, который разумный человек сделал бы в гипотетической ситуации равных возможностей ... определяет принципы справедливости»).] Чтобы оценить действенность претензий на легитимность конституции, основанной на формулировке «мы, народ», нет нужды погружаться в дебри и тонкости теорий рационального выбора. Достаточно отметить, что предполагаемое согласие не является действительным. Более того, действительным согласием такие теории вовсе не интересуются. Скорее они представляют собой нормативный подход, основанный на мысленном эксперименте, ставящим цель установить, на что должен бы был согласиться человек при определенных условиях, вне зависимости от его реального согласия. Другими словами, несмотря на то, что доводы теории «предполагаемого согласия» могут говорить о некоторых общих моральных или политических принципах, они не имеют никакого отношения к реальному согласию кого-либо с чем-либо. Это означает, что предполагаемое согласие не дает оснований (с точки зрения теории согласия) игнорировать или избегать вопроса о прирожденных правах человека — если, конечно, такими правами человек наделен до формирования правовой системы. [Это принципиальный тезис работы [Barnett, 1998], где я утверждаю, что определенные фундаментальные права — а также нормы права — являются необходимыми для решения масштабных социальных проблем знания, интересов и власти. И хотя эти права предшествуют формированию правовой системы и являются, следовательно, «дополитическими», их не следует считать «досоциальными», потому что они возникают только в социальном контексте.] В правильной интерпретации обращение к доводам, основанным на предполагаемом согласии, действительно помогает нам понять, почему законодатели должны уважать прирожденные права человека, которому они пытаются навязать обязанность повиновения. Лисандер Спунер был, вероятно, первым американским теоретиком конституции, который признал, что доводы, основанные на предполагаемом согласии, «существующем только в теории» [Spooner, 1971 : 1, 153] (работы в сборнике имеют отдельную пагинацию), необходимы для понимания важности соблюдения прав индивида, поскольку едва ли можно рассчитывать на то, что кто-либо — при отсутствии выраженного и действительного согласия — откажется от своих исконных прав: «Справедливость с очевидностью является тем единственным принципом в основании формирования правительства, с которым наверняка каждый согласится» [Spooner, 1971 : 143]. [«Наши конституции претендуют на то что были установлены «народом», и в теории, «весь народ» дал согласие повиноваться правительству, которое уполномочено конституцией. Но это согласие «всего народа» существует только в теории. На деле его не существует». Cм. также [Spooner, 1971 : 225] («Вообще принятие конституции чаще всего является вопросом допущения и теории, а не действительного факта»). Все письма и работы Спунера доступны по адресу <http://www.lysanderspooner.org.>.] При невозможности действительного согласия, только правительство, защищающее права каждого, «является единственным правительством, которое следовало бы установить на основании [теоретического] согласия всех подданных; поскольку у несправедливого правительства всегда должны быть жертвы, а от жертв трудно ожидать добровольного согласия» [Spooner, 1971 : 143]. В целом, доводы, основанные на теоретическом или предполагаемом согласии недостаточны, для оправдания нарушения прирожденных прав. И более того, чтобы конституция считалась легитимной на основании предполагаемого (в отличие от действительного) согласия, нужны доказательства того, что такая конституция совместима с прирожденными правами индивида. В следующей части работы я намерен рассмотреть альтернативную концепцию легитимности конституции, которая объясняет не только каким образом законы могут морально обязать индивида при отсутствии согласия, но и почему при отсутствии согласия законодательную власть государства следует ограничивать. Более того, я фактически утверждаю, что при отсутствии единодушного согласия обязанность повиноваться законам возникает только если власть законодателей ограничена. 3. Легитимность конституции без согласия В некотором смысле сторонники принципа народного суверенитета, вероятно, хорошо сознают, что выражение реального согласия повиноваться законам, изданным в соответствии с Конституцией, невозможно. Тем не менее, они могут пытаться оспорить это положение на том основании, что, коль скоро единогласное принятие конституции невозможно в принципе, согласие большинства — это самое большее, на что можно рассчитывать, и, значит, такого согласия достаточно, чтобы объявить правительство легитимным. На это можно возразить, указав, что если речь идет о согласии, мажоритарного «согласия за неимением лучшего» все равно недостаточно. Согласие либо есть, либо его нет. Все, что не вполне согласие, таковым не является. Более того, если удастся доказать, что законодательство, основанное на всеобщем согласии не только возможно, но и действительно, то в дальнейшем нет смысла оправдывать согласие большинства необходимостью получения хоть какого-то согласия. Если всеобщее согласие из недостижимого идеала превращается в реальность, становится ясно, почему при отсутствии всеобщего согласия требование легитимности влечет за собой установление ограничений или пределов мажоритарного правления. Как я поясняю в разделе 3.1, вследствие возможности всеобщего согласия с правлением (хотя такое согласие невозможно для той формы правления, которая установлена действующей Конституцией) мажоритарное согласие нельзя оправдать необходимостью. Во-вторых, как следует из обсуждения вопроса в разделе 3.2, доводы в пользу мажоритарного согласия «за неимением лучшего» совершенно игнорируют необходимость введения ограничений власти любого органа, легитимность которого основана на таком фиктивном согласии: прирожденные права несогласных индивидов должны быть защищены. Таким образом, даже если мажоритарное правление является необходимостью, факт отсутствия реального согласия приводит к необходимости ограничения этой формы правления, в отличие от правления, основанного на реальном согласии. 3.1 Больше согласия, меньше свободы: отказ от прав Довод, который я отстаиваю в части 1, непротиворечиво предполагает возможность установления обязанности повиновения на основании согласия, если это согласие всеобщее. Одной из причин невыполнимости данного условия при нашем конституционном строе является то, что наше государство слишком велико для того, чтобы всеобщее согласие было возможно относительно чего бы то ни было. [Как вскоре станет ясно, размеры сообщества делают всеобщее согласие невозможным только если правовая юрисдикция определена географически.] Однако, представим себе аналогичную законодательную единицу намного меньшую по размерам, чем Соединенные Штаты целиком, и даже чем любой штат или город. Достижимо ли тогда всеобщее согласие? Я полагаю, да. Позвольте в общих чертах пояснить, каким образом всеобщее согласие может оказаться вполне действительным. Мои родители живут в большом частном микрорайоне, известном как Лежэ Ворлд. Когда они покупали свой нынешний дом, они дали недвусмысленно выраженное согласие также и на существующую там высокодемократичную форму правления. Лежэ Ворлд в этом отношении вполне типичная единица, хотя частные принципы правления могут различаться в разных жилых микрорайонах такого типа. Как и в большинстве других сообществ, правление микрорайона уполномочено вводить разнообразные ограничения, регулирующие правила внутреннего распорядка. Например, требуется специальное разрешение на проведение работ по расширению жилых зданий, а также на сдачу их внаем на длительные сроки. Более того, в этом микрорайоне лицам моложе 55 лет покупать дома запрещено. Я могу еще долго перечислять различные ограничивающие свободу положения, действующие на территории комплекса Лежэ Ворлд. Соглашались ли мои родители повиноваться этим правилам? Да, но не в том смысле, что они соглашались с каждым отдельным правилом по мере их принятия. Они просто явно выразили свое согласие с правилами при покупке дома, а также явно выразили свое согласие на существование управляющей структуры, которая будет вводить правила и управлять, руководствуясь ими. Они дали обязательство подчиняться издаваемым данной структурой правилам точно так же, как стороны договора недвусмысленно соглашаются на разрешение споров в частном арбитраже, если это предусмотрено одним из пунктов договора. Сообщество Лежэ Ворлд, следовательно, может похвастать реальным всеобщим согласием жителей следовать установленному распорядку. Почему этого нельзя сказать в отношении других законодательных органов? Одна из очевидных причин — нашего согласия никто не спрашивает. А было бы это уместно? Могут ли власти города, в котором я живу, потребовать моего согласия подчиняться любым принимаемым городским советом законам прежде, чем позволить мне поселиться в этом городе? Могут ли власти штата, в котором я живу, потребовать такого согласия, прежде чем разрешить мне переехать туда на жительство? Все это невозможно без непременного попадания в порочный круг власти, как это описано в первой части статьи. [См. выше раздел 1.2.2.] В отличие от города и штата, в котором я живу, владельцы Лежэ Ворлд изначально купили землю и организовали особый распорядок на этой земле, а затем продавали отдельные участки при условии, что покупатель соглашается принять структуру и принципы управления микрорайоном. Благодаря изначальному владению землей стало возможным правомерно ставить в качестве условия покупки участка согласие повиноваться законодательным структурам микрорайона. [Я прекрасно понимаю, какие серьезные философские проблемы поднимает этот абзац. Например, как природные ресурсы могли по справедливости изначально попасть в частные руки, а также какие условия необходимо создать для их справедливого отчуждения? И хотя эти темы не вполне выходят за рамки настоящей работы, было бы неуместно выделять и рассматривать их сейчас. Как бы ни решались подобные проблемы, различие остается: оправдание контроля над собственностью со стороны людей, которым право собственности досталось от прежних законных владельцев, или являющихся первыми владельцами, существенно отличается от оправдания чьих-либо притязаний на управление территорией, принадлежащей другим. Это просто еще один вариант принципа «сначала права, потом законотворчество», обсуждаемого выше. См. выше раздел 1.1; см. также ниже раздел 3.2. Подробное обсуждение вопроса законного обретения собственности см. в [Barnett, 1998 : 69–71, 153–54].] Однако изначальное владение и изначальное согласие не являются единственными отличительными с точки зрения морали чертами Лежэ Ворлд в сравнении с законодательными структурами на уровне страны, штата или города. Лежэ Ворлд и тысячи точно таких же сообществ отличает еще и низкая стоимость выхода из них, что придает осмысленность получаемому изначально согласию. Как подчеркнул Фрэнк Найт, «действенная свобода зависит от наличия для несогласных индивидов альтернативы выхода из сообщества без серьезных потерь или затрат. Фактически, свобода по большей части является результатом „конкуренции" различных структур за новых участников» [Knight, 1982 : 416]. И хотя микрорайон Лежэ Ворлд достаточно велик, больше многих малых городков, он все же составляет весьма небольшую часть от окружающего городского района. Если вас не устраивает система управления в Лежэ Ворлд, вы вольны купить себе дом буквально через дорогу, где правила законотворчества могут разительно отличаться от правил Лежэ Ворлд и больше соответствовать вашим представлениям о жизни. Стоимость выхода из сообщества ничтожно мала. Под «стоимостью выхода» я подразумеваю не просто стоимость переезда на новое место жительства в денежном выражении, а все прочие жертвы, на которые приходится идти, делая выбор. [См. [Barnett, 1992 : 902–05 ] (где защищается утверждение, что согласие даже в рамках незыблемого договора может быть действительным только при условии сравнительно низкой стоимости выхода из контрактных обязательств).] Если вас устраивает жизнь в определенном микрорайоне, если вы не хотите покидать своих друзей, менять круг общения, если вам нравится местная кухня и обычаи, или ваша работа, но все же вас не устраивают правила распорядка на территории Лежэ Ворлд, вы с легкостью можете купить дом через дорогу или кварталом дальше по дороге. Такая возможность весьма существенна для первоначального принятия решения о месте проживания, а также когда вы принимаете решение остаться в пределах определенной юрисдикции. В том числе и юрисдикции, не определяемой географическим местоположением. В одной из работ я уже пространно обсуждал вопрос о том, что юрисдикция законодателей над индивидами не обязательно определена географически. [См. [Barnett, 1998 : 238–97] (где описывается «полицентрический» конституционный порядок).] Мы можем присоединяться и попадать под юрисдикцию тысяч организаций со своими собственными правилами и порядками, расположенных во всех частях света и объединяющих миллионы членов. Среди этих организаций крупные работодатели, профессиональные ассоциации, организации здравоохранения, книжные клубы, церкви, мечети и синагоги, файлообменные сообщества в сети Интернет — этот бесконечный список можно продолжать — и каждая такая организация объединяет людей на основе единодушного согласия подчиняться установленным в сообществе правилам. Стоимость выхода из организации незначительна, с учетом того, что это не географические юрисдикции, и их участникам не приходится покидать свой дом, чтобы присоединиться или приостановить членство. Члены сообществ могут дать и на деле дают свое согласие на различного рода ограничения своей свободы. В этом смысле, точный состав элементов обязательства повиновения для различных индивидов при подчинении законодательной власти других будет, скорее всего, уникальным. Среди наиболее известных сторонников отнесения подобного рода законотворческой деятельности — наряду с географически локализованными правовыми системами — к «законодательным» был Лон Фуллер: Если закон определяется как «организация подчинения поведения индивидов системе правил», то у такой организации должно быть не две-три, а тысячи сфер воздействия. В этой организации подчинения участвуют те, кто разрабатывает и применяет правила, управляющие работой клубов, церквей, школ, профсоюзных организаций, сельскохозяйственных ярмарок и еще великим множеством форм объединений людей. ... Только в этой стране такие „законодательные системы" исчисляются сотнями тысяч . [См. [Fuller, 1969 : 124–25].] О чем Фуллер не упоминает, так это о том, что вся эта рать законодательных систем работает с морального позволения граждан, выражающих свое единодушное согласие, по необходимости отсутствующее в больших географически локализованных системах. Если юрисдикция определяется географическим положением, размер имеет значение. Чем обширнее территория, тем выше стоимость выхода из системы, тем менее осмысленным становится понятие «молчаливого» согласия на подчинение юрисдикции данной правовой системы. Большинство современных городов, вероятно, слишком велики, но даже если города будут небольшими, на уровне штата точно невозможно добиться сколько-нибудь значимого единодушного согласия. Если речь идет о больших территориях, на которых власти требуют повиновения граждан, это повиновение должно основываться не на согласии управляемых, а на чем-то ином. Разумеется, если законодательные власти территории сначала покупают участок земли, на управление которым они претендуют, то можно говорить о том, что впоследствии согласие покупателей или арендаторов участков в этой юрисдикции будет как добровольным, так и всеобщим. Выражаясь яснее, сама по себе низкая стоимость выхода из-под юрисдикции правовой системы не заменяет первоначального права собственности, на основании которого законный владелец ставит условием пребывания на данной территории согласие подчиняться решениям местного законодательного органа. Однако даже при изначальном наличии такого согласия, если со временем эти территории увеличат свои размеры до обычных юрисдикций, вряд ли можно будет с такой же уверенностью из нежелания граждан покидать место жительства и нести соответствующие расходы делать вывод о наличии согласия. Для поддержания своей власти основанным на согласии режимам скорее всего придется субсидировать выезд за пределы структуры граждан, не согласных с правлением. И тем не менее, в реальном мире потребность в значительных денежных средствах на покупку участков естественным образом ограничит размеры подобных юрисдикций и сохранит сравнительно низкой стоимость выхода из сообщества. Таким образом, в противовес суждениям здравого смысла и основываясь на первоначальном праве владения, единодушное согласие подчиняться законам вполне достижимо, но ценой сравнительно низкой стоимости отказа, либо вследствие отсутствия географической локализации, либо из-за небольшой территориальной протяженности юрисдикции. Там, где существует единодушное согласие, правовые установки могут охватывать практически все области жизнедеятельности, при условии что они не затрагивают неотчуждаемых прав человека и не посягают на права третьих лиц. Это совершенная правда, поскольку человек может согласиться на добровольное отчуждение многих из своих прав. Самым ярким различием между боксом и дракой, любовью и половым насилием является согласие. В условиях единодушного согласия, следовательно, понятие свободы не является несовместимым с понятиями жесткого регулирования и даже запретом на какие-либо действия, не являющиеся незаконными. Ирония заключается в том, что управление, основанное на всеобщем согласии, гораздо сильнее ограничивает свободу действий, чем управление при отсутствии согласия. Общественные ограничения свободы являются допустимыми и морально обязывающими настолько, насколько они добровольны и желательны. 3.2 Меньше согласия, больше свободы: защита прав Понятие всеобщего согласия перестает быть действенным только когда власть насаждается на сравнительно обширной территории. Может ли такая власть вообще быть легитимной при отсутствии согласия, и если да, то при каких условиях? Ответ на этот вопрос начинается с выяснения того, почему наличие согласия делает законодательную деятельность легитимной. Согласие только тогда делает законодательную деятельность легитимной, когда «у индивидов есть права, и есть нечто, чего по отношению к ним не может сделать ни одно лицо или группа лиц (не нарушая при этом их прав)» [Nozick, 1974 : ix]. И это не простое предположение. Как я уже пояснял, существование прав человека естественным образом вытекает из природы человека и сути мира, в котором мы живем. [См. [Barnett, 1998 : 17–25]. Я не утверждаю, что представленная здесь позиция является единственным законным оправданием прав личности.] Этот вывод был принят разработчиками Конституции Соединенных Штатов, а также теми, кто написал Четырнадцатую поправку. [Я привожу оправдание этого исторического права в работе [Barnett, 2003] [здесь и далее Barnett, Restoring the Lost Constitution].] Однако, чтобы принять концепцию легитимности конституции, которую я отстаиваю на этих страницах, нет необходимости принимать какую-либо конкретную формулировку основных прав человека. Достаточно будет отметить только, что согласие будет в том случае придавать легитимность законодательному процессу, если мы считаем это согласие значимым — то есть у человека есть право дать согласие, и соответственно, право отказать в согласии. В противном случае, согласие не является востребованным и не придает легитимности чему бы то ни было. В целом, чтобы согласие вообще имело значение, мы должны принять (хотя это можно и доказать), что «сначала права, а затем закон» или «сначала даются права, а затем устанавливается правление». Исторически, права, которые существуют у человека вне зависимости от правительства, называются «неотъемлемыми» или «естественными» правами. Сегодня их часто называют «правами человека». Утверждение, что «сначала права, затем правление», помогает пояснить, каким образом правовая система может стать легитимной при отсутствии согласия. Закон может быть справедливым, и соответственно, морально обязывающим, если ограничения этим законом свободы граждан являются 1) необходимыми для защиты прав других, и 2) уместными, поскольку не нарушают прирожденных прав индивидов, которым навязаны. Второе из этих требований имеет дело с необходимостью получения согласия человека, которому навязан закон. В конце концов, если закон не нарушает прав человека, то и согласие просто не нужно. Первое из упомянутых требований формулирует положение о необходимости. Если для защиты прав других нужен закон, значит он также необходим и для человека, которому этот закон навязан, так как защита его прав является обязательством самой правовой системы. [Это верно и когда правительство регулирует или ограничивает использование своей собственности. В таких случаях оно защищает не что иное, как свои собственные права, хотя, возможно, было бы вполне разумно установить ограничения на использование и на ограничение использования собственности правительством.] Индивид обязан повиноваться такому закону на том же основании, что и уважать права других. Итак, мы приходим к полному иронии выводу: при наличии единодушного согласия ограничения свобод оказываются куда более значительными, чем без него. Оттого, что человек может давать свое согласие практически на что угодно, люди вольны согласиться и на повиновение законам, которые в значительной степени ограничивают их свободу. Однако, при отсутствии реального согласия их прирожденные права на свободу остаются и должны оставаться незатронутыми. В целом, в то время как реальное согласие может оправдать ограничения свободы, без такового согласия свободу необходимо неукоснительно защищать. Таким образом, когда мы находимся вне сообщества, основанного на всеобщем согласии, законы следует проверять с точки зрения их необходимости и с точки зрения возможного посягательства на права человека. 3.3 Пояснения и оговорки Настоящая теория легитимности конституции уязвима для неверного истолкования сразу по нескольким направлениям. Чтобы избежать этой опасности, я хотел бы уточнить, что именно я утверждаю, и очертить границы своих утверждений. 1. Помимо уважения и защиты прав. — В этой части я всего лишь предлагаю оправдание возникновения обязанности повиновения при отсутствии согласия оправдание, распространяющееся исключительно на законы, которые не только необходимы для защиты прав других, но и уместны настолько, насколько они не нарушают прав индивидов, чью свободу ограничивают. Мой довод в пользу такой ограниченной обязанности повиновения не претендует на заведомое отрицание любого другого источника легитимности вне согласия, который мог бы расширить базу моральной обязанности подчинения. И хотя мои доводы сами по себе не исключают потенциального оправдания других возможных путей обоснования обязанности подчинения вне согласия, любое утверждение о том, что свободу личности можно ограничить в целях иных, нежели защита прав личности, нуждается в серьезном и аргументированном обосновании. В части первой настоящей статьи мы убедились в слабости аргументов, основанных на признании молчаливого согласия и принятии благ. В других работах я также уже обращался к необычайной слабости аргументов, основанных на ретрибутивной и дистрибутивной справедливости. [См. [Barnett, 1998 : 308–21].] Хотя сила защиты прав с помощью правовых процедур, уважающих и защищающих основные права личности, оправдывает принуждение несогласных к повиновению закону, данное обоснование касается только этого принуждения и не более. Тем, кто хотел бы большего от законодательной деятельности, можно посоветовать обратиться как к мерке, по которой можно оценивать легитимность, к критерию защиты основных прав. То есть, легитимная законодательная система — это такая система, которая дает гарантии того, что ее ограничивающие свободу законы являются необходимыми для защиты прав других и не нарушают права тех, кому они навязаны. Вопрос о том, является ли правовая система, дающая больше этого (или меньше), также и легитимной, остается открытым и требующим дополнительного рассмотрения и аргументации. Следует также упомянуть, что значительная доля правительственных действий не предполагает насильственного навязывания директив гражданам. Когда почтовое отделение определяет часы своей работы или стоимость почтовых марок, оно также выступает в роли владельца бизнеса. Оно не больше ограничивает законные свободы граждан, чем частная организация, делающая то же самое. Такие директивы являются вполне уместными в соответствии с Разделом 8 Статьи I, дающим Конгрессу право «учреждать почтовые службы». [Конституция США, Ст. I, § 8.] Однако, когда Конгресс притязает на монополию своей почтовой службы и наказывает тех, кто составляет ей конкуренцию в доставке почтовых отправлений — полномочия, совершенно не оговоренные в Конституции , — ему следует взять на себя труд доказать необходимость и правомерность такого приказа, или же данный приказ не будет морально обязывающим. [См. [Spooner, 1971б].] Даже без дополнительных доводов теория легитимности конституции, о которой здесь говорилось, не исключает возможности возложения и обязанностей, выходящих за пределы защиты прав. В связи с этим выделяется два типа источников обязательных законов: законы, которые приняты режимами единодушного согласия, и законы, которые принимаются режимами, чья легитимность основывается исключительно на процедурных гарантиях защиты прав несогласных граждан, которым законы были навязаны. В условиях сообществ всеобщего согласия, как мы могли убедиться, возможны разнообразные типы законов и норм защиты прав. Подобно Леже Ворлд, академические или религиозные сообщества возлагают множество дополнительных обязанностей на своих членов. Говорить, что географически обусловленное и не основанное на согласии законотворчество является неизбежным вследствие невозможности достижения всеобщего согласия с принципами законотворчества, значит впадать в заблуждение. То, что реально существует, без сомнения, является и вполне возможным. Те, кто утверждает, что эти сообщества, основанные на всеобщем согласии, неполноценны, должны привести и обоснование. В своих доводах они должны постараться показать, почему обнаруженные ими недостатки нельзя отнести и к не основанным на согласии территориальным юрисдикциям — особенно в мире, где разнообразие таких систем заставляет их конкурировать, и ни одна правовая система не гарантирует правильной работы других. Тем не менее, в зависимости от представления о правах, которое мы принимаем, даже режимы, основанные на всеобщем согласии, могут быть вынуждены ограничить свои полномочия возлагать обязанности правовым образом. При наличии некоторых прав, от которых нельзя отказаться и которые нельзя передать, даже с согласия их субъекта, режимы, основанные на всеобщем согласии, должны предусматривать определенные процедурные гарантии защиты таких неотчуждаемых прав. Неотчуждаемые права — это те права, которые могут быть вновь восстановлены, даже после того, как законный владелец от них отказался. [См. по этой тематике [McConnell, 2000 : 3–44].] Например, некто может согласиться принять участие в бое на ринге или вступить в половую связь с другим человеком, но неотчуждаемая природа прав личности всегда может привести к тому, что человек изменит свое решение и откажется продолжать. Благодаря существованию неотчуждаемых прав, самой важной процедурной гарантией даже в режимах, основанных на всеобщем согласии, будет сохранение постоянного права выхода из юрисдикции данного режима. [Я благодарен Дон Нунциато за ее проницательные комментарии, которые привели к появлению этой оговорки о легитимности режимов всеобщего согласия.] Этот последний пункт также подчеркивает взаимосвязь между теорией легитимности, выдвинутой здесь, и теорией справедливости, на которой держится легитимность любой конкретной правовой системы. Такое право выхода не является свойством отстаиваемой здесь концепции легитимности конституции. Скорее, оно представляет собой процедуру, защищающую от нарушений определенных неотчуждаемых прав. И хотя можно принять представленную здесь процедурную концепцию легитимности не основываясь на какой-либо частной теории справедливости, вопрос определения процедур, надежно гарантирующих справедливость законов, действующих в данной правовой системе, будет зависеть от принятой концепции справедливости. 2. Значение выражения «необходимы и уместны» — Я позаимствовал устойчивое выражение «необходимы и уместны» из самой Конституции. Статья I дает Конгрессу право «издавать все законы, которые необходимы и уместны для осуществления» [Конституция США, Ст. I, § 8.] других полномочий, которые предоставляются Конституцией правительству страны. Я не претендую на то, что изначальное значение этого выражения идентично значению, которое я ему придаю и является необходимым условием легитимности конституции. [Я подробно обсуждаю изначальное значение этого выражения в [Barnett, 1997 : 751–63] (где проводятся различения между концепциями «необходимости» Мэдисона и Маршалла). В работе Восстанавливая утраченную Конституцию я уточняю свои исторические реконструкции, показывая, что концепция «необходимости» Мэдисона (и других) была ближе — хотя безусловно совершенно не идентична — концепции Гамильтона (и Маршалла), чем принято считать. [Barnett, 2003]; см. также [Currie, 1982 : 887, 932] (где обсуждается мнение Джона Маршалла, высказанное в деле «МакКалох против Мэрилэнда» (McCulloch v. Maryland) и заключающее, что «в свете ранее заявленной им точки зрения последствия выглядят очевидными: полномочия, вытекающие по обстоятельствам из прямо оговоренных полномочий, не должны распространяться настолько широко, чтобы ниспровергать основной принцип — власть Конгресса является ограниченной»).] Между этими значениями имеются два совершенно явных различия. Выражение «необходимы и уместны» требует, чтобы законы были необходимы для реализации всех полномочий, делегированных национальному правительству Конституцией, а не только полномочия защищать права других. В этой связи, концепция «уместного» в этом выражении шире моей. Отчасти это объясняется тем, что от правительства требуется выполнение множества функций, и отправление этих функций не требует ограничения личной свободы граждан. С другой стороны, как показали Гари Лосон и Патриция Грейнджер, чтобы быть «уместным», закон должен не только защищать права личности, но также и соответствовать принципам федерализма и разделения властей [Lawson & Granger, 1993 : 267, 297]. [Где утверждается, что для того, чтобы быть уместными, «будущие законы не должны противоречить принципам разделения властей, федерализма и прав личности»); см. также [Printz v. United States, 1997 : 923–24] («Когда закон ... для приведения в исполнение Положения о Торговле нарушает принцип государственного суверенитета ... этот закон не является ... „уместным законом для приведения в исполнение Положения о Торговле"»).] В этом отношении, исходное выражение уже. Закон, нарушающий принципы федерализма, может быть неуместным, даже если не посягает на права индивидов. Таким образом, при отсутствии действительного согласия каждый ограничивающий свободу закон должен быть изучен на предмет того, является ли он необходимым для защиты прав других, и не является ли он неуместным, нарушая права тех, чью свободу он ограничивает. При отсутствии действительного согласия легитимным является законодательный процесс, обеспечивающий адекватные гарантии того, что принимаемые им законы справедливы в этом отношении. Если законодательный процесс обеспечивает такие гарантии, значит он легитимен, и сомнения в законах, им издаваемых, должны решаться в его пользу. Такие законы являются морально обязывающими, если не доказана их несправедливость. Заключение Вопрос о легитимности конституции заключается в том, чтобы установить, почему при отсутствии действительного согласия повиноваться законам, гражданам следует рассматривать любое принятое в соответствии с конституционным правом законодательное решение как обязательное для себя. Я не спрашиваю, почему мы считаем конституцию легитимной, а конституционные законы морально обязывающими. Я спрашиваю, вместо этого, какими качествами должна обладать конституция, чтобы оправдать такое ее понимание. С моей точки зрения, ответить на этот вопрос можно следующим образом: prima facie обязанность повиноваться закону, принятому в конституционно установленном порядке, возникает только тогда, когда используемые для ратификации законов процедуры дают гарантии того, что ограничивающие свободу законы необходимы для защиты прав других и не нарушают права тех, чьи свободы ограничиваются. Как мы уже видели, это качество зависит от наличия или отсутствия согласия. При наличии согласия, законное распоряжение может ограничить практически любую свободу, за исключением неотъемлемого права. Однако при отсутствии согласия, как это происходит в случае с Конституцией Соединенных Штатов, чтобы морально обязать к повиновению, закон должен быть не только необходим для защиты прав других, но и уместен, то есть не нарушать прав тех, кому он навязан. Легитимный конституционный законодательный процесс дает гарантии соответствия обоим требованиям. Что же это за права, гарантии ненарушения которых должен дать легитимный законодательный процесс? Я считаю, что естественными правами, которыми люди располагают до всякой формы правового общества и которые у них сохраняются до тех пор, пока они добровольно не соглашаются на их отчуждение, являются «вольности». [Это нормативное требование является основным тезисом работы [Barnett, 1998].] Далее, я также утверждаю, что в качестве позитивного права Девятая поправка защищает эти вольности, «сохраняемые за народом», от правительства страны, а формулировка Четырнадцатой поправки, касающаяся «привилегий и льгот», защищает те же самые (и прочие) вольности от нарушений со стороны правительств штатов. [Конституция США, Поправки IX, XIV. Это дескриптивное историческое право развернуто отстаивается в работе [Barnett, 2003].] Более того, если защита основных прав является единственным оправданием навязывания правовых ограничений при отсутствии согласия, то чем шире принимаемая концепция прав, тем большее число законов будет считаться свободным от нарушений. По этой причине признание отсутствия согласия приводит к отстаиванию менее амбициозной, а не более широкой концепции основных прав. При этом вам нет необходимости разделять концепции справедливости или естественных прав, которые предлагают основатели Конституции или я, чтобы принять теорию легитимности конституции, выдвинутую в настоящей статье. Достаточно согласиться в одном — при отсутствии согласия конституция может быть легитимной только обеспечивая достаточные процедурные гарантии справедливости надлежащим образом принятых законов. [На самом деле, этот довод совершенно схож по своей структуре с доводом Ролза: «Целью участников конституционного конвента является нахождение среди справедливых конституций ... наиболее способной привести к созданию справедливого и действенного законодательства с учетом общих характеристик данного общества. Конституция рассматривается как справедливая, но не совершенная процедура, сформулированная таким образом, чтобы, насколько это возможно, гарантировать справедливые результаты» [Rawls, 1999 : 353].] В то же время, мы можем расходиться в отношении того, что именно делает закон справедливым, а также какие именно процедуры можно считать достаточными для гарантии того, что законы в том или ином смысле справедливы. Примерно то же самое можно сказать о теоретиках, которые едины в том, что «согласие управляемых» делает конституцию легитимной, но расходятся в отношении того, что именно является таким согласием, и существует ли оно в каждом конкретном случае. Я утверждаю всего лишь, что 1) в отсутствии действительного согласия несогласную сторону обязать не может ничто; 2) Конституция Соединенных Штатов не является легитимной ни вследствие действительного согласия управляемых, ни в силу принятия ими выгод; 3) единодушное согласие с законодательным процессом возможно и может охватить все сферы; но 4) при отсутствии действительного единодушного согласия для того, чтобы стать легитимной, конституция должна обеспечивать достаточные процедурные гарантии того, что какое бы качество закона не делало его справедливым (и следовательно, морально обязывающим), это качество должно иметь место прежде, чем распоряжение получит статус закона. [В другой работе я утверждаю, что если определенная правовая система предполагает принятие писаной конституции, чтобы закрепить другие процедурные черты, помогающие обеспечить справедливость законов, в такой системе судьи при толковании текста должны придерживаться изначального смысла писаной конституции настолько, насколько этот смысл может быть восстановлен. [Barnett, 1999 : 611, 643]. Там, где этот смысл является расплывчатым или неполным, дозволяется дополнение или «конструирование» — не просто дозволяется, а является неизбежным — и конституционные построения, не противоречащие изначальному смыслу, должны быть приняты, если они усиливают шансы сделать закон легитимным. [Barnett, 1999 : 645–47]. Я очень подробно рассматриваю эту дискуссию в [Barnett, 2003].] Хорошо это или плохо, но мы приходим к тому, что легитимность правовых режимов, не основанных на единодушном согласии, может быть рассмотрена как имеющая различные степени, а не в абсолютном смысле («все или ничего»). Выше порога, при котором закон скорее справедлив, чем наоборот, более эффективные процедуры, гарантирующие справедливость правомочно принятых законов означают большую презумпцию справедливости законов, принятых в такой системе. Чем больше мы уверены в принятых законах, тем скептичнее мы можем отнестись к предположению, что какой-то конкретный закон является несправедливым. В настоящей работе я не могу прописать все характеристики, которые считаю важными для законодательного процесса. Все известные черты нашей правовой системы — широкое распространение избирательных прав, разделение властей, федерализм, а также писаная Конституция, которая закрепляет все эти правовые практики и перечисляет как властные полномочия, так и права — играют свою роль, если к ним относятся с должным уважением. Такую же важную роль играет и судебный надзор за соблюдением этих повышающих легитимность качеств. Такую же роль сыграло бы и принятие «презумпции свободы», которое переложило бы на правительство обязанность доказательства в суде, что его ограничивающие свободу распоряжения являются не только необходимыми, но и уместными. [Я выдвигаю предварительные доводы защиты «презумпции свободы» в [Barnett, 1995], а также развернутую версию защиты в [Barnett, 2003].] Если признать, что выше определенного порога легитимность конституции может быть оценена как относительная, моя теория не всегда дает ясный ответ на вопрос, предоставляет ли конкретная законодательная система достаточно оснований, чтобы принятые ею законы могли получить сомнение в свою пользу. Однако, эта теория ставит вопрос, который другие проигнорировали, и отвечает на него, указывая на нечто реальное, а не на фикцию, на что следует обратить внимание, а именно: процедуры, гарантирующие, что принятые законы не нарушают неотчуждаемых прав человека. Это также позволяет нам прийти к заключению, что некоторые конституции более легитимны, чем другие. Остается открытым вопрос о том, является ли Конституция Соединенных Штатов — писаная или воплощаемая на практике — действительно легитимной. Интеллектуальная честность требует от нас признать, что с большой вероятностью ни одна конституция, которая не установлена со всеобщего согласия, не может издавать морально обязательные законы. Таким образом, хотя предложенная в нашей работе концепция легитимности конституции не всегда приложима, и хотя она вызывает споры и требует разрешения противоречий, касающихся природы справедливости и прав, даже самые скептичные читатели могут захотеть истолковать сомнения в ее пользу. Ведь в качестве альтернативы им, вероятно, придется признать, что за кулисами никого нет. Литература
|
| [email protected] | Московский Либертариум, 1994-2020 | |