| 27 август 2020 | |
 |
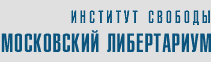 |
|
|
|||||||
| Пользователь: [login] |
настройки |
карта сайта |
статистика |
|
|||||||
|
перевод под ред. Вадима Новикова Этот доклад был прочитан в качестве лекции в рамках серии нерегулярных лекций в Сенатском департаменте Парламента 24 июля 1998 года. 24.07.1998
Раскол – великое зло человечества, а терпимость – единственное лекарство. Читать лекцию [я хотел бы поблагодарить Филиппу Келли и Уильяма Мэли за многочисленные полезные замечания и предложения при подготовке этой работы] о достоинствах толерантности где бы то ни было, кроме залов Сенатского департамента Австралии, большинству людей покажется весьма бессмысленным занятием. Разве хоть кто-нибудь, кто выступает против толерантности, потрудится прийти? (И какой смысл проповедовать для обращенных? Разве будет слушать тот, кто против? И возможно ли его обратить?) На самом деле, нелегко найти человека, который бы открыто выступал против толерантности. Почти все выступают за, хотя любой поспешит добавить, что это, конечно, не означает полной вседозволенности. Последняя фраза о «полной вседозволенности» или ее отсутствии посылает нам сигнал о том, что вопрос толерантности остается актуальным, а не превращается в банальность. Большинство из нас готовы, может быть инстинктивно, толерантно относиться к другим, если те не переступают грань. Но только до тех пор, пока они ее не переступят. Как объяснил один из протестующих после яростной демонстрации против заседания партии One Nation, мы не обязаны терпеть невыносимое. На таких условиях легко быть толерантным. Однако проблема здесь в том, что такое отношение слабо связано с толерантностью. Никогда и не предполагалось, что толерантность – это просто. Толерантность добродетель ровно потому, что это непросто. А непросто это потому, что толерантность требует от нас принимать, допускать, мириться, терпеть, страдать, разрешать, потакать или проглатывать то, чего мы не можем пережить, вынести, вытерпеть, поощрить или принять. Быть толерантным означает мириться с вещами (или людьми), которые нам не нравятся и которых мы не одобряем – особенно если находимся в доминирующем положении. Вот почему это трудная добродетель, и вот почему у нее меньше сторонников, чем многие считают. И вот почему есть повод выступить в ее защиту. Моя цель сейчас – попытаться изложить основные аргументы для этого. Хотя прежде чем приступать, было бы неплохо сказать несколько слов о том, почему эту тему следует считать хоть сколько-нибудь уместной в серии лекций, где большинство докладчиков говорят о более прикладных вопросах практической политики. Тема действительно уместна в силу нашей политической ситуации, в силу времени, в которое мы живем. За 50 лет с момента принятия закона 1948 года о национальности и гражданстве, в котором впервые устанавливалось австралийское гражданство, Австралия прошла через глубокие социальные преобразования. Страна, где после войны жили в основном британские подданные, сейчас – страна, жители которой представляют различные культуры. Громадное значение этих перемен трудно переоценить. За полтора поколения в Австралии произошли такие изменения в этническом и культурном составе населения, которые сравнимы по масштабу с преобразованиями, происходившими в Канаде на протяжении трех поколений, а в США – на протяжении более шести. Культурное многообразие всегда было характерно для Австралии, но теперь она еще более многообразна. И если использовать многообразие как показатель мультикультурализма, Австралия более мультикультурна, чем когда-либо, – и больше, чем могли ожидать или даже представить себе ее первые граждане. В этих условиях возникает очевидный – и неизбежный – вопрос: могут ли настолько различные люди сосуществовать в едином политическом пространстве? И если да, то как? Нет сомнений, что этот вопрос ставят по-разному и дают разные ответы. Он неявно присутствует в общественных дискуссиях по поводу культурного многообразия и иммиграции; в обсуждении проблем аборигенов; в непрестанных дискуссиях об австралийской идентичности. Множество вопросов связано с одной, фундаментальной проблемой: следует ли нам ожидать ассимиляции мигрантов или они будут придерживаться своей культуры и традиций; следует ли снижать уровень иммиграции в Австралию; следует ли пытаться контролировать культурный состав притока мигрантов? Для некоторых этот вопрос приобретает довольно простое звучание: как нам быть одной нацией (если позаимствовать одну из множества памятных фраз Пола Китинга)? Именно потому, что все эти вопросы важны и крайне актуальны сегодня, идея толерантности имеет большое значение. Может ли понятие толерантности как-то направить наши усилия по решению всех этих проблем? Я хочу предположить, что может и что нам необходимо принять моральный идеал толерантности; я бы также хотел предположить, что сделать это сложнее, чем готово признать множество сторонников толерантности – поскольку принять толерантность означает признать много чего еще. Итак, каковы основания для толерантности и что означает ее принятие? Основанием для толерантности является то, что мы различаемся и между нами есть расхождения. Мы различаемся не только по внешнему виду, возрасту, способностям, богатству, по происхождению, но и по мироощущению. Мы живем в соответствии с разными религиями, придерживаемся (или отвергаем) разные обычаи, ценим разный образ жизни. Никто из нас не считает, что находится на дороге в ад, однако каждый поражен количеством других людей, движущихся прямо по ней. Действительно, многими из нас владеет отчаянное желание остановить их, заставить их развернуться, указать им правильное направление (или отвести туда). У нас разные представления о том, что такое правильная жизнь; и так часто мы хотим, чтобы другие принимали наше представление. Шотландский философ Дэвид Юм очень точно заметил: «такова природа человеческого разума, что он всегда завладевает другим разумом; и насколько он прекрасным образом укрепляется единодушием чувств, настолько потрясает и расшатывает его любое противоречие». [David Hume, ’Of Parties in General’, в кн. David Hume, Political Writings, edited, with Introduction and Notes, by Stuart D. Warner and Donald W. Livingston, Indianapolis, Hackett, 1994, pp. 156–64, at pp. 161–62.] На самом деле, продолжает он, эта особенность нашей природы, «сколь бы несерьезной она ни казалась, вероятно, лежала в основе всех религиозных войн и расколов». [ibid., p. 162.] Каждый из нас в какой-то степени похож на мистера Вудхауса из романа Джейн Остен «Эмма»: «Собственный его желудок не принимал сладкого и жирного, а допустить, что у других что-то может обстоять иначе, нежели у него, он не умел. То, что было нездорово для него, представлялось ему непригодным и для всех прочих, и потому он горячо уговаривал жениха и невесту вовсе отказаться от свадебного торта, а когда это ни к чему не привело, с такою же горячностью старался воспрепятствовать тому, чтобы кто-либо отведал его». [Jane Austen, Emma, St. Ives, NSW, Softback Preview, 1996, pp. 13–15. Цит. по изд.: Остен Д. Эмма. АСТ, Ермак. М., 2005.] Как же нам жить друг с другом, если такова наша природа, и таково наше положение? Ответ заключается в идее толерантности. И это, в общем и целом, именно тот ответ, которому мы сегодня приходим во многих обществах. На свой собственный вопрос «что такое терпимость» Вольтер отвечал: «Это прерогатива гуманности. Мы все погрязли в слабостях и ошибках: простим же грехи друг другу, это первый закон природы». [Voltaire, ’Toleration’, Philosophical Dictionary, edited and translated by Theodore Besterman, Ringwood, Vic., Penguin, 1986, p. 387.] Все просто: когда различия между нами значительны и непримиримы, имеет смысл отодвинуть их в сторону – особенно если мы согласимся, что ошибки бывают у всех. При всей своей очевидности это решение веками игнорировалось в Европе, раздираемой религиозными войнами. Преследование гугенотов во Франции (а католиков в Англии) живо показало, что долгое время толерантность вообще не считалась решением проблемы раскола. Четыреста лет назад Нантский эдикт (1598) обещал религиозную терпимость всем протестантам во Франции, предоставив реформатским церквям привилегию легального существования и дал разнообразные гарантии этому – включая гарантию, что эдикт никогда не будет отменен. «Никогда», как оказалось, означало до 1685 года, когда эдикт был отменен актом, ставшим апогеем религиозной нетерпимости. [Elisabeth Labrousse, Bayle, trans. Denys Potts, Oxford, Oxford University Press, 1983, p. 1.] Этот акт консолидировал различные решения Королевского совета, которые за предшествующие годы создали «иную трактовку» эдикта, подорвав его основные принципы. К тому моменту гугеноты – протестанты в католической Франции – уже начали подвергаться гонениям, таким как политика расквартировывания солдат в домах протестантов до тех пор, пока они не обращались в католичество. Лишенным свободы вероисповедания, которая когда-то по праву принадлежала им, гугенотам также было запрещено покидать Францию. Их судьбой должна была стать насильственная ассимиляция – хотя корона видела вещи несколько иначе: основой для отмены Нантского эдикта стало то, что он стал ненужным, ибо во Франции больше не было протестантов! [Именно в этих обстоятельствах значительное число французских протестантов (более четверти миллиона) с неохотой приняли решение покинуть Францию и обосноваться в различных протестантских странах в северной Европе. Для описания этих людей стал использоваться термин "The Refuge", отсюда и образовалось слово «беженец» (refugee), означавшее «человек, ищущий убежища в чужой стране по причине религиозного или политического преследования».] Тем не менее, из этих веков нетерпимости и отметивших их разрушительных религиозных войн возникли первые философские аргументы в пользу толерантности а также социальные и политические институты, которые защищали религиозную свободу и признавали важность свободы совести. Частью выученного в ходе религиозных войн урока стало то, что нетерпимость стоит дорого. Результатом подавления был не мир или сплочение общества, а продление войны. Гораздо лучших результатов удалось достичь путем институализации толерантности: в форме большей свободы вероисповедания, а также в необходимых свободах слова и собраний. Идея терпимости признает, что фундаментальная особенность нашей природы – склонность быть различными и иметь разногласия – неискоренима. Это условие, которое можно смягчить, но не устранить. А толерантность – это правильный паллиатив, поскольку это лекарство, не пытающееся подавить нашу природу, а стремящееся работать с ней. Если мы неизбежно различаемся, то давайте хотя бы согласимся различаться – независимо от масштаба этих различий; действительно, давайте договоримся различаться – независимо от того, насколько неприятными мы друг друга сочтем. Насколько это будет трудно? Во Франции XVI века и в других странах Европы это оказалось очень трудным. И стоит отметить некоторые причины этого. Хотя мы склонны считать себя более образованными, более просвещенными и вообще более приятными людьми, чем наши отдаленные предки, я не думаю, что объяснение в том, что мы просто лучше – или более терпимы. Толерантность – это решение, к которому оказалось трудно прийти по более интересным и поучительным причинам. Одна них связана с целями и надеждами правящих кругов. Несмотря на то, что великие противоречия XVI века были религиозными, и многие дебаты о религиозной терпимости велись по теологическим вопросам, в основе этих диспутов, в особенности в Англии и Франции, лежали политические интересы. Власти были заинтересованы не столько в прелестях христианской теологии, сколько в решении задачи установления и сохранения границ нарождающегося государства, а также определении места церкви в этом государстве. Проблема религиозной терпимости состояла в том, что из нее вытекало религиозное многообразие. Но в Европе, остававшейся разрозненным набором провинций, каждая со своим диалектом, обычаями и правовой системой, идея о том, что национальное единство способно выжить без единства религиозного, считалась просто невозможной. Во Франции король-солнце (Людовик XIV) сначала пытался добиться религиозного единства, завлекая людей в католичество – например, вознаграждая обращенных протестантов с помощью моратория на их долги. В конце концов ограниченный успех такого подхода привел к гораздо более жестким репрессивным мерам по отношению к тем, кто отказался отречься. Однако конечная мотивация, если не оправдание, была политической, а не религиозной, и заключалась в поиске политического единства. Другой причиной трудного зарождения толерантности стало то, что отсутствие издержек от политики терпимости было вовсе не очевидным. Напротив, существовало опасение, что это может стать опасным. Как заметил историк Дж. У. Ален, в то время существовало распространенное убеждение, что в каком-то смысле у государства должна быть возможность поддерживать истинную религию и подавлять опасные заблуждения; вера в то, что единство в религии необходимо для национального единства и безопасности; ощущение, что терпимость к религиозными различиям может привести к распаду моральных стандартов; конечно, была тенденция рассматривать инакомыслящих как моральных уродов. [J.W. Allen, A History of Political Thought in the Sixteenth Century, London, Methuen, 1961, p. 77.] Хотя Томас Мор мог бы считать в своей Утопии допустимой законность исповедования каждым человеком своей собственной религии, в реальной жизни он опасался, что еретики будут не просто проповедовать религию, но займутся насилием. [См., в частности его «Диалог о ересях» (’The Dialogue concerning Heresies’) в кн. Thomas More, Utopia and Other Writings, selected and edited by James J. Greene and John P. Dolan, New York: Meridian Classic, 1967, pp. 196–216.] Это был не вопрос религии или морали, это был вопрос общественного порядка. И действительно, толерантность к сектам может быть опасным делом, поскольку сами они были отнюдь не толерантными. Есть мнение, что анабаптисты подвергались преследованиям в большей степени потому, что были социальными революционерами, нежели по причине религиозного инакомыслия. Гугеноты представляли собой проблему не только потому, что были нонконформистами в религии, но и потому, что были мощной политической партией, которая лишь отчасти являлась религиозной. И часть этой партии твердо придерживалась теории политического кальвинизма – в соответствии с которой правитель был обязан насаждать и поддерживать истинную кальвинистскую веру, силой подавляя всех еретиков и идолопоклонников. [См. Allen, op. cit., p. 303.] Тем самым, препятствия к зарождению религиозной терпимости включали стремления возвышающегося государства, направленные на национальное единство; и (возможно) нетерпимость групп, стремившихся к терпимости, но не желавших сами быть терпимыми. Короче говоря, было множество людей и интересов, для которых издержки терпимости были нестерпимыми. Все это может показаться очень далеким от Австралии конца 1990-х годов, но во многих отношениях это не так. Хотя мы, по большому счету, не обременены религиозными противоречиями Европы XVI века, перед нами стоят этнические и культурные различия, которые не менее важны и беспокоят многих. Возможные варианты реакции на эту ситуацию не слишком отличаются от тех, которыми пользовались европейцы 400 лет назад: подавлять, ассимилировать, терпеть. Как спрашивал Ленин, позаимствовав строчку у Чернышевского, что делать? Я полагаю, что необходимо укреплять значение института, практики и нормы толерантности. Но требуется объяснить, почему это так и что это на самом деле значит в современных терминах. В наших общественных дискуссиях необходимо подтвердить значение толерантности, потому что в противном случае существует опасность забыть или недооценить важнейшее свойство нашего общества – то, что это свободное общество. Толерантность защищает свободу. В XVI веке ее сторонников более всего интересовали религиозные свободы. Сегодня толерантность защищает или поддерживает нашу свободу жить сообразно своим представлениям – в соответствии с религией, этническими или культурными традициями или не следуя вообще никакой традиции (если это в принципе возможно). Раз мы так склонны указывать другим, как им жить – есть ли здесь кто-нибудь, кому никогда не советовали бросить курить или похудеть? – нам всем слишком легко забыть о том, как наши институты поддерживают свободу быть разными, вместе с остальными или в одиночку. Но как поступить, чтобы сделать это менее вероятным? Здесь, я думаю, мы можем кое-чему научиться из европейского опыта. Если терпимость в то время была в тени, а государство было поглощено национальным единством и экстравагантными устремлениями религиозных сект, разве не может быть так, что это и есть те препятствия, которые стоят на нашем пути сегодня? Я думаю, может, хотя препятствия сегодня принимают другие формы. Мы живем не в то время, когда серьезным вопросом является создание государства; современный вариант этого препятствия к терпимости – наша поглощенность социальным единством и национальной идентичностью. Открывая в феврале 1992 года программное заявление правительства, One Nation, тогдашний премьер-министр Пол Китинг говорил, что «все наши усилия должны быть направлены на объединение страны»; что «самые успешные общества примечательны своим единством»; что лучшая политика «должна вернуть нам чувство цели»; и что мы стремимся к такой Австралии, «которая является по-настоящему единой страной». [One Nation, Speech by the Prime Minister, The Honourable P.J. Keating MP, 26 February 1992, Canberra, Australian Government Publishing Service, 1992, pp. 15–16.] Я хочу сказать, что ко всем этим чувствам, присущим далеко не только риторике лейбористской партии, следует относиться с гораздо большим скепсисом, чем это делалось до сих пор. Более того, по ряду причин нужно с осторожностью смотреть на тех, кто разносит идеи единства. Для начала, необходимо понимать, насколько опасно стремиться к единству, когда между людьми есть разногласия. Нет ничего более разделяющего, чем стремление к единству – как с неопровержимой ясностью показал опыт политики последних полутора лет. Слишком часто люди, призывающие к единству, заинтересованы в подчинении идеалу, который они сами придумали. На мой взгляд, самые успешные общества – это свободные общества. Они примечательны не единством, а многообразием. Они вкладывали свои усилия не во что-то конкретное, а во многие вещи. У них нет чувства цели, потому что у их жителей много разных целей. И они не стремятся быть одной нацией, понимая истинный смысл этих слов – примеров бессовестной риторики, используемой политическими элитами, чтобы сообщить населению о своем единстве с ним. Опасность этой риторики заключается не в ее содержании – его там нет – а в направлении, в котором она ведет. Прежде всего, она ведет к стремлению сформировать и определить национальную идентичность, поскольку идея идентичности быстро проложит путь к идеалу социального единства. Но политики, основанной на идентичности, безусловно, необходимо избегать – как показывает история Балкан с их бесконечными ссорами об этническом происхождении и территориальном наследии. Вполне очевидно, что идентичность не возникает естественным путем или сама по себе, она не является постоянной; она даже не отличается особой протяженностью во времени. Черты, описывающие британца, малайзийца, индуса или австралийца не могут разумным образом объяснить различия между эпохами и регионами. Но излишние разговоры об одной нации подталкивают нас к тому, чтобы думать так самим или верить другим, кто так говорит. Это плохо не потому, что глупо, а еще и потому, что подталкивает нас к попыткам формировать и контролировать эту идентичность. В нашем контексте это побуждает некоторых говорить нам, как быть австралийцами: на каком языке говорить, каких соседей выбирать, за какую команду болеть. А других это побуждает мешать нам смотреть новозеландские сериалы, повышать цену на не-австралийские компакт-диски, защищая конкретный вариант «австралийскости». Это основательно отбивает у людей склонность не вмешиваться в чужие дела – а это, конечно, добрая часть того, что понимается под толерантностью. Короче говоря, национализм является одним из серьезных препятствий для толерантности. Одной из причин того, что в XVI веке было тяжело добиться толерантности, было то, что большая часть энергии уходила на создание государств современного типа. В преддверии Вестфальского мира 1648 года политические интересы крупных держав заключались в определении границ для формирования регионов с территориальным суверенитетом. Это вело к политике исключения: вопрос был в том, кто войдет, а кто нет. Толерантность же присуща открытым обществам, которые спокойнее относятся к перемещениям людей – и товаров – через границы. (Границу, для тех, кому нужно определение, Амброз Бирс определил как воображаемую линию, отделяющую воображаемые права одного народа от воображаемых прав другого. [См. The Devil’s Dictionary, New York, Peter Pauper Press, 1958.]) Толерантность, в конце концов, это качество, которое легче найти в обществах, сопротивляющихся планированию и контролю. При том, что поиск национального единства является препятствием к толерантности, это всего лишь одно препятствие. Другая, не менее серьезная помеха – это поведение сект или меньшинств в обществе и то отношение к ним, которое они порождают. В XVI веке религиозные меньшинства или диссиденты вызывали страх, что они будут разжигать беспорядки, что провозглашаемая ими жажда толерантности скрывала менее благородные устремления. Возникает вопрос – насколько это верно применительно к современным меньшинствам или хотя бы к системе, которая дает им поддержку. Я полагаю, что в этом проблема, стоящая сегодня перед нами, по крайней мере в некоторой степени. Некоторые из голосов, громче всех звучавших в призывах к толерантности, продемонстрировали ее прискорбное отсутствие у самих себя, перекрикивая тех, кто с ними не согласен, и расправляясь с их сторонниками или слушателями. Проблема здесь не в том, что это нетолерантно, а в том, что это затрудняет укоренение норм толерантности в общественной жизни. Чтобы толерантность работала, люди должны осознать, что толерантность – это не просто то, что они считают терпимым, а то, что они считают невыносимым. Если не принять этот принцип, то она теряет всякий смысл: нам не нужен принцип толерантности, чтобы призывать нас принимать то, что нам и так нравится; нам нужен такой принцип, чтобы призывать нас мириться с тем, что нам не нравится. Точно так же, как нетерпимость сект в XVI веке помешала введению норм толерантности, потому что эти секты слишком часто превращали свое существование в проблему с точки зрения общественного порядка, и точно так же сегодня различные группы предают дело толерантности, привлекая к себе внимание в связи с беспорядками, вызванными их нетолерантным поведением. Но нетолерантное поведение некоторых групп – это только один способ – хотя и выразительный – с помощью которого функционирование групп в современной политике подрывает идею толерантности. Более общую проблему может составлять тот факт, что группы – и здесь я, в частности, имею в виду этнические группы – действуют как заметные участники политического процесса. Это быстро породило в обществе ощущение, что бюджетные средства или ресурсы вообще распределяются по этническому принципу. Помимо того, что использование бюджетных средств для привлечения так называемых «этнических голосов» связано, по словам профессора Иржи Зубржицки, с риском «укоренения низкоуровневой коррупции в политической системе» [Цитируется в газете Canberra Times, 30 июня 1998, стр. 2: ’Time to end ’ethnic group grants’.], проблема еще и в том, что такая практика никак не способствует толерантному (а хорошему и подавно) отношению австралийцев к членам этнических меньшинств. Трудно толерантно и тем более по-доброму относиться к людям, которые, по вашему мнению, в доле. Это не обвинение в адрес этнических элит. Они просто рационально реагируют на предлагаемые им стимулы к поиску ренты. Скорее это критика в адрес основной массы политиков, создавших эти стимулы ради собственной выгоды. Еще большее разочарование вызывает не только то, что этнических голосов на самом деле нет (поскольку политические пристрастия в этнических сообществах распределены точно так же, как и в обществе в целом), но и то, что подавляющее большинство представителей этнических групп не принимают в этом процессе никакого участия. Их изображают как членов политических групп – сект – в то время как на самом деле они не более чем частные граждане, имеющие разное происхождение и (иногда) живущие в соответствии с разными традициями. Если это так, то одним из препятствий к толерантности является тот аспект современной мультикультурной политики, который стремится укрепить роль этнических групп в политической жизни. В то время как часть мер в рамках этой политики заслуживает похвалы, – например помощь детям в изучении иностранных языков, то другие вещи, например финансирование этнических танцевальных трупп и этнической поэзии, просто бессмысленны; некоторые аспекты политики, такие как финансирование этнических советов не менее вредны, поскольку они раздувают статус этнических вождей и одновременно понижают оценку этнических меньшинств в обществе в целом. Наконец, мы сталкиваемся с серьезным препятствием к толерантности, когда многие ее сторонники торопливо клеймят любую критику мультикультурализма как антиэтническую или расистскую, или по крайней мере основанную на нетерпимости или предрассудках. Ярче всего это проявляется в том, как ассимиляция стала ругательным словом – чем-то, что можно отстаивать только в ущерб себе. Безусловно, в свободном обществе никого нельзя заставлять жить в соответствии с традициями, которые человек считает чуждыми – и есть пространство, чтобы мы могли жить каждый по-своему. Впрочем, также стоит отметить, что политика, относящаяся к ассимиляции индифферентно или враждебно, не менее проблематична с моральной точки зрения. Рамеш Такур очень точно сказал об этом, выступая против канадского идеала «мозаики» по сравнению с американской идеей общества как плавильного котла. В конечном счете, утверждает он, первый подход унижает тех иммигрантов, которые хотят стать частью общества и не жить остаток своих дней как эмигранты. «Официально выступая против ассимиляции, Канада вынуждает новичков становиться эмигрантами, а не иммигрантами. В руках "чистокровных" канадцев мозаика превращается в тонкий политический инструмент, позволяющий сохранять дистанцию от новых претендентов». [From the mosaic to the melting pot: cross-national reflections on multiculturalism’, in C. Kukathas (ed.), Multicultural Citizens: the Philosophy and Politics of Identity, Sydney: Centre for Independent Studies, 1993, pp. 105–41, at p. 131.] Я не считаю ассимиляцию наилучшей политикой. Но нам не следует поспешно осуждать тех, кто придерживается противоположного мнения. Если все это верно, то прийти к более толерантному обществу можно будет быстрее, если удастся найти способ избавиться от расовых и этнических категорий в юридической и политической практике. Они неуместны, ошибочны и опасны. На сегодня ни одна из политических партий не проявила никакой склонности отказаться от них. (Партия One Nation заявляла, что собирается сделать это; но по-моему, это лицемерие, потому что она продолжает говорить на языке исключения и австралийской национальной идентичности.) Вот проблема, которая только и ждет своего решения. Можно возразить: если толерантность – это так трудно, то может быть, это должно дать нам передышку. Может быть, толерантность – не такая уж хорошая вещь; может быть, она нам просто не походит. Может быть, из всего этого следует вынести совсем другой урок – что разные люди просто не могут сосуществовать и мы не должны пытаться заставить и сосуществовать; или что это невозможно до тех пор, пока мы не станем разделять какие-то более значимые общие ценности. Может быть, толерантности просто недостаточно, потому что она предполагает сонное согласие на плохие условия? Позвольте мне в заключение коротко поразмышлять над этими возражениями. По поводу предположения, что разные люди не могут сосуществовать, я просто скажу, что история говорит о другом. Есть масса случаев мирного сосуществования народов разных традиций, и точно так же есть удручающе большое количество случаев, когда люди преследуют себе подобных. Некоторые, как Вольтер и лорд Актон, доказывали, что перспективы для свободы и мира лучше, когда есть многообразие. Вольтер сформулировал это со своей обычной прямотой: «если перед вами две религии, они перережут друг другу горло; если их тридцать, они будут жить в мире». [Toleration’, op. cit., p. 390.] Нужно подчеркнуть еще одно. Ни в коем случае не верно, что толерантность требует всего лишь готовности страдать, мириться со злобой, несправедливостью, некомпетентностью. Это полностью согласуется с критикой в ее адрес. На самом деле толерантность требует, чтобы мы мирились с различиями и многообразием, а не с криминалом и безответственностью. О предположении, что требуется лишь приверженность к неким значимым ценностям, я скажу, что это означает просить слишком многого. Чтобы просить людей разделять ядро из значимых убеждений и обязательств, нужна либо маленькая группа людей, либо очень слабые и мягкие обязательства. Чем больше общество, тем больше тенденция к фрагментации убеждений. Мы просто по-разному смотрим на мир. По этой причине ни одной религии не удалось преуспеть без диверсификации своих догматов. Одним из самых простых – хотя на самом деле трудных, как я настаивал – обязательств является обязательство толерантности. И это, конечно же, не менее реалистичная основа для работоспособного социального единства, чем любая другая. Тех, кто сохраняет сомнения в этом, я оставлю со словами Конфуция. Когда Цзычжан спросил Конфуция о гуманности, Мастер сказал: Кто распространит пять вещей повсюду в мире, создаст гуманность. Что это за вещи? Быть почтительным, быть великодушным, быть старательным, щедрым и терпимым. Почтительность отражает обиды; великодушие способствует доверию других; старательность гарантирует успех, щедрость дает власть над другими, терпимость завоевывает все сердца. [The Analects of Confucius, Translation and Notes by Simon Leys, New York, Norton, 1997, ch. 17.6, p. 86 (приношу свои изменения за небольшие дополнения).] * * * Вопрос – Меня беспокоит, что партия One Nation вызвала такой протест в обществе. Получается, что вокруг их встреч так много насилия и враждебности, и я думаю, что в нашем идеальном толерантном обществе можно спокойно выражать свой протест, стоять перед входом с плакатом и так далее, но когда эти люди применяют насилие против убеждений или встреч One Nation, я начинаю сомневаться в том, удастся ли нам прийти к толерантному обществу. Профессор Кукатас – Я полностью с вами согласен, и я думаю, что в конечном счете это само по себе является препятствием для толерантности. Я также согласен с вами в том, что в свободном обществе люди должны быть вольны протестовать против подобных вещей. Они должны иметь возможность стоять с плакатами и озвучивать свое неодобрение. На самом деле, я думаю, что это необходимо, потому что толерантность не должна означать, что вы просто не обращаете внимания на то, с чем вы не согласны или считаете неверным. С другой стороны, я не считаю, что это означает наличие у вас права мешать людям делать именно это. Они решат, что вы столь же нетерпимы. Вопрос – Например, я мог бы пойти на мероприятие One Nation и выйти оттуда, не соглашаясь ни с чем из того, что я услышал, но, по-видимому, считается, что если вы входите в эту дверь, то полностью соглашаетесь со всем, что услышите внутри. Профессор Кукатас – Да, я думаю, это так. Имели место прискорбные инциденты, когда люди, заходившие послушать из любопытства и несогласия, были избиты. Так что я с вами согласен. Я считаю, что это плохо и заслуживает критики. Вопрос – Если позволите, я выскажу одно соображение и задам один вопрос. Меня заинтересовало то, что вы говорили об ассимиляции. Но это слово такое гибкое и его так по-разному можно использовать, что посмотреть на него надо в контексте нашей истории. Для меня ассимиляция означает насильственный захват аборигенов и принуждение их к обществу, которое мы считали для них наилучшим. Я читал речь Кима Бизли-старшего в 1961 году, где он сказал, что для него, несмотря на его отвращение к апартеиду, апартеид являлся более моральной философией, чем ассимиляция, потому что по крайней мере он давал людям право на собственную культуру, а ассимиляция нет. И моя негативная реакция на слово ассимиляция, я думаю, связана с историей, из которой мы вышли, и нам надо это преодолеть. Я хотел спросить вас о другой теме. Как двигаться в сторону более толерантного общества? Вы упомянули нетолерантность религии, превращение ее в силу разделения и принуждения. Я недавно прочитал книгу под названием Religion, the Missing Aspect of States Craft, в которой целый ряд историков рассуждал о различных религиозных группах, способствовавших преодолению враждебности, например, между Францией и Германией после Второй мировой войны, на Филиппинах и т.д. Вы видите в религии силу, способствующую нашему движению к более толерантному обществу, или препятствующую ему? Профессор Кукатас – Можно, сначала я прокомментирую ваш комментарий, а затем попытаюсь ответить на вопрос? Согласен, со словом ассимиляция действительно многое связано, потому что это не просто слово, описывающее конкретную практику и идею, но и слово, описывающее политику с очень долгой историей. Но есть и еще один аспект, который нужно иметь в виду в случае с аборигенами, и это не только история насильственной ассимиляции украденных поколений, но и в какой-то степени история аборигенов 1930-х годов, многие из которых утверждали, что им как раз не дали ассимилироваться. В государственной политике они считали несправедливым то, что она лишала их права стать частью австралийского общества. Поэтому я думаю, что нам нужно найти баланс, который позволит ассимилироваться тем, кто этого хочет, чтобы на этом пути у них не было препятствий. В то же время должно признаваться, что есть и другие, кто просто хочет жить по-другому, хочет следовать ценимым ими традициям. Я думаю, история этой политики показывает, как трудно это сделать, потому что, как правило, политика колебалась от одной крайности к другой. Баланс найти трудно, и это одна из идей, которую я пытался развить в лекции применительно к ассимиляции. Что касается вопроса о том, может ли помочь религия, я думаю, что ответ будет более неоднозначным вот по какой причине. С одной стороны, в религии есть многое, что способствует толерантности, потому что религия по большей части проповедует тот или иной тип толерантности. Христианство, безусловно, проповедует. Это не означает, что церковь всегда делала это, но христианство, конечно, делает, и ислам, конечно, делает; в нем сильны традиции толерантности, описанные крайне подробно. Проблема с религией заключается в том, что религия способна объединить такое большое количество людей к одну группу, одно сообщество, одну силу, что у политиков, политической элиты всегда есть искушение ухватиться за это и использовать для собственных целей. В этом первая проблема. Вторая проблема в том, что когда религиозные лидеры обнаруживают себя во главе большой массы людей, у них возникает искушение воспользоваться этой силой, чтобы пойти в политику. Я думаю, поэтому и возникает проблема того, что толерантность и сильные государства, сильные страны не всегда сочетаются. Так что роль религии всегда будет смешанной. Те, кто принадлежит конкретным религиозным традициям, должны стремиться к толерантности, но с другой стороны, нам не стоит особенно на это рассчитывать. Вопрос – Возможно, это самая объективная лекция на эту тему, которую я когда-либо слышал, но есть один аспект, о котором я хотел бы спросить. Он связан с национальным государством. Абсолютно верно, что в истории создания национального государства есть определенная доля принуждения, и на самом деле вы выступали в пользу прекрасного идеала – абсолютного индивидуализма. Однако насколько я могу судить из истории, единственные группы людей, у которых наблюдается развитие толерантности, хотя и не абсолютной, – это национальные государства, потому что иначе мы получаем группы, племена, воюющие друг с другом. Если вы хотите определить это национальное государство, то нужны единые законы и, возможно, определенные общие ценности, и конечно, очень трудно сказать, какие из этих ценностей должны быть приняты всеми. Возможно, вы захотите попытаться определить их. Согласитесь ли вы на единую правовую систему, или вы считаете, что у некоторых групп, например аборигенов, должна быть своя собственная? Считаете ли вы, что в некоторых группах от их имени могут выступать люди, которых никто не избирал, потому что в этих группах никогда раньше не было выборов? Я просто думаю, что национальное государство, какой бы плохой ни была его история, это единственное образование, которое хотя бы позволяет нам говорить о понятии толерантности. Профессор Кукатас – Как я понимаю, ваша мысль заключается в том, что я слишком критичен по отношению к национальному государству, потому что без него, по сути, мы не сможем добиться толерантности, так как для нее необходимы определенные предпосылки – единая правовая система, система представительства – и без этого мы не сможем стремиться к толерантности. Я не соглашусь с вами довольно во многих моментах. Во-первых, национальное государство – это сравнительно недавнее изобретение. К тому же еще до формирования национальных государств люди могли и умели сосуществовать мирным образом в любых общественных формациях. Национальное государство можно отнести примерно к XVI веку, но и до этого, безусловно, были организации людей, различные политические единицы в самых различных обществах; смотрим мы на средневековую Испанию с ее системой сосуществования евреев и мусульман, или на Древнюю Грецию, существуют все типы политических образований, в которых возможно сосуществование. Ваша мысль о том, что для таких вещей, как единая правовая система, нужно национальное государство, также не вполне верна. На самом деле, правовая система, в которой мы живем сейчас, выходит за пределы любого существующего национального государства по масштабам и по времени. Это правовая система, пересекающая государственные границы – в той степени, в какой мы говорим об обычном праве. Но даже если говорить о кодифицированном законодательстве, то в каждом национальном государстве мы находим разные юрисдикции. Есть штаты, есть местные власти, есть провинции. Существуют всевозможные юрисдикции, так что нет такого, чтобы для существования правовой системы требовалась единая, общая система, характерная именно для национального государства. Сказав все это, я не хочу предлагать избавиться от национального государства и говорить, что оно не выполняет никаких полезных функций или что можно вообще не иметь национального государства. В этой лекции моя цель – не предлагать избавиться от национального государства, а напомнить об осторожности применительно к любой власти, которую оно может приобрести естественным путем. Поскольку национальное государство, являясь современным институтом, за годы сконцентрировало в своих руках огромную власть, на протяжении последних нескольких веков в рамках того, что мы называем либеральными политическими обществами, наши традиции непрестанно пытались найти способ ограничить национальное государство, поставить препятствия к его деятельности, и мне особенно приятно говорить об этом, в частности, потому, что я здесь как гость Сената, являющегося одним из важнейших институтов, обеспечивающих необходимое сдерживание национального государства с тем, чтобы власть не концентрировалась где-то в одном месте. Она будет рассеяна, разделена между разными штатами, разными регионами, разными образованиями всех видов. Так что я принимаю часть ваших соображений, но и не соглашусь со многими из них. Вопрос – Ваше выступление сегодня напомнило мне другой пример политической риторики – о том, как недавно предлагалось двигаться к республиканской форме политической системе, при которой глава государства должен быть одним из нас. Прокомментируйте это, пожалуйста, в свете более широких тем, затронутых вами сегодня. Профессор Кукатас – Это риторический вопрос, потому что Билл прекрасно знает, что я монархист. По сути, я очень открытый и толерантный человек, я считаю, что очень множество людей является одними из нас, и я более чем счастлив считать королеву Елизавету одной из нас. Если серьезно, то я думаю, надо с осторожностью относиться к людям, которые утверждают, что мы должны искать людей или восхищаться людьми или призывать людей, потому что они в каком-то смысле одни из нас. Почему тот факт, что кто-то является одним из нас, должен иметь какое-то особое значение? Я понимаю, как это может иметь значение в личных отношениях. Я даю моему сыну карманные деньги – очень редко, но даю – потому что он часть меня, часть моей семьи, но почему мы должны считать это значимым фактором, если ищем человека для работы на госслужбе? Мне никогда это не казалось убедительным. Вопрос – В вашей лекции вы сказали, что толерантность, по существу, это слово, требующее определения, требующее некого наполнения, и вы определили его как принятие многообразия; точно так же такие слова, как идентичность и единство, необходимо определить, прежде чем они будут иметь какой-то смысл. Поэтому я считаю неправильным просто исходить из того, что это ругательные слова. Я думаю, что если единство определено в терминах однородности, то, может быть, это ругательное слово. Но если наша национальная идентичность определяется в терминах толерантности к многообразию, то наличие национальной идентичности – вовсе не плохо; я думаю, что проблема в том, что у нас нет идентичности на национальном уровне, позволяющей определить себя в терминах нашего существования на двух уровнях – национального единства и различия между подгруппами. Сейчас наша национальная идентичность определяется в терминах однородности. Но если у нас будет определение себя в терминах различий, это может дать какое-то решение. Я считаю ошибочным полагать, что мы существуем на одном уровне или на другом, мы существуем на обоих, на уровне общности и на уровне многообразия, вопрос в том, что они должны быть совместимы. Профессор Кукатас – Я полностью согласен с вами, и я не имел в виду, что единство – это ругательное слово, или по крайней мере не очень грязное ругательное слово, потому что в конечном счете я хотел предложить – и именно об этом шла речь в конце лекции – что если нам нужно какое-то единство, то толерантность – очень неплохая основа для его описания. Нас должно больше беспокоить, когда единство описывается исходя из нашей однородности. Я не хочу переоценивать это, потому что по отношению к тем, кто говорит о единстве, будет справедливым считать, что они на самом деле признают самые очевидные соображения о наших различиях по самым разным параметрам. Еще раз, я хотел предложить в каком-то смысле разогнуть палку, попытаться сказать примерно следующее – этим не следует увлекаться, потому что говоря о единстве, очень легко перейти к языку исключения, потому что как только начинаешь говорить о нас, о том, кто мы такие, естественным следствием из этого будет выявить других, которые не мы, и отсюда исходит опасность. Так что говорить о единстве в терминах толерантности, которая является общей, объединяющей нас традицией, абсолютно приемлемо. Вопрос – Я чувствую, что мы сегодня услышали лекцию, которая вносит важный вклад в дискуссию, которой так обеспокоены австралийцы. Но она была обращена вовнутрь. В ней рассматривалось устройство австралийского народа и предполагалось, что толерантность – одна из ценностей, достоинств, которые мы должны принять. Но я хотел бы услышать вашу точку зрения на то, как мы должны реагировать, если, скажем, One Nation, демонстрируют народам за пределами Австралии что-то, что мы считаем отвратительным, омерзительным и тому подобное. Для меня одним из важнейших аспектов происходящего является то, что как нация мы должны превзойти все или большую часть из того, о чем говорит One Nation. Вместо этого мы наблюдаем, что все эти идеи живы и распространяются вовне, и это становится опасным для Австралии как государства с точки зрения того, как ее видят другие – в особенности Азия и т.д. Профессор Кукатас – В целом, меня это беспокоит гораздо меньше по двум причинам. Первая – я считаю, что нас должно занимать не то, как нас видят остальные, а то, как нам быть самим, т.е. мы должны сконцентрироваться на правильных вещах, а не на том, чтобы остальные думали, что мы поступаем правильно. Это не означает, что все остальные остаются сами по себе, но я думаю, что в конце концов, неверно манипулировать восприятиями других, вместо того, чтобы предпринимать правильные шаги. Другая причина в том, что другие общества должны понять, что это не то, чем мы являемся на самом деле, и если они думают, что если одна группа, высказывая конкретное мнение, говорит от имени всех, то это ошибка. Я считаю, что мы должны им сказать об этом, но я не думаю, что нам следует что-то менять, потому что одна из вещей, важных для нашего общества, заключается в том, что оно позволяет людям говорить то, что они думают. Если они производят впечатление, что так думают все, тогда мы должны сказать, что это не так. Это то, что думают отдельные люди, а наша традиция разрешает людям делать это, и нам за это не стыдно, и людям в других странах придется с этим согласиться. Если вы скажете, что это повлияет на такие вещи, как количество студентов, приезжающих в Австралию, и на торговлю, то я думаю, что все это верно. Наверное, это один из видов издержек, возникающих в свободном обществе. Такие последствия возможны. Но реакция, на мой взгляд, должна заключаться в том, чтобы прямо заявить о том, во что вы верите, почему вы принимаете свободу этих людей говорить то, что вам не нравится, и почему вы считаете, что остальные должны согласиться с этой традицией и не спешить с суждениями. Я не думаю, что здесь есть еще какие-то разумные действия. Вопрос – Жаль, что наше руководство не сделало этого немного раньше. Профессор Кукатас – Ну, я не буду невежливым гостем и не стану комментировать это. Вопрос – Позвольте сначала поздравить вас с замечательной лекцией, в которой подняты очень важные вопросы. Но я просто хотел подчеркнуть одну мысль, которую подала моя жена, и она связана с пределами национального государства. Мне пришло в голову, что то, о чем вы говорили, относилось к мирному обществу. Обществу, которое не подвергалось стрессу в экономическом или военном смысле. В то же время возникает проблема, что такого рода общество, к которому, как я полагаю, мы все стремимся, будет расколото или столкнется с напряжением при атаке снаружи. Иными словами, в состоянии войны. Учитывая все печальные события, которые происходили в прошлом и могут произойти снова, где должны проходить пределы принуждения национального государства, пределы принуждения правовой системы, например, в противопоставлении к толерантности? Профессор Кукатас – Я понимаю, о чем вы говорите: в каком-то смысле избыток толерантности может сделать нас более уязвимыми. Я часто обсуждал этот вопрос с друзьями и коллегами и мой ответ на него всегда был более или менее одинаковым: я считаю, что это один из рисков, с которыми вы сталкиваетесь в свободном обществе. Издержки свободного общества, если их можно назвать издержками, состоят, в частности, в том, что тем, кто хочет его разрушить, становится легче. Альтернатива, или одно из возможных решений – принять более жесткие законы и правила, усилить полицейскую власть, государственную власть, попытаться подавить это, обеспечить отсутствие угроз со стороны диссидентов и террористов и т.п. Но это связано с риском превратить общество именно в то, от чего вы хотите его защитить. Что тогда делать? Вы позволите разрушить его тем, кто действует в этом направлении, или, по сути, разрушите его сами? Моя неизменная позиция такова, что свободные общества должны рисковать. Вот почему угроза для них всегда больше в случае террористических актов, скажем, – потому что это открытые общества. Люди могут передвигаться свободно. Могут приезжать и уезжать. Соглашаться ли на это? Я думаю, что, в конце концов, да. Опасно ли это? Я считаю, что тоже да. Жизнь на свободе – это в некоторой степени жизнь в опасности. Вопрос – В Германии 50 лет назад возникла политическая партия, которая определила некую группу в обществе и возложила на нее вину за наблюдавшиеся экономические и другие проблемы, и мы знаем, чем это закончилось. В Австралии 50 лет спустя появилась политическая партия, которая выявила как минимум две группы, которые, по ее мнению, в ответе за социальные проблемы здесь. Вы верите в то, что толерантность может помешать распространению этой болезни? Профессор Кукатас – В большой степени да. И я думаю, что если посмотреть на нацистскую Германию, одна из поразительных вещей состоит в том, насколько выросло значение Гитлера, когда он оказался в тюрьме. Во-первых, это дало ему возможность написать Mein Kampf, а затем он превратился в мученика. Это не к тому, что не было сделано ничего, чтобы его остановить, и я четко понимаю, что многое следовало сделать как внутри страны, так и на международном уровне. Но это и не к тому, что подавить его означало сделать что-то хорошее. По существу, необходимо сочетание норм толерантности с институтами, способными остановить криминал в чистом виде, и на этом нам следует сконцентрироваться, не относясь легче к нашим институтам толерантности. |
| [email protected] | Московский Либертариум, 1994-2020 | |