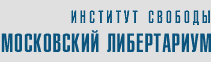Привычка -- вторая натура.
Цицерон
Нравственные законы, о которых
принято говорить, что они
порождены самой природой,
порождаются в действительности
тем же обычаем.
М. Монтень
Но две души живут во мне,
И обе не в ладах друг с
другом.
Иоганн Волъфганг Гете
Биологическая эволюция и эволюция культуры
Древние мыслители полагали принципиально невозможным такой порядок
человеческой деятельности, который нельзя было бы объять непосредственным
восприятием упорядочивающего разума. Даже Аристотель, философ более позднего
времени, продолжал считать, что порядок среди людей ограничивается лишь
пределами слышимости голоса глашатая (Ethics, IX, X) и что поэтому невозможно
создать государство, которое насчитывало бы 100 тысяч человек. Однако то, что
Аристотелю казалось невероятным, уже существовало, когда он писал эти слова.
Ограничивая человеческий порядок пределами слышимости голоса глашатая,
Аристотель, при всех своих научных достижениях, руководствовался инстинктами, а
не наблюдениями или рефлексией.
Подобные воззрения вполне объяснимы, поскольку человеческие инстинкты,
полностью сформировавшиеся задолго до Аристотеля, не были приспособлены для
жизни в таких условиях и при такой численности населения, какие существовали в
его время. Они годились для жизни в небольших кочующих отрядах или стадах,
пребывая в которых, человеческий род и его непосредственные предки развивались в
течение нескольких миллионов лет, пока происходило биологическое формирование
вида homo sapiens. С помощью этих генетически унаследованных инстинктов
регулировался процесс сотрудничества между членами стада -- сотрудничества,
неизбежно представлявшего собой узко-ограниченное взаимодействие соплеменников,
хорошо знавших друг друга и доверявших друг другу. Эти первобытные люди
руководствовались конкретными, одинаково понимаемыми целями и исходили из
одинакового восприятия опасностей и возможностей их среды обитания (в основном
укрытий и источников пропитания). Они не только могли слышать своего
глашатая, но обыкновенно знали его в лицо.
Даже если более богатый опыт обеспечивал определенную власть кому-то из
старейших членов группы, ее деятельность все же координировалась именно
единством целей и общностью восприятия. Механизмы координации решающим образом
зависели от инстинктов солидарности и альтруизма -- инстинктов, действовавших
внутри своей группы, но не распространявшихся на чужие. Члены таких малых групп
могли вести только коллективный образ жизни: оставшись в одиночестве, человек
вскоре погибал. Отсюда следует, что первобытный индивидуализм Томаса Гоббса --
миф. Дикарь не был одинок, и по своим инстинктам являлся коллективистом.
Состояния "войны всех против всех" не было никогда.
Безусловно, если бы мы своими собственными глазами не видели существующего в
наше время порядка, мы тоже вряд ли поверили бы, что он вообще возможен, и сочли
бы любое сообщение о нем чудесной историей про то, чего не может быть.
Обнаружить исток такого необыкновенного порядка и понять, что обеспечило
существование человечества в его нынешнем составе и численности, значит
обнаружить и понять постепенно вырабатывавшиеся правила человеческого поведения
(особенно касающиеся честности, договоров, частной собственности, обмена,
торговли, конкуренции, прибыли и частной жизни). Эти правила передаются
благодаря традициям, обучению, подражанию, а не инстинкту, и по большей части
состоят из запретов ("не укради"), устанавливающих допустимые пределы свободы
при принятии индивидуальных решений. Человечество создало цивилизацию, развивая
определенные правила поведения и приучаясь следовать им (сначала на территории
племени, а затем и на более обширных пространствах). Зачастую эти правила
запрещали индивиду совершать поступки, диктуемые инстинктом, и уже не зависели
от общности восприятия. Образуя фактически новую и отличную от прежней мораль
(и, будь моя воля, я именно к ним -- и только к ним -- применял бы термин
"мораль"), они сдерживают и подавляют "естественную мораль", т. е. те инстинкты,
которые сплачивали малую группу и обеспечивали сотрудничество внутри нее,
блокируя и затрудняя этим ее расширение.
Я предпочитаю употреблять термин "мораль" для обозначения таких
неинстинктивных правил поведения, которые позволили человечеству,
распространившись по всей земле, создать расширенный порядок. Дело в том, что
понятие "мораль" имеет смысл только при противопоставлении ее импульсивному,
нерефлексивному поведению, с одной стороны, и рациональному расчету, нацеленному
на получение строго определенных результатов, -- с другой. Врожденные рефлексы
не имеют нравственного измерения, так что "социобиологи", употребляющие по
отношению к ним такие термины, как "альтруизм" (причем, чтобы быть
последовательными, им пришлось бы считать самым альтруистическим действием
совокупление), в корне заблуждаются. Альтруизм превращается в моральную
категорию только в том случае, если подразумевается, что мы должны
подчиняться "альтруистическим" побуждениям.
Конечно, это далеко не единственно возможное применение данных
терминов. Бернард Мандевиль эпатировал современников, утверждая, что "зло...
является тем великим принципом, который делает нас социальными существами,
является крепкой основой, животворящей силой и опорой всех профессий и занятий
без исключения" (1715/1924 <Мандевиль, 1974: 343>). Под "злом" он как раз
и имел в виду то, что правила расширенного порядка вступают в столкновение с
врожденными инстинктами, сплачивавшими малую группу.
Коль скоро мы сочли нормы морали (morals) традициями, которые
прививаются человеку и которым он научается, а не врожденными инстинктами, то
возникает немало интересных вопросов об их соотношении с тем, что принято
называть чувствами, эмоциями или переживаниями. Например, хотя нормы морали и
прививают, они не выступают непременно в виде свода эксплицитно выраженных
правил, а могут проявляться, как проявляются настоящие инстинкты, т. е. как
смутное неприятие действий определенного рода или отвращение к ним. Зачастую они
помогают нам сориентироваться и сделать выбор: какому из врожденных
инстинктивных влечений дать волю, а какое подавить.
Могут спросить: каким образом сдерживание инстинктивных побуждений
способствует координации деятельности большого числа людей? Ну, например,
постоянное соблюдение заповеди "люби ближнего своего, как самого себя" должно
было бы препятствовать распространению расширенного порядка. Ведь живущие ныне в
условиях расширенного порядка выигрывают, когда не любят ближнего своего,
как самого себя, и вместо правил солидарности и альтруизма применяют при
взаимодействии правила расширенного порядка (уважают частную собственность,
выполняют заключенные договоры). Порядок, при котором каждый относился бы к
ближнему своему, как к самому себе, мало кому позволял бы "плодиться и
размножаться". Скажем, если бы мы считали своим долгом откликаться на все
призывы о благотворительности, которыми забрасывают нас средства массовой
информации, то это всерьез отвлекло бы нас от занятия той деятельностью, в какой
мы наиболее компетентны. Скорее всего, это превратило бы нас в орудия отдельных
групп с их специальными интересами или сделало жертвами предвзятых мнений об
относительной важности тех или иных потребностей. Это не обеспечило бы
правильного лечения социальных болезней, которые нас, по вполне понятным
причинам, беспокоят. Точно так же необходимо обуздывать инстинктивную
агрессивность по отношению к чужим, чтобы единые абстрактные правила
распространялись на отношения между всеми людьми и, значит, пересекали
межгрупповые границы -- даже границы государств.
Итак, формирование надындивидуальных схем (patterns), или систем
сотрудничества, требовало от индивидов изменения своей "естественной", или
"инстинктивной", реакции на других людей, т. е. чего-то, вызывавшего сильное
сопротивление. Идея, что эти "частные пороки", вступая в конфликт с врожденными
альтруистическими инстинктами, могут обернуться, по выражению Бернарда
Мандевиля, "общественным благом", и что люди должны подавлять некоторые
"хорошие" инстинкты во имя развития расширенного порядка, также стала позднее
источником разногласий. Руссо, например, принял сторону "природных" инстинктов,
в то время как его современник Юм ясно осознавал, что "этот благородный аффект
(щедрость) вместо того, чтобы приспосабливать людей к большим обществам, почти
столь же сильно препятствует этому, как и самый узкий эгоизм" (1739/1886: II,
270 <Юм, 1965: I, 270>).
Следует подчеркнуть еще раз, что ограничения, налагаемые на обычаи
(practices) малых групп, вызывают к себе ненависть. Ибо, как мы увидим,
индивид, соблюдающий запреты, не понимает и обычно не способен понять, как они
функционируют и каким образом служат ему во благо, даже если от их соблюдения
зависит его жизнь. Вокруг него такое огромное количество привлекательных вещей,
а ему нельзя их присваивать. Он не в состоянии проследить зависимость между
благоприятными для него особенностями среды его существования и дисциплиной,
которой он вынужден подчиняться, -- дисциплиной, запрещающей ему притрагиваться
ко всем этим манящим вещам. Вряд ли можно сказать, что, относясь к этим
ограничениям с такой неприязнью, мы, тем не менее, выбрали их сами; скорее, это
они нас выбрали: они позволили нам выжить.
Не случайно многие абстрактные правила, скажем, касающиеся личной
ответственности и индивидуализированной собственности, имеют прямое отношение к
экономической науке. С самого своего рождения экономическая наука взялась
изучать, как возникает расширенный порядок человеческого взаимодействия в
процессе опробования вариантов: их отсева и отбора -- процессе, не подвластном
нашему воображению или нашей способности планировать. Адам Смит был первым, кто
понял, что методы упорядочения экономического сотрудничества, на которые мы
натолкнулись, не умещаются в пределах нашего знания и нашего восприятия. Его
"невидимую руку", наверное, правильнее было бы определить как невидимую или не
поддающуюся непосредственному восприятию структуру (pattern). Например, система
ценообразования при рыночном обмене заставляет нас действовать под влиянием
обстоятельств, нам практически не известных и могущих порождать результаты, нами
вовсе не планировавшиеся. Занимаясь экономической деятельностью, мы не знаем ни
потребностей других людей (потребностей, которые мы удовлетворяем), ни
источников получаемых нами благ. Практически все мы помогаем людям, с которыми
не только не знакомы, но о существовании которых и не подозреваем. И мы сами
живем, постоянно пользуясь услугами людей, о которых нам ничего не известно. Все
это становится возможным благодаря тому, что, подчиняясь определенным правилам
поведения, мы вписываемся в гигантскую систему институтов и традиций:
экономических, правовых и нравственных. Мы никогда не создавали их, и мы никогда
их не понимали -- в том смысле, в каком нам понятно предназначение
изготавливаемых нами вещей.
Современная экономическая наука объясняет возникновение подобного
расширенного порядка и то, почему он, являясь не чем иным как процессом
переработки информации, способен собирать и использовать информацию, широко
рассеянную -- такую, которую ни один орган централизованного планирования (не
говоря уже об отдельном индивиде) не может ни знать в полном объеме, ни
усваивать, ни контролировать. Человеческое знание, как было известно еще Адаму
Смиту, распылено. Он писал: "Очевидно, что каждый человек, сообразуясь с
местными условиями, может гораздо лучше, чем это сделал бы вместо него любой
государственный деятель, судить о том, к какому именно роду отечественной
промышленности приложить свой капитал и продукт какой промышленности может
обладать наибольшей стоимостью." (1776/1976: II, 487 <Смит, 1962: 332>).
Или, как выразился один проницательный мыслитель-экономист XIX века,
экономическое предпринимательство требует "досконального знания тысячи мелочей,
в которые не станет вникать никто, кроме заинтересованного в подобном знании"
(Bailey, 1840: 3). Такие институты по сбору и передаче информации, как рынок,
позволяют нам использовать это рассеянное и незримое знание для формирования
надындивидуальных схем (patterns). После того как институты и традиции,
основанные на такого рода надындивидуальных схемах, получили развитие-стремление
к согласию относительно какой-то общей цели (как это было в малой по численности
группе) перестало быть обязательным, поскольку широко рассеянные среди людей
знания и навыки теперь вполне можно было пускать в ход для достижения самых
разнообразных целей.
Это направление исследований хорошо прослеживается как в биологии, так и в
экономической науке. Даже в собственно биологическом мире "эволюционные
изменения, в общем, нацелены на максимальную экономию в использовании ресурсов",
и "эволюция, таким образом, "вслепую" движется по пути максимального
использования ресурсов" (Howard, 1982: 83). Более того, как справедливо заметил
один современный биолог, "этика -- это наука о способах распределять (allocate)
ресурсы" (Hardin, 1980: 3). Все это указывает на тесные взаимосвязи между
эволюцией, биологией и этикой.
Понятие порядка, так же как и понятия ближайших его эквивалентов --
"системы", "структуры" и "модели" -- постигаются с трудом. Нам следует различать
два разных, хотя и связанных между собой, смысла этого понятия. Глагол
"упорядочить" и существительное "порядок" могут употребляться, когда речь идет
либо о результатах мыслительной деятельности по систематизации или
классификации объектов и событий (самые различные аспекты которых фиксируются
нашим чувственным восприятием) в соответствии с требованиями научной
реорганизации чувственного опыта (Hayek, 1952), либо о конкретных
материальных структурах, которыми предположительно обладают объекты и
события или которые становятся им присуши в определенный момент, регулярность"
(от латинского regula -- "правило") и "порядок" просто-напросто
обозначают соответственно временной и пространственный аспекты одного и того же
типа отношений между элементами.
С учетом этого различия мы можем сказать так: люди обрели способность
к созданию упорядоченных материальных структур, обеспечивающих им удовлетворение
каких-то потребностей, потому что умели упорядочивать на основе тех или иных
определенных принципов чувственные раздражители, поступавшие к ним из внешней
среды. Данная мыслительная реорганизация оказывается в свою очередь
надстроенной над порядком, или классификацией, производимой нашими
чувствами и инстинктами чувств. Упорядочение в смысле классификации объектов и
событий -- это путь к активной их реорганизации (rearrangement) в целях
получения желаемых результатов.
Мы учимся классифицировать объекты в основном благодаря языку. С его
помощью мы не просто даем названия знакомым типам объектов, но определяем; какие
объекты или события мы должны считать принадлежащими к тому же типу, а
какие -- к другому. Из обычаев, нравственных правил и правовых норм мы узнаем
также о следствиях, ожидаемых в результате различных видов действий.
Оказывается, например, что ценности или цены, складывающиеся в результате
рыночного взаимодействия, -- это еще одна, дополнительно надстраиваемая система
классификации типов действий -- классификации с точки зрения их значимости для
порядка, отводящего индивиду роль всего лишь одного из элементов целого, того
целого, которого он вовсе и не создавал.
Расширенный порядок, конечно же, появился не в одночасье; процесс его
становления был продолжителен и проходил через большее разнообразие форм, чем
можно предположить, если судить лишь по заключающему его превращению в мировую
цивилизацию (он длился, может быть, сотни тысяч, а не пять или шесть тысяч лет);
так что рыночный порядок -- сравнительно позднее образование. Различные
структуры, традиции, институты и другие компоненты этого порядка возникали
постепенно как вариации тех или иных привычных способов поведения. Новые правила
подобного рода распространялись не потому, что люди сознавали их большую
эффективность или могли предположить, что они приведут к росту населения, но
просто потому, что придерживающиеся их группы начинали успешнее воспроизводиться
и включать в свой состав аутсайдеров.
Эта эволюция происходила, следовательно, аналогично биологической эволюции:
новый опыт распространялся передачей приобретенных привычек. Правда, ряд важных
признаков отличает ее от биологической эволюции. Ниже я рассмотрю некоторые из
этих аналогий и различий, здесь же мы можем отметить, что за те десять или
двадцать тысяч лет, в течение которых развилась цивилизация, биологическая
эволюция успела бы изменить или вытеснить врожденные реакции человека в гораздо
меньшей степени. Я не говорю уже о том, что из-за своей относительной
замедленности действие биологической эволюции не успело бы сказаться на весьма
многочисленном нынешнем поколении людей, чьи предки приобщились к
цивилизационным процессам лишь несколько столетий назад. Тем не менее, насколько
нам известно, все группы, цивилизовавшиеся к настоящему времени, оказываются
одинаково способными продвигаться к цивилизации, приобщаясь к определенным
обычаям и традициям. Таким образом, маловероятно, что цивилизация и культура
детерминируются и передаются генетически. Все одинаково осваивают их через
освоение определенных традиций.
Самое раннее из известных мне прямых высказываний об этом принадлежит
А. М. Карр-Сондерсу, который писал, что "люди и группы проходят естественный
отбор в зависимости от принятых ими обычаев, точно так же как они проходят отбор
в зависимости от своих умственных и физических данных. Те группы, которые
придерживаются наиболее полезных обычаев, в процессе постоянной межгрупповой
борьбы будут получать преимущество над теми из соседних групп, которые
придерживаются менее полезных обычаев" (1922: 223, 302). Карр-Сондерс, однако,
подчеркивал способность обычаев сдерживать, а не увеличивать рост населения. Из
недавних исследований стоит обратиться к работам Алланда (1967); Фарба (1968:
13); Симпсона, который, сопоставляя культуру с биологическим развитием,
определил ее как "более мощное средство приспособления" (в кн.: B. Campbell,
1972), Поппера, заявляющего, что "культурная эволюция есть продолжение
генетической эволюции другими средствами" (Popper and Eccles, 1977: 48); и
Дюрама (в кн.: Chagnon and Irons, 1979: 19), подчеркивающею воздействие
различных устоев и обычаев на процесс увеличения численности населения.
Постепенное вытеснение врожденных реакций благоприобретенными правдами
поведения все более выделяло человека из животного мира, хотя склонность к
инстинктивным массовым действиям остается одним из нескольких животных качеств
низшего порядка, сохраненных человеком (Trotter, 1916). Животные предки человека
обрели определенные "культурные" традиции раньше, чем превратились в
современного человека анатомически. Подобные культурные традиции способствовали
также формированию некоторых сообществ животных, например, птиц или обезьян, и,
возможно, многих других млекопитающих (Bonner, 1980). Однако решающим в
превращении животного в человека оказалось именно обуздание врожденных реакций,
обусловленное развитием культуры
Благоприобретенные правила поведения, которым индивид стал подчиняться по
привычке и почти так же бессознательно, как унаследованным инстинктам, все
больше вытесняют последние. Но мы не можем четко разграничить эти две
детерминанты поведения" поскольку они пребывают в сложном взаимодействии. Нормы
и привычки, усвоенные в младенчестве, становятся такой же частью нашей личности,
как и то, что уже направляло наше поведение, когда усвоение только начиналось.
Даже в строении человеческого тела произошли некоторые органические изменения,
поскольку они помогали человеку полнее использовать благоприятные возможности,
предоставляемые развитием культуры. Для задач нашего исследования несущественно
также и то, в какой мере абстрактная структура, именуемая сознанием (mind),
передается генетически и воплощается в физическом строении нашей центральной
нервной системы, а в какой она служит всего лишь вместилищем для впитываемых
нами культурных традиций. Как генетические, так и культурные механизмы передачи
опыта могут быть названы традициями. Важно же то, что между этими механизмами
часто возникает конфликт в формах, о которых у нас уже шла речь.
Даже почти всеобщая встречаемость некоторых культурных характеристик не
доказывает их генетической обусловленности. Не исключено, что существует
один-единственный способ ответить на определенные требования, возникающие в
процессе формирования расширенного порядка. Но ведь и крылья были явно
единственным приспособлением, с помощью которого живые организмы научились
летать, и при этом крылья насекомых, птиц, летучих мышей имеют совершенно
различное генетическое происхождение. Точно так же существует, может быть,
практически единственный способ развития устной речи. Однако наличие во всех
языках определенных общих признаков само по себе тоже не доказывает, что они
обусловлены врожденными способностями.
Две системы морали: сотрудничество и конфликт
Хотя культурная эволюция и созданная ею цивилизация принесли человечеству
дифференциацию, индивидуализацию, увеличение богатства и огромный рост
населения, постепенное их разворачивание было далеко не гладким. Мы не
избавились от наследия, доставшегося нам от знавших друг друга в лицо членов
первобытного стада, а унаследованные от них инстинкты не полностью
"приноровились" к нашему относительно недавно сложившемуся расширенному порядку
и отнюдь не безвредны для него.
Вместе с тем не следует упускать из виду долговременной пользы от некоторых
инстинктов, в том числе и такой, как их взаимозаменяемость, -- по крайней мере,
частичная. Например, к тому времени, как некоторые способы врожденного поведения
начали вытесняться культурой, генетическая эволюция в свою очередь, скорее
всего, уже наделила человеческие особи огромным разнообразием качеств, дающих
возможность людям лучше, чем любым видам неодомашненных животных,
приспосабливаться к существованию в разнообразных экологических нишах, в которые
они попадали. И дело, по-видимому, обстояло именно так еще до того, как
углубившееся межгрупповое разделение труда обеспечило более высокие шансы на
выживание группам определенного типа. В числе самых значительных врожденных
признаков, содействовавших вытеснению других природных инстинктов,
значительнейшим было умение перенимать опыт своих соплеменников, особенно путем
подражания. Удлинение периодов детства и юности, сыгравшее благоприятную роль в
развитии этого умения, было, пожалуй, последним решающим шагом, обусловленным
биологической эволюцией.
Кроме того, расширенный порядок складывается в результате взаимодействия не
только отдельных индивидов, но и многообразных, часто накладывающихся друг на
друга субпорядков. А в этих рамках прежние инстинктивные реакции -- такие как
солидарность и альтруизм -- продолжают сохранять определенное значение,
содействуя добровольному сотрудничеству, несмотря на то, что сами по себе они
неспособны создать основы для более расширенного порядка. Наши сегодняшние
трудности возникают частично из-за того, что мы вынуждены постоянно
приспосабливать нашу жизнь, наши мысли и эмоции к одновременному проживанию
внутри различного типа порядков, сообразуясь с различными правилами. Если бы нам
приходилось однозначно, ничем не смягчая и не корректируя, переносить правила
микрокосма (т. е. малой группы или стада, или, скажем, наших семей) на макрокосм
(на более широкий мир нашей цивилизации), к чему нас нередко подталкивают наши
инстинкты и сентиментальные порывы, то мы разрушали бы макрокосм. Вместе
с тем, если бы мы всегда применяли правила расширенного порядка в нашем более
интимном кругу общения, то мы бы уничтожили его. Следовательно, мы должны
научиться жить в двух мирах одновременно. Едва ли стоит называть "обществом" оба
мира, или хотя бы один из них, поскольку это могло бы повести к серьезным
недоразумениям (см. гл. 7).
И все же, несмотря на преимущества, связанные с нашей, пусть несовершенной,
способностью жить одновременно в двух системах правил и уметь
разграничивать их, и то и другое дается не так-то просто. Действительно, наши
инстинкты часто угрожают опрокинуть все здание. Таким образом, тема моей книги в
известном смысле перекликается с темой "Неудовлетворенности культурой" Фрейда
(1930) с той только оговоркой, что мои выводы сильно отличаются от его выводов.
Действительно, конфликт между тем, что инстинктивно нравится, и прививаемыми
правилами поведения, позволившими людям увеличить свою численность, -- конфликт,
возникающий из-за дисциплины, диктуемой "репрессивными или запретительными
традициями морали" (выражение Д. Т. Кэмпбелла) -- это, пожалуй, главная тема
истории цивилизации. Похоже, что Колумб сразу понял, что жизнь встреченных им
"дикарей" больше способствует проявлению врожденных человеческих инстинктов. И
как будет показано ниже, я полагаю, что атавистическая тоска по жизни
благородного дикаря является основным источником коллективистской традиции.
Человек естественный не вписывается в расширенный порядок
Едва ли стоит ожидать, чтобы расширенный порядок, идущий вразрез с некоторыми
из сильнейших инстинктивных желаний, понравился людям или чтобы они сразу же
поняли, что он обеспечивает материальные удобства, которых они тоже желают. Этот
порядок носит сугубо "неестественный" характер -- в прямом значении этого слова.
Ибо он не сообразуется с биологическим естеством человека. И получается, что
множество добрых дел, совершаемых человеком в условиях расширенного порядка,
совершается им вовсе не потому, что он добр от природы. Вместе с тем нелепо было
бы умалять ценность цивилизации из-за ее "искусственного" характера. Она
искусственна только в том смысле, в каком искусственны многие наши ценности, наш
язык, наше искусство и сам наш разум: они не заложены генетически в наших
биологических структурах. В другом, однако, смысле расширенный порядок носит
вполне естественный характер, ибо, подобно сходным биологическим феноменам, он
естественно развивался в процессе естественного отбора (см. приложение А).
Тем не менее, верно, что в основном ни наша повседневная жизнь, ни
большинство наших профессиональных занятий не способствуют удовлетворению
глубинного "альтруистического" желания приносить ощутимую пользу ближнему.
Скорее, общепринятые практики нередко заставляют нас воздерживаться от того, к
чему побуждают инстинкты. В конфликте не столько эмоции и разум (как это часто
предполагают), Сколько врожденные инстинкт и усвоенные в ходе обучения правила
поведения. И все же -- мы увидим это -- следование усвоенным правилам
обыкновенно приносит сообществу в целом больше пользы, чем большинство сугубо
"альтруистических" поступков, которые могли бы быть предприняты отдельным
индивидом.
Одним из красноречивых свидетельств того, сколь превратно понимается присущий
рынку принцип упорядочения, служит расхожее мнение, что "сотрудничество
(кооперация) лучше конкуренции". Сотрудничество, как и солидарность,
предполагает большую степень согласия как по поводу целей, так и по поводу
средств их достижения. Оно имеет смысл в малой группе, члены которой обладают
сходными привычками, знаниями и представлениями о своих возможностях. Оно едва
ли имеет какой-либо смысл, когда проблема заключается в приспособлении к
незнакомым обстоятельствам. Однако в основе координации усилий в рамках
расширенного порядка лежит именно приспособление к неизвестному. Конкуренция
представляет собой процедуру открытия, узнавания нового -- процедуру, присущую
эволюции во всех ее формах, заставляющую человека помимо собственной воли
вписываться в новые ситуации. И именно за счет возрастающей конкуренции, а не за
счет солидарности повышается постепенно наша эффективность.
Чтобы конкуренция приносила благоприятные результаты, ее участники должны
соблюдать определенные правила поведения, а не прибегать к физической силе.
Только общие правила поведения могут придать единство расширенному порядку.
(Совместные цели могут выполнять эту задачу лишь в периоды временных
чрезвычайных обстоятельств, создающих общую угрозу для всех. "Моральный
эквивалент войны", предлагаемый для пробуждения солидарности, -- не более чем
рецидив менее зрелых принципов координации). В условиях спонтанного порядка
незачем знать ни обо всех преследуемых целях, ни обо всех используемых
средствах, чтобы учитывать их в своем поведении. В этом нет нужды, поскольку
такой порядок формируется сам по себе. И если правила, создающие порядок,
становятся все более совершенными, так это не потому, что люди начинают лучше
понимать свою задачу, а потому, что процветания достигают те группы, которым
удается изменять правила поведения так, чтобы способность к адаптации у них
возрастала. Характер этой эволюции не прямолинеен, он складывался в процессе
постоянных проб и ошибок, непрерывного "экспериментирования" в сферах, где
происходило "соперничество" между порядками разного типа. Разумеется, никакого
специального намерения ставить эксперименты здесь не было -- и все же изменения
правил поведения, вносимые исторической случайностью, действующей аналогично
генетическим мутациям, оказывались неким подобием экспериментирования.
Эволюция правил поведения проходила отнюдь не гладко, поскольку силы,
призванные охранять их, обычно противодействовали, а не способствовали
изменениям, вступавшим в противоречие с устоявшимися взглядами на то, что
считать правильным или справедливым. Случалось и так, что принудительное
распространение новых, недавно пробивших себе дорогу и ставших общепринятыми
правил блокировало переход на следующую ступень эволюции или сдерживало
дальнейшее расширение координации индивидуальных усилий. Органы принуждения
редко поощряли подобное расширение координации усилий, хотя время от времени они
брались за насаждение морали, которая уже завоевала признание в правящей группе.
Все это подтверждает, что чувства, восстающие против ограничений, налагаемых
цивилизацией, анахроничны и приспособлены к размерам и условиям жизни групп
далекого прошлого. Более того, если цивилизация сложилась в результате
постепенных непреднамеренных изменений морали, тогда, как ни противоречит это
нашим хотениям, мы должны навсегда оставить надежду на создание какой бы то ни
было имеющей универсальную значимость системы этики. Но и заключать, строго
исходя из этих эволюционных предпосылок, что любое установившееся правило
непременно и всегда благоприятствует выживанию и росту популяций, следующих ему,
было бы неправильно. Нам еще предстоит показать с помощью экономического анализа
(см. гл. 5), каким образом спонтанно возникающие правила в целом способствуют
выживанию человека. Признавая, что правила отбираются в основном в процессе
конкуренции в соответствии с их относительной ценностью для выживания человека,
мы никоим образом не ограждаем их от тщательного критического разбора. Он
необходим уже потому, что процесс культурной эволюции очень часто подвергался
насильственному вмешательству.
Однако верное понимание культурной эволюции, по существу, обеспечивает своего
рода "презумпцию невиновности" утвердившимся правилам поведения, а бремя
доказательства их нецелесообразности ложится на плечи тех, кто требует их
пересмотра. Историческое и эволюционное исследование зарождения капитализма (как
оно, например, представлено в главах 2 и 3) не может доказать превосходства
рыночных институтов. Тем не менее, оно помогает объяснить появление столь
продуктивных -- хоть и непопулярных и никем не изобретавшихся -- традиций и
важное их значение для людей, попадающих в условия расширенного порядка. Однако
на только что намеченном пути возникает камень преткновения, который мне сразу
же хотелось бы убрать. Это широко распространенное заблуждение, касающееся того,
как мы перенимаем полезные обычаи.
Человеческое сознание -- не направляющая сила, а продукт культурной эволюции,
и зиждется более на подражании, чем на интуиции и разуме
Мы уже упомянули о способности обучаться путем подражания как об одном из
главных преимуществ, унаследованных нами от длительного периода инстинктивного
развития. Действительно, пожалуй, самая важная способность, которой наряду с
врожденными рефлексами человеческий индивид наделен генетически, -- это его
способность в ходе обучения приобретать навыки преимущественно путем подражания.
Ввиду этого важно с самого начала избавиться от представления, рожденного
"пагубной самонадеянностью", как я ее называю, т. е. от идеи, что источник
способности приобретать навыки -- это разум. Ведь на самом деле все наоборот:
наш разум -- такой же результат процесса эволюционного отбора, как и наша
мораль. Только он является продуктом несколько иной линии развития, нежели
мораль, так что не следует полагать, будто наш разум находится по отношению к
ней на более высокой критической ступени и что силу имеют только те нравственные
правила, которые санкционированы разумом.
Я рассматриваю эти вопросы в последующих главах, но, возможно, какое-то
предварительное представление о моих выводах уместно дать сейчас. Название
настоящей главы -- "Между инстинктом и разумом" -- надо понимать буквально. Я
хотел бы привлечь внимание к тому, что лежит действительно между
инстинктом и разумом и вследствие этого часто упускается из виду только из-за
предположения, что "между" ними ничего нет. Иными словами, меня занимает, прежде
всего, эволюция культуры и морали, эволюция расширенного порядка, которая, с
одной стороны (как мы только что видели), выходит за рамки инстинкта и часто
противостоит ему и которую, с другой стороны (как мы увидим позднее), разум не в
состоянии был спроектировать или сотворить.
Вкратце мои взгляды -- некоторые из них в сжатом виде были изложены ранее
(1952/79, 1973, 1976, 1979) -- могут быть суммированы очень просто. Усвоение
правил поведения -- это по большей части источник, а не результат
интуиции, разума и понимания. Человек не рождается мудрым, рациональным и добрым
-- чтобы стать таким, он должен обучиться. Наша мораль отнюдь не есть продукт
нашего интеллекта;
скорее, человеческое взаимодействие, регулируемое нашими моральными нормами,
делает возможным развитие разума и способностей, связанных с ним. Человек стал
мыслящим существом благодаря усвоению традиций -- т. е. того, что лежит
между разумом и инстинктом. Эти традиции, в свою очередь, ведут происхождение не
от способности рационально интерпретировать наблюдаемые факты, а от привычных
способов реагирования. Они, прежде всего, подсказывали человеку, что он должен,
и чего не должен делать в данных обстоятельствах, а не то, чего он должен
ожидать.
Далее, признаюсь, что я не в силах удерживаться от улыбки, когда книги по
эволюции (даже написанные великими учеными) при признании, что до сих пор асе
развивалось в процессе спонтанного упорядочения, заканчиваются (а это случается
часто) призывами к человеческому разуму взять бразды правления и контролировать
дальнейшее развитие, поскольку жизнь стала чудовищно сложной. Подобные благие
пожелания поощряются "конструктивистским рационализмом" (как я назвал это в
другом месте, 1973), оказывающим серьезное воздействие на научное мышление. Это
совершенно явственно отражено в заголовке книги хорошо известного
антрополога-социалиста, пользовавшейся большим успехом. Причем заголовок книги
-- "Человек творит самого себя" (V. Gordon Childe, 1936) -- был принят многими
социалистами в качестве своего рода пароля (Heilbroner, 1970: 106). Это
высокомерное заявление замешано на ненаучных, даже анимистических представлениях
о том, что рациональное человеческое мышление, или душа, на определенной стадии
вошло в развивающееся человеческое тело и стало новым, активным проводником
последующей эволюции культуры. На самом же деле произошло следующее:
человеческое тело постепенно приобрело способность усваивать чрезвычайно сложные
принципы, позволявшие ему успешнее перемещаться в окружающей среде. Полагать,
что культурная эволюция целиком относится к более позднему времени, чем
биологическая или генетическая, значит упускать из виду самую важную стадию
эволюционного процесса: ту, на которой сформировался сам разум. Идея разума,
который сперва возник в ходе эволюции, а потом вдруг научился самостоятельно
определять направление своего собственного будущего развития, внутренне
противоречива и может быть легко опровергнута. (Не говорю уже о многом другом,
чего разум также не в состоянии совершать; см. гл. 5 и 6). Было бы точнее
говорить не о том, что мыслящий человек творит и контролирует собственную
культурную эволюцию, а заявить, что культура и эволюция создали его разум. В
любом случае идея, будто в какой-то момент сознательное конструирование
вмещалось и вытеснило эволюцию, по существу, подменяет научное объяснение
сверхъестественным постулатом. Научное же объяснение состоит в том, что
человеческое сознание, каким мы его знаем, вовсе не было единственной движущей
силой цивилизации, целиком определявшей направление ее эволюции, но скорее оно
само развивалось и эволюционировало совместно и одновременно с цивилизацией.
Человек не наделен уже от рождения тем, что мы называем сознанием (mind), -- это
не мозг, с которым он рождается, и не то, что его мозг вырабатывает.
Человеческое сознание есть то, что на основе имеющегося генетического потенциала
(т. е. мозга определенной величины и структуры) каждый индивид по мере
взросления перенимает от своей семьи и от старших, впитывая генетически не
передаваемые традиции. Понимаемое так человеческое сознание -- это не столько
поддающиеся проверке знания о внешнем мире или осуществляемые человеком
интерпретации непосредственного своего окружения, сколько способность обуздывать
инстинкты -- способность, которую нельзя наблюдать на примере индивидуального
разума, поскольку она проявляется только в группе. Взращенное и сформированное
средой индивидуальное человеческое сознание в свою очередь действует так, чтобы
сохранить, развивать, обогащать и разнообразить существующие традиции. Через
человеческое сознание, складывающееся преимущественно в семье, одновременно
проходит множество потоков различных традиций, в любую из которых новый член
данного сообщества может погрузиться. Вопрос: а можно ли про индивида, не
имевшего возможности приобщиться к такого рода культурным традициям, сказать,
что он вообще обладает сознанием -- вполне резонен.
Как инстинкт древнее обычая и традиции, так и последние древнее разума:
обычай и традиции находятся между инстинктом и разумом -- в логическом,
психологическом и временном смысле. Они не обусловлены ни тем, что именуется
иногда бессознательным, ни интуицией, ни рациональным пониманием. Хоть и
основанные на опыте человека (в том смысле, что они складывались в ходе эволюции
культуры), обычаи и традиции формировались не путем выведения рациональных
заключений из конкретных фактов или постижения каких-то общих закономерностей
окружающего мира. Управляемые в своем поведении тем, чему научились, мы зачастую
не знаем, почему мы делаем то, что делаем. Врожденные реакции последовательно
вытеснялись благоприобретенными моральными правилами и обычаями не потому, что
люди понимали разумом, что они, эти правила и обычаи, лучше. Просто, благодаря
им, преодолевалась ограниченность непосредственного восприятия отдельного
человека, развивался расширенный порядок, а более эффективное сотрудничество
давало его участникам (как бы безрассудны они ни были) возможность поддерживать
существование большего числа людей и вытеснять другие группы.
Механизм культурной эволюции не является дарвинистским
Наши рассуждения подводят нас к необходимости ближе рассмотреть эволюционный
подход к развитию культуры. С этой темой связан целый ряд очень интересных
вопросов, на многие из которых экономическая теория помогает взглянуть так, как
это редко удается сделать при помощи других дисциплин.
Существует огромная путаница в данном вопросе, и стоит немного коснуться его
хотя бы для того, чтобы заверить читателя, что мы не собираемся ее здесь
воспроизводить. Социал-дарвинизм, в частности, исходил из предположения, что
любой исследователь эволюции человеческой культуры должен пройти выучку у
Дарвина. Это мнение ошибочно. Я преисполнен восхищения перед Чарльзом Дарвином,
как и перед всяким, кому удалось первым разработать последовательную (пусть и
неполную) теорию эволюции в какой-либо области. Тем не менее, приложив
титанические усилия, чтобы продемонстрировать действие эволюции на примере живых
организмов, он убедил научный мир лишь в том, что было общим местом в
гуманитарных дисциплинах уже довольно давно: по меньшей мере, с 1787 года, когда
сэр Уильям Джонс обнаружил поразительное сходство латыни и греческого с
санскритом и сделал вывод о происхождении всех "индо-германских" языков от
последнего. Этот пример напоминает нам, что дарвинистская, или биологическая,
теория эволюции не была ни первой, ни единственной теорией подобного рода и что
в действительности она просто-напросто стоит особняком и кое в чем отличается от
других концепций эволюции. Идея биологической эволюции возникла в результате
изучения процессов развития культуры, осознанных раньше, -- процессов, ведущих к
созданию таких институтов, как язык (труды Джонса), право, мораль, рынок и
деньги.
Таким образом, основная ошибка современной "социобиологии"
заключается, может быть, в предположении, что язык, мораль, право и тому
подобное передаются в ходе "генетических" процессов, которые раскрывает
современная молекулярная биология, а не являются продуктами эволюционного
отбора, передающимися путем обучения через подражание. Эта идея столь же
ошибочна, как и прямо противоположное ей представление, будто человек
сознательно придумывал или изобретал такие институты, как мораль, право, язык
или деньги, и, следовательно, может их усовершенствовать по своему желанию.
Данное представление происходит от суеверия, с которым приходилось бороться
эволюционной теории в биологии и суть которого в том, что у всякого порядка
должен существовать свой творец. И в этом случае снова оказывается, что
правильное объяснение находится между инстинктом и разумом.
Дело не просто в том, что в гуманитарных и общественных дисциплинах идея
эволюции возникла раньше, чем в естественных науках. Я готов даже доказывать,
что Дарвин позаимствовал основные идеи об эволюции из экономической теории. Как
показывают записные книжки Дарвина, он читал Адама Смита как раз в то время (в
1838 году), когда формулировал свою собственную теорию (см. приложение А).
[См.: Howard E. Gruber, Darvin on Man: A Psychological Study of
Scientific Creativity, together with Darwin's Early and Unpublished Notebooks,
transcribed and annotated by Paul H. Barrett (New York: E. P. Dutton & Co.,
Inc, 1974), pp. 13, 57, 302, 305, 321, 360, 380. В 1838 г. Дарвин читал книгу А.
Смита "Эссе по философским проблемам" ("Essays on Philosophical Subjects") с
предисловием Дугалда Стюарта "О жизни и трудах автора" ("An Account of the Life
and Writings of the Author" London: Cadell and Davies, 1795, pp. XXVI--XXVII). О
работе Стюарта Дарвин отметил, что читал ее и что она "стоила того, чтобы
прочесть ее, поскольку в сжатом виде представляет взгляды Смита". В 1839
г. Дарвин познакомился с книгой А. Смита "Теория нравственных чувств, или Опыт
исследования о законах, управляющих суждениями, естественно составляемых нами
сначала о поступках прочих людей, а за тем о наших собственных, с
присовокуплением рассуждения о происхождении языков", 10th ed., 2 vols (London:
Cadell & Davies, 1804). Однако свидетельств того, что Дарвин читал
"Исследование о природе и причинах богатства народов", не обнаружено. --
Прим. ред. амер. изд.] В любом случае работе Дарвина
предшествовали длившиеся уже несколько десятков лет (фактически столетие)
исследования, посвященные возникновению сложноорганизованных спонтанных порядков
в ходе процесса эволюции. Даже такие слова, как "генетический" и "генетика",
превратившиеся сегодня в специальные биологические термины, вовсе не были
изобретены биологами. Насколько мне известно, первым, кто заговорил о
генетическом развитии, был немецкий философ и историк культуры Гердер. Вновь мы
встречаемся с этой идеей у Виланда, и затем у Гумбольдта. Таким образом,
современная биология заимствовала понятие эволюции из исследований культуры,
имеющих более древнюю родословную. И хотя эти факты достаточно хорошо известны,
о них, тем не менее, почти всегда забывают.
Конечно, теория культурной эволюции (иногда ее называют психосоциальной,
сверхорганической или экосоматической эволюцией) и теория биологической
эволюции, пусть и аналогичные в некоторых важных аспектах, сходны отнюдь не во
всем. Как справедливо утверждал Дж. Хаксли, культурная эволюция -- "это процесс,
коренньм образом отличающийся от биологической эволюции, обладающий собственными
законами, механизмами, формами проявления, и необъяснимый с чисто биологических
позиций" (Huxley, 1947). Упомяну лишь несколько важных отличий. Хотя в настоящее
время биологическая теория исключает наследование приобретенных признаков, все
развитие культуры держится на подобном наследовании -- не врожденных, а
усвоенных признаков в виде правил, регулирующих взаимоотношения индивидов. По
терминологии, принятой сейчас среди биологов, культурная эволюция
имитирует (simulate) ламаркизм (Popper, 1972 <Поппер, 1983: 492>).
Кроме того, культурная эволюция осуществляется через передачу навыков и
информации не от одних только биологических родителей индивида, но и от
несметного числа его "предков". Процессы, способствующие передаче и
распространению навыков культуры через обучение, как уже отмечалось, также
приводят к тому, что культурная эволюция развивается несравненно быстрее, чем
биологическая. Наконец, культурная эволюция проявляется в основном в групповом
отборе; вопрос о том, действует ли механизм группового отбора также и в ходе
биологической эволюции, остается открытым, но мои выводы не зависят от его
решения (Edelman, 1987; Ghiselin, 1969: 57--9, 132-3; Hardy, 1965: 153ff, 206;
Mayr, 1970: 114; Medawar, 1983: 134--5; Ruse, 1982: 190--5, 203--6, 235--6).
Боннер не прав (1980:10), утверждая, что культура "имеет такой же
биологический характер, как любая функция организма, например, потоотделение или
локомоция". Наклеивать ярлык "биологического" на формирование традиций языка,
морали, права, денег, даже разума значит злоупотреблять терминами и искажать
теорию. Наследуемые нами генетические способности могут определять, чему мы в
состоянии обучиться, но, разумеется, не определяют, каким именно традициям мы
станем обучаться. То, чему мы обучаемся, не является даже продуктом деятельности
человеческого мозга. Не передающееся генетически нельзя считать биологическим
феноменом.
При всех различиях, любая эволюция, будь то культурная или биологическая, все
же представляет собой процесс непрерывного приспособления к случайным
обстоятельствам, к непредвиденным событиям, которые невозможно было предсказать.
В этом состоит еще одна причина, почему эволюционная теория в принципе не может
позволить нам рационально прогнозировать и контролировать будущую эволюцию.
Самое большее, на что она способна, -- это показать, каким образом у
сложноорганизованных структур вырабатываются способы корректировка ведущие к
новым эволюционным изменениям, которые, однако, по самой своей природе неизбежно
остаются непредсказуемыми.
Упомянув о нескольких различиях между культурной эволюцией и эволюцией
биологической, я должен подчеркнуть, что в одном важном отношении они совпадают:
ни та, ни другая не знают ничего похожего на "законы эволюции" или "незыблемые
законы исторического развития" -- т. е. законы, определяющие, через какие стадии
или фазы непременно должны проходить продукты эволюции и позволяющие
предсказывать будущее развитие. Культурная эволюция не детерминирована ни
генетически, ни как-нибудь иначе, и выражается она в многообразии, а не в
единообразии. Философы, вслед за Марксом и Огюстом Контом утверждающие, что наши
исследования могут привести к установлению законов эволюции, позволяющих
предвидеть неизбежные будущие изменения, заблуждаются. В прошлом эволюционные
подходы к этике были дискредитированы главным образом потому, что эволюцию
ошибочно связывали с подобными якобы существующими "законами эволюции", тогда
как на самом деле теория эволюции должна, безусловно, отвергать такие законы как
нереальные. Я уже показал в другой своей работе (1952), что для сложных явлений
возможны лишь "структурные предсказания" (pattern prediction), как я это
называю, или "предсказания в принципе".
Одна из главных причин рассматриваемого специфического заблуждения кроется в
смешении двух совершенно различных процессов, которые биологи определяют как
онтогенетический и филогенетический. Онтогенез это заранее
предопределенное развитие индивидуумов, т. е. такое, которое, безусловно, задано
врожденными механизмами, встроенными в геном клетки эмбриона. Филогенез,
напротив, имеет прямое отношение к эволюции, его сфера -- эволюционная история
рода или вида. В то время как биологи, с их профессиональной подготовкой, в
принципе застрахованы от подобной путаницы, несведущие в биологии исследователи
данного предмета часто оказываются жертвами собственного невежества и приходят к
"историцистским" идеям, подразумевающим, что механизм действия филогенеза такой
же, как у онтогенеза. Вполне убедительно опроверг эти историцистские
представления сэр Карл Поппер (1945, 1957),
В биологической эволюции и эволюции культуры есть и другие общие черты.
Например, обе они опираются на один и тот же принцип отбора -- принцип
выживания, или репродуктивного преимущества. Изменчивость, приспособление и
конкуренция образуют однотипные, по сути, процессы, сколь бы различными ни были
их конкретные механизмы (особенно если говорить о механизмах размножения). Дело
не только в том, что вся эволюция держится на конкуренции; непрерывная
конкуренция необходима даже для сохранения уже достигнутого.
Я хотел бы, чтобы теория эволюции рассматривалась в широком историческом
контексте, чтобы были поняты различия между биологической эволюцией и эволюцией
культурной, и был признан вклад общественных наук в наши знания об эволюции. В
то же время я не собираюсь оспаривать, что разработка дарвиновской теории
биологической эволюции со всеми ее ответвлениями является одним из великих
интеллектуальных достижений нашего времени -- достижением, позволяющим нам
совершенно по-новому смотреть на окружающий нас мир. Подтверждением ее
универсальности в качестве инструмента объяснения служат и недавние исследования
некоторых выдающихся ученых-физиков. Их работы показывают, что идея эволюции ни
в коей мере не ограничивается живыми организмами; скорее эволюция начинается в
каком-то смысле уже на уровне атомов, образующихся из элементарных частиц. Таким
образом, через многообразные процессы эволюции мы можем объяснять как молекулы
-- самые примитивные из сложных организмов, так и сложный современный мир (см.
приложение А).
Однако все, кто применяют эволюционный подход к изучению культуры, прекрасно
знают, какую враждебность он часто вызывает. Враждебность эта во многих случаях
представляет собой реакцию на попытки некоторых "обществоведов" XIX века,
применив теорию Дарвина, подойти к тем выводам, которые им следовало бы сделать,
основываясь на достижениях своих предшественников. Эти попытки оказали плохую
услугу теории культурной эволюции: они надолго задержали ее развитие и, по сути
дела, дискредитировали ее.
В социал-дарвинизме много ошибочного, но резкое его неприятие, выказываемое
сегодня, отчасти обусловлено и его конфликтом с пагубной самонадеянностью, будто
человек способен "лепить" окружающий мир в соответствии со своими желаниями.
Хотя это также не имеет прямого отношения к собственно эволюционной теории,
исследователи-конструктивисты, изучающие деятельность человека, часто используют
несообразности (и вопиющие ошибки) социал-дарвинизма в качестве предлога для
отказа от какого бы то ни было эволюционного подхода вообще.
Хороший пример этому -- Бертран Рассел с его заявлением, что "если бы
эволюционная этика оказалась состоятельной, то возможный ход эволюции должен был
бы стать совершенно безразличным для нас, поскольку, каким бы он ни был, он все
равно оказался бы наилучшим" (1910/1966: 24). Данное возражение, которое А. Г.
Флю (1967: 48) считает "решающим", опирается на чистое недоразумение. Я вовсе не
собираюсь совершать то, что часто называют генетической, или натуралистической,
ошибкой. Я не утверждаю, что результаты группового отбора традиций непременно
"хороши", -- так же как я не утверждаю, будто все, что в ходе эволюции
сохраняется в течение длительного времени (например, тараканы), имеет моральную
ценность.
На самом деле я утверждаю, что (нравится нам это или нет) если бы не было
особых традиций, о которых я упоминал, то расширенный порядок цивилизации не
смог бы существовать дальше (тогда как, если бы исчезли тараканы, последовавшая
экологическая "катастрофа", возможно, не ввергла бы человечество в вечный хаос).
Отказавшись от этих традиций ради непродуманных представлений (которые могут,
конечно, и в самом деле содержать натуралистическую ошибку) о критериях
разумности, мы обречем значительную часть человечества на нищету и смерть.
Только когда мы повернемся лицом к этим фактам, мы сможем заняться -- или,
скорее, будем достаточно компетентны, чтобы заняться, -- рассмотрением: что мы в
состоянии совершить правильного или доброго.
В то время как факты, взятые сами по себе, совершенно не в состоянии служить
основанием для определения: что считать правильным -- непродуманные
представления о разумности, правильности и добре могут способствовать изменению
фактов и самих обстоятельств нашей жизни; под их влиянием могут уничтожаться,
порой навсегда, не только отдельные носители высокой культуры, произведения
искусства, дома и города (которые, как мы давно убедились, беззащитны перед
разрушительным натиском разного рода этических учений и идеологий), но и
традиции, институты и взаимоотношения, без которых подобные творения культуры
вообще едва ли могли бы обрести жизнь или быть когда-либо воссозданными.