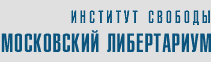Эта работа -- не строго академическое исследование, а скорее субъективные заметки на полях одной (не начавшейся?) дискуссии. Во многих случаях я имел возможность использовать наблюдения и соображения, которыми в ходе личных бесед делились со мной друзья и коллеги, за что хотел бы выразить им искреннюю признательность. Остается добавить, что неформальный характер изложения выбран не случайно; думаю, он как нельзя лучше соответствует предмету разговора.
Институциональная природа переходных экономик
В какой момент экономика, вошедшая в полосу глубинного реформирования, перестает быть переходной? Ответ, который можно встретить в некоторых зарубежных транзитологических исследованиях, достаточно прост: когда ею будет превзойден дореформенный уровень ВВП (или -- промышленного производства). С этой точки зрения российской экономике потребуется еще немало времени, чтобы приобрести статус "непереходной". Достоинства такого чисто статистического критерия очевидны -- строгость и однозначность; однако он мало что говорит о внутреннем содержании процесса системной трансформации. Наверное, с его помощью можно более или менее точно датировать окончание переходного кризиса, но ведь переходный кризис и переходный процесс -- это не обязательно одно и то же.
Современная институциональная теория исходит из иной перспективы. Экономика перестает рассматриваться как переходная, когда в общих чертах завершается формирование ее нового институционального фундамента. Так, в недавней интересной публикации А. Нестеренко нарисована впечатляющая картина законодательного прогресса в посткоммунистической России. [А. Нестеренко. Переходный период закончился. Что дальше? -- "Вопросы экономики", 2000, " 6] По его оценке, к концу 90-х гг. в основных сегментах российской экономики утвердились новые "правила игры", откуда делается вывод, что ее следует считать уже выбывшей из числа экономик переходного типа.
К сожалению, этот обязывающий вывод формулируется безотносительно к тому, как на деле работают вновь введенные политические, экономические и правовые институты. Уязвимость позиции А. Нестеренко -- в чрезмерном "юридизме": неявно она предполагает, что всякий институт превращается в действующий тотчас, как только состоялось его формальное учреждение. Не случайно, что про механизмы enforcement'а, призванные защищать законы и контракты от возможных нарушений, в его работе упоминается мимоходом и лишь однажды.
Наверное, здесь будет уместно напомнить, что под институтами современный институциональный анализ понимает: (а) общие "правила игры" (как формальные, так и неформальные), которые структурируют пространство социальных и экономических взаимодействий;(б) инстанции и процедуры, обеспечивающие соблюдение (в том числе -- принудительное) этих правил. [Помимо специализированных публичных механизмов enforcement'а (полиции, судов, тюрем) существует множество иных дисциплинирующих средств. К примеру -- кровная месть, остракизм, осуждение окружающих, чувства вины и стыда (возникающие при нарушении интериоризированных моральных норм) и т.д.]Воспользуемся аналогией с какой-либо спортивной игрой, например, футболом. Правила, предусматривающие, что матч состоит из двух таймов по сорок пять минут, что вратарю разрешается играть руками только в пределах штрафной площади, что во время встречи тренер не вправе выходить за пределы строго ограниченного сектора и т. д. -- все это "институты". Но и судьи, которые следят за выполнением правил и налагают наказания за их нарушение, также выступают в качестве "института" особого рода. Что же касается футбольных команд, то их можно считать аналогом "организаций" (фирм, политических партий, клубов, церквей и т.п.), то есть коллективных участников социальных и экономических "игр". Наконец, базовой единицей анализа в институциональной теории признаются сделки, контракты, трансакции. Им в приведенном примере соответствуют сами матчи. [В одном отношении эта спортивная аналогия, возможно, хромает. Основной массив социальных и экономических взаимодействий можно отнести к категории игр с положительной суммой, тогда как футбол -- это игра с нулевой суммой (если, конечно, не принимать в расчет того удовольствия, которое он способен доставлять болельщикам).]
Попробуем непредвзято взглянуть на сегодняшнее институциональное обрамление российской экономики. По всеобщему признанию, она все еще лишена ясных и надежно защищенных "правил игры", упорядочивающих поведение рыночных агентов и делающих его предсказуемым. Институциональная матрица как была, так и остается крайне несовершенной. В некоторых ключевых областях общие правила до сих пор не выработаны (наиболее известный пример -- неурегулированность проблем купли-продажи земли); в других параллельно сосуществуют нормы, находящиеся друг с другом в явном противоречии, что открывает простор для их произвольного толкования и применения (по остроумной формулировке В. Гутника, в основе российской правовой системы лежит принцип: "все, что не запрещено, разрешено -- если иное не предусмотрено законом"); в третьих "хорошие", на первый взгляд, законы не работают, потому что ничто не заставляет с ними считаться.
Конечно, все это не подразумевает буквального отсутствия каких бы то ни было общепризнанных норм и процедур. [Строго говоря, любые обобщения, касающиеся институциональной системы, подлежат переводу в вероятностный формат. Встретив утверждение "такой-то институт работает так-то", его следует читать с обязательной поправкой: "такой-то институт в большинстве случаев работает так-то".] Можно говорить лишь о непропорционально большом весе неформальных отношений и институтов по сравнению с формальными отношениями и институтами. На мой взгляд, этот момент -- центральный для понимания институциональной природы российской переходной экономики (и шире -- российского переходного общества).
Во всех звеньях хозяйственного механизма "- на рынке капитала, на рынке труда, в отношениях между предприятиями, между предприятиями и государством, между различными ветвями и уровнями власти -- неписаные правила и договоренности имеют перевес перед требованиями закона, условиями контрактов и другими формальными ограничениями. Даже те договоры, которые заключаются с соблюдением всех формальностей, воспринимаются участниками как некая условность и исполняются "по обстоятельствам". В терминах О. Уильямсона дело обстоит так, как если бы основные ресурсы, которыми располагает российская экономика, относились к разряду "специфических" и для трансакций с ними требовались исключительно "отношенческие" контракты [О. Уильямсон. Экономические институты капитализма. Спб., 1997]. Это создает питательную среду для развития разнообразных "нестандартных" форм адаптации -- неплатежей, бартера, нецелевого использования бюджетных средств, торговли налоговыми освобождениями, задержек заработной платы, неоплачиваемых административных отпусков, вторичной занятости, скрытой оплаты труда и т. д., которые оказываются вписаны в сложные неформальные отношенческие сети и не могли бы существовать вне них.
Исторический опыт свидетельствует, что достаточно большие по численности группы неспособны поддерживать свое существование без хотя бы минимального набора формализованных "правил игры". Общества, которые принято называть "западными", на определенном этапе развития открыли, что лучшие результаты дают базовые принципы: (а) максимально широкие по охвату (в пределе -- универсальные) и (б) максимально бедные по содержанию (то есть отвлекающиеся от особых обстоятельств времени, места и образа действий). Это позволило Фридриху Хайеку определить общества современного типа как "абстрактные", поскольку их институциональный фундамент составляют абстрактные правила справедливого поведения. [С этой точки зрения систему централизованного планирования можно рассматривать как попытку перестроить современное общество с развитым разделением труда, заменив абстрактные правила на предельно конкретные, каковыми по замыслу должны были стать плановые задания, четко предписывающие, кому, что, как и когда делать. Социалистический проект, как показали экономисты неоавстрийского направления, был изначально обречен на провал, так как исходил из глубоко ошибочных представлений об информационной природе современного сложно организованного общества. В хайековских терминах, это была попытка перейти от общественного устройства, опирающегося на абстрактные правила, к общественному устройству, опирающемуся на конкретные приказы и распоряжения из некоего единого центра.] Парадокс состоит в том, что в российском контексте любые абстрактные правила меняют природу и начинают действовать, если употребить модное выражение, "конкретно по жизни".
Небольшое отступление в сторону. В последние годы многие с тревогой отмечали растущую "криминализацию" русского языка, но было бы наивно сводить все к некоему общему упадку морали и культуры. Даже лидеры мнений -- высшие должностные лица государства, виднейшие политики, крупнейшие бизнесмены, именитые писатели и популярные актеры -- уже не могут обходиться без всех этих "мочить", "кидать", "наезжать", "откатов", "крыш", "разборок" и т. п. И дело, по-видимому, не только в резком взлете преступности в пореформенный период и том влиянии, которое это оказало на состояние умов. На мой взгляд, есть причина более общая и более фундаментальная. Мир профессиональной преступности -- это парадигмальный случай достаточно представительного сообщества, существующего исключительно по неписаным законам и не использующего публичные механизмы enforcement'а. Его притягательность связана прежде всего с тем, что он предлагает готовый язык для описания жизненного уклада с бездействующими формальными институтами и подходящие схемы для его осмысления.
В известном смысле подобное положение дел можно считать естественным и неизбежным для всякого переходного общества. Социальные системы, переживающие глубинную трансформацию, являются де-институционализированными как бы по определению: их прежний институциональный каркас уже сломан, а новый еще не отстроен, ибо это всегда нелегкий и затяжной процесс, с негарантированными результатами. В первом приближении общества переходного типа можно было бы охарактеризовать как общества с отключенными или разрушенными формальными регуляторами. [Типологически иной случай "переходности" представляют традиционалистские общества, пытающиеся имплантировать в привычную сеть неформальных отношений и норм определенный минимум формализованных "правил игры". Его рассмотрение не входит в мои задачи.]
Мне кажется, достаточно ненадолго очутиться в любой из западных стран, чтобы почувствовать разницу между "переходным" и "непереходным" укладом жизни на самом элементарном, бытовом уровне. Очень быстро убеждаешься: чтобы успешно функционировать "там", самое главное -- знать правила, тогда как для того, чтобы успешно функционировать "здесь", самое главное -- знать тех, кто отвечают за принятие решений, то есть уметь войти с ними в персональный контакт.
Естественно, что динамика переходного процесса во многом задается размерами исходных институциональных обрушений. Чаще всего они затрагивают не более одного-двух ключевых сегментов общественного организма; тотальные институциональные кризисы случаются лишь при наложении множества экстраординарных событий. К сожалению, российское общество оказалось в опасной близости именно к такому экстремальному случаю. Несмотря на всю грандиозность задач, решавшихся другими постсоциалистическими странами, институциональная ломка протекала в них менее болезненно и драматично.
Во-первых, для России расставание с коммунизмом означало не только переход от одного политического строя к другому (от коммунистической идеократии к современной демократии) и от одного типа хозяйства к другому (от плановой системы к рыночному порядку), но также распад прежнего государства (СССР) и образование нового (Российская Федерация). [Если страны Центральной и Восточной Европы приступали к реформам в обстановке мощного национального подъема, то Россия -- в психологической атмосфере, сложившейся после исчезновения СССР. Отсюда -- неодинаковое восприятие стартовых издержек "транзита", что не могло не сказаться на траекториях последующего развития.] Во-вторых, хотя во всех бывших социалистических странах базовые государственные институты были накрепко сцеплены с партийной машиной, по-видимому, в России их взаимное прорастание зашло особенно далеко. Демонтаж коммунистического режима сопровождался не только отказом от выработанных им репрессивных механизмов, но также развалом и исчезновением многих регулирующих структур, выполнявших "стандартные" государственные функции. В-третьих, из-за особенностей административного устройства СССР в России отсутствовали многие атрибуты государственности, которыми, например, обладали страны Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ). [Страны СНГ выведены за рамки обсуждения. Очевидно, что многие тенденции, характерные для российской переходной экономики, получали в них еще более концентрированное выражение.] В результате возникшие в ней институциональные пустоты оказались масштабнее и глубже, чем в большинстве других переходных экономик. По удачному определению политолога А. Зудина, на протяжении всех 90-х гг. российское общество оставалось "в слабо государственном состоянии". Исходя из количества отключенных формальных регуляторов было бы правомерно квалифицировать его как "супер-переходное".
Однако сложно организованные социальные системы неспособны существовать в абсолютном институциональном вакууме. Образовавшиеся пустоты сразу же и на высокой скорости стали заполняться развитием неформальных институтов, неявных контрактов и теневых практик. В известном смысле это было ответом общества на освобождение от бремени зарегулированности, налагавшегося прежней системой. Выход из сверхжесткого административного корсета раскрепощал личную инициативу, подталкивал к поиску нестандартных решений, расчищал поле для процессов спонтанной самоорганизации. Неформальные модели взаимодействия оказались важнейшим адаптационным ресурсом, позволявшим смягчать стартовые издержки переходного кризиса и с меньшими потерями приспосабливаться к новым, изменившимся условиям. Именно они помогали амортизировать многочисленные шоки, сопровождавшие процесс системной трансформации.
Здесь и далее термины "неформальные отношения", "теневые практики" и т. п. употребляются как нейтральные, без какой-либо оценочной нагрузки. К сожалению, у большинства отечественных дискуссий о "скрытых", "латентных", "теневых" процессах в экономике отчетливо просматривается фискальный подтекст: по сути все сводится к проблеме ухода от налогов. Такое "фискальное" прочтение молчаливо подразумевает, что само государство находится вне зоны неформальных договоренностей и теневых сделок, тогда как на деле оно очень часто выступает их инициатором и активным участником. С теоретической точки зрения вопрос о том, как при отключенных или полу-включенных формальных регуляторах строится взаимодействие между участниками рынка, является более общим и фундаментальным, чем вопрос о том, как в этих условиях строится их взаимодействие с агентами государства.
Таким образом, характеристика переходных обществ как пребывающих в де-институционализированном состоянии (см. выше) является недостаточной и односторонней. Точнее было бы говорить о де-формализации институционального пространства переходных обществ, поскольку формальные "правила игры" отходят в них на второй план, уступая место неформальным отношенческим сетям. В конечном счете этот сдвиг -- от формальных институтов к неформальным, от явных контрактов к неявным, от стандартных трансакций к персонализированным сделкам -- определяет их институциональную природу.
Все реформируемые экономики оказались захвачены этим процессом. Но в России его темпы были, похоже, выше, охват -- шире, а изобретаемые "серые" схемы поражали сложностью и разнообразием. Здесь нужно принять во внимание несколько обстоятельств. Во-первых, как хорошо известно, плановая система не смогла избежать формирования в ее недрах разветвленной сети неформальных связей. Судя по всему, в Советском Союзе внутренняя эрозия официальной экономики успела зайти особенно далеко (ограничусь отсылкой к многократно обсуждавшейся концепции административного рынка). Во-вторых, как свидетельствует мировой опыт, при наступлении природных или социальных катаклизмов формальные институты всегда отступают перед неформальными. В критических ситуациях жесткость, присущая законам и другим видам формальных регуляторов, становится препятствием на пути выживания общества и может провоцировать дополнительную социальную напряженность. На передний план выходят тогда неформальные институты -- нормы солидарности, личной поддержки и т. д. По глубине и продолжительности переходного кризиса Россия намного превзошла большинство стран ЦВЕ. Соответственно "спрос" на разнообразные модели неформального или полуформального взаимодействия был в ней несравненно сильнее. [Я оставляю в стороне вопрос, в какой мере расцвет неформальных отношений и теневых практик в пореформенный период был естественным продолжением тенденций, действовавших при прежней системе (точка зрения С. Кордонского), а в какой -- результатом ее краха (точка зрения Д. Старка). См.: С. Кордонский. Рынки власти. М., 2000; Д. Старк. Рекомбинантная собственность. -- "Вопросы экономики", 1998.]
Но одновременно с заполнением институциональных брешей неформализованными схемами и практиками повсеместно стал разворачиваться другой процесс -- началось массированное внедрение и освоение новых формальных институтов (политических, экономических и правовых) по образцу тех, что действуют в развитых обществах с устойчивой демократией и эффективной рыночной экономикой. В конечном счете смысл системной трансформации заключается именно в этом -- в обновлении формальных "правил игры", регулирующих различные сферы жизнедеятельности общества. Ускоренное внедрение новых институтов обеспечивалось огромными масштабами их "импорта", без которого переходный процесс неизбежно растянулся бы на более длительный период либо вообще был парализован.
Хотелось бы особо подчеркнуть, что в импорте институтов нет ничего необычного. Как свидетельствует история, без него не обходится ни одно динамично развивающееся общество. В деле институционального строительства стратегия "опоры на собственные силы" чревата неоправданными издержками. Неизвестно, на какой стадии развития находилось бы человечество, если бы менее успешные группы не перенимали "правил игры", открытых более успешными группами.
Другой вопрос, какие именно формальные институты заимствовали переходные общества и насколько эффективно осуществлялась их "подгонка" к местным условиям. Похоже, что как в первом, так и во втором странам ЦВЕ удавалось действовать более рационально и продуктивно. Но хотя в России активность по конструированию и отладке новой системы формальных регуляторов была, по-видимому, ниже и отличалась меньшей эффективностью, тем не менее контраст между ее институциональной оснасткой в начале и в конце 90-гг. разителен (см. развернутое описание у А. Нестеренко).
Таким образом, с институциональной точки зрения системная трансформация предстает как совокупность нескольких параллельных и разнонаправленных процессов. В общих чертах логику "транзита" можно обрисовать следующим образом: исходный пункт -- слом "старого" институционального каркаса; защитная реакция общества -- заполнение институционального вакуума разнообразными моделями неформального взаимодействия; главное содержание перемен -- выработка и утверждение новых формальных "правил игры", а также механизмов, обеспечивающих их соблюдение; финальная точка -- "нормализация" институционального пространства, нахождение нового устойчивого баланса между формальными и неформальными регуляторами. Предложенная схема обладает достаточно высокой степенью общности, чтобы быть применимой к противоположным случаям "транзита", будь то движение от рыночного порядка к плановой системе или, напротив, возврат от централизованной экономики к рынку.
Важно оговориться, что окончание процесса системной трансформации и успех в ее осуществлении -- это не одно и то же. История дает множество примеров, когда реконструированная система формальных институтов оказывалась хуже прежней, обрекая общество на стагнацию и регресс. Вопрос об эффективности институциональной перестройки не нужно смешивать с вопросом о границах переходного процесса. В терминах Д. Норта, переходные общества -- это общества, находящиеся в состоянии институционального неравновесия [cм. : Д. Норт. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. М., 1997]; отыскание новой равновесной точки в n-мерном институциональном пространстве означает завершение "транзита".
"Стационарно переходная экономика"?
Несмотря на различия в стартовых условиях, формах, темпах и последовательности реформ, институциональная эволюция России и стран ЦВЕ подчинялась общей логике, безотносительно к национальным особенностям тех или иных экономик. Однако с какого-то момента их пути стали расходиться, причем с течением времени разрыв обозначался все отчетливее. В странах ЦВЕ обратное пришествие формальных регуляторов вело к сужению зоны неформальных отношений и постепенной утрате их экономиками специфически "переходных" характеристик. С высокой степенью вероятности можно ожидать, что уже в ближайшие годы их новый, непереходный статус будет "сертифицирован" приемом в члены Европейского союза (правда, пока к этому готовы далеко не все).
В России же вживление новых формальных регуляторов приводило к совершенно иному, неожиданному результату -- к еще большей активизации "нестандартных" поведенческих моделей и непрерывному расширению их репертуара. Внедрение новых "правил игры" прекрасно уживалось с эскалацией неплатежей, безденежных обменов, задержек заработной платы и т. п., которые, казалось бы, по мере продвижения к новой, рыночной системе должны были сходить на нет -- а ведь все это только верхушка айсберга, гигантского массива имплицитных контрактов и разнообразных "серых" схем. [Впрочем, было бы ошибкой противопоставлять формальные и неформальные институты по принципу или-или. Для устойчивого функционирования больших сообществ необходимы как те, так и другие. В эффективно работающей институциональной системе они не исключают, а скорее дополняют друг друга (при этом базовый уровень всегда составляют неформализованные отношения и имплицитные контракты). Наличие формальных "правил игры" создает условия для выработки иных моделей неформального взаимодействия (чаще всего -- более сложных), которые не могли бы возникнуть при их отсутствии. Другими словами, внедрение формальных регуляторов ведет не столько к вытеснению, сколько к переструктуризации неписаных законов и норм поведения. В каком-то смысле любая институциональная реформа -- это поиск их оптимального сочетания.] И хотя начавшийся подъем сузил сферу их применения (подчас весьма значительно), институциональная природа российской экономики от этого не стала иной.
Наблюдения показывают, что попадая в российскую среду, любые формальные институты сразу же прорастают неформальными отношениями и личными связями. Дело обстоит так, как если бы они подвергались мутации и в результате становились неспособны выполнять свое предназначение -- служить общезначимыми "правилами игры". По выражению В. Найшуля, для эффективной работы рынка необходимы "перпендикулярные" ему институты. В российских условиях такие институты оказываются ему "параллельны", переключаясь в режим двустороннего (или многостороннего) персонализированного торга.
Подобная метаморфоза происходила с самыми различными законами и контрактными установлениями, причем с такой неотвратимостью, что заставляет выдвинуть гипотезу о возможности существования особого типа стационарно переходной экономики. (В старых марксистских терминах это означает, что при определенных условиях переходный институциональный режим обретает способность к устойчивому самовоспроизводству.) Похоже, именно такое общественное устройство сформировалось в России за годы реформ. Нельзя не согласиться, что "революционный" этап в утверждении новых "правил игры" уже пройден и что к концу 90-х гг. ее институциональная система оказалась в значительной мере стабилизирована. Но это весьма своеобразная стабилизация, при которой базовые формальные институты продолжают, как и прежде, функционировать по образу и подобию неформальных. Речь идет не просто о слабости общих "правил игры", а об их внутренней деформации, когда они перестают быть универсальными, утрачивают автоматизм и лишаются прозрачности. ["Прозрачность" можно определить как легкость в получении достоверной информации о том, насколько точно те или иные участники рынка придерживаются установленных правил.]
Несколько иллюстраций, с разных сторон характеризующих работу "стационарно переходной" институциональной системы. Хрестоматийный образец, когда все начиналось с установления, казалось бы, прозрачных единообразных правил, а закончилось раздачей "эксклюзивов", -- это, конечно, история российской приватизации. На старте -- государственная программа, вводившая жесткие стандарты и процедуры, на финише -- залоговые аукционы, судьба которых определялась заранее путем закулисных договоренностей.
Другой пример -- из сферы политики. Не секрет, что ведущие российские политические партии широко практикуют "сдачу в аренду" заинтересованным бизнес-структурам мест в своих избирательных списках. Обратите внимание: это не банальное представительство политическими объединениями интересов тех или иных организованных групп в обмен на их финансовую или электоральную поддержку. Это -- настоящий рынок депутатских мандатов, где места в головной части списков идут по более высоким расценкам, в следующей десятке по более низким и т. д. Трудно с уверенностью утверждать, но подобная практика очень похожа на чисто российское know how.
Последняя иллюстрация относится к области налогового администрирования. Казалось бы, автоматизм, внутренне присущий формальным правилам, должен находить высшее выражение в деятельности фискальных органов. Однако российский опыт заставляет в этом усомниться. Как известно, бывший министр по налогам и сборам, А. Починок, ввел в обычай регулярные встречи с крупнейшими налогоплательщиками, на которых договаривался с ними о размерах предстоящих платежей. Все делалось совершенно открыто (о достигнутых договоренностях оповещалась пресса) и, что любопытно, никого ровным счетом не удивляло. Обратите внимание: это не лоббизм (налогоплательщики не требовали от властей пересмотра действующего законодательства), не коррупция (никто никому не предлагал взяток) и не уход от налогообложения (никто не пытался задействовать какие-то хитроумные схемы по сокращению налоговых обязательств) -- хотя такая система отношений, конечно же, способствует расцвету и того, и другого, и третьего. Но лоббизм, коррупция, уклонение от налогов -- это все универсальные феномены, дающие о себе знать везде, где практикуется масштабное перераспределение доходов. А вот двусторонний неформальный торг между фискальными органами и налогоплательщиками -- поверх установленных формальных правил и процедур -- явление, встречающееся не слишком часто. Верно, что глава налогового ведомства вступал в переговоры только с теми компаниями, перед которыми государство само имело массивную встречную задолженность. По оценкам специалистов, в сложившихся условиях тактика, избранная А. Починком, была вполне эффективной, если не единственно возможной. Но эти уточнения лишь сильнее подчеркивают нестандартность ситуации: получается, что государственный орган переключался в режим двустороннего торга не для уклонения от возложенных на него функций, а, напротив, для их выполнения! Пожалуй, это пример мутации формальных институтов в наиболее чистом и законченном виде. [Многие из них не только начинают функционировать в персонализированном, неуниверсалистском режиме, но зачастую приобретают иной смысл. Пример, ставший уже общим местом, -- институт банкротства. Одна из его главных функций -- защита от ущерба, который могут нанести кредиторам неплатежеспособные заемщики; в российских же условиях этот институт по большей части служит орудием по установлению контроля над наиболее привлекательными и потенциально платежеспособными компаниями.]
Сходные тенденции обнаруживаются и на организационном уровне институциональной системы. Взять хотя бы крупнейшие российские корпорации, которые остаются образованиями кланового типа, с неясными границами и непрозрачной внутренней структурой, погруженными в сложные симбиотические отношения с государством. По выразительной характеристике Я. Паппэ, любая из них предстает как "облако офшоров, владеющих пакетами производящих компаний". Однако у каждого такого "облака" есть невидимая точка кристаллизации -- неформальная команда, которую сплачивают устойчивые личные связи между ее участниками.
Согласно классическому определению У. Меклинга и М. Дженсена, фирма -- это "сеть контрактов". [M. C. Jensen and W. H. Meckling. Theory of the firm: managerial behavior, agency costs, and ownership structure. "- "Journal of Financial Economics", 1976, vol. 3, No 4.] Но если в зрелых рыночных экономиках ее ядро составляет определенный набор формальных контрактов, то в переходных -- определенный набор неформальных контрактов между ведущими "игроками". Это неизбежно накладывает отпечаток и на распределение контроля, и на процесс принятия решений, и на характер взаимодействия с внешней средой. В результате даже ведущие российские бизнес-структуры действуют не столько как публичные корпорации, сколько как семейные или, если быть точнее, "дружеские" фирмы.
Спросим, наконец, как обстоит дело с базовым элементом институциональной системы -- трансакциями, контрактами, сделками. Не нужно доказывать, что на протяжении всего переходного периода российская экономика демонстрировала поразительно низкую степень контрактопослушности. Расчеты за поставленную продукцию производились не в срок (или не производились вовсе), зарплата задерживалась, дивиденды не выплачивались, кредитные соглашения не выполнялись. Но при этом в подавляющем большинстве случаев поставщики не прерывали контактов с неплательщиками, работники не увольнялись и не устраивали забастовок, акционеры не протестовали, а кредиторы не требовали ареста имущества должников. "Внеконтрактное" поведение стало повседневной практикой, по существу -- нормой деловых отношений.
Н. Раннева поделилась со мной наблюдением, что многие контракты, по которым живет сегодня российский бизнес, по степени формализации и детализации оставляют далеко позади не только элементарные договоры образца начала 90-х гг., но зачастую и их западные аналоги. Но при этом их реальные параметры имеют не больше отношения к зафиксированным на бумаге, чем прежде. По-видимому, возросшая формализация контрактов служит средством превентивной защиты рыночных агентов от возможной агрессии (с использованием разнообразных теневых методов), которая может последовать как со стороны конкурентов, так и со стороны регулирующих инстанций.
Переходные общества потому и принято называть переходными, что они, как предполагается, внутренне неустойчивы и не могут сохраняться долго такими, какие они есть. Однако специфическая модель, сложившаяся в российской экономике, заставляет предполагать, что при определенных условиях переходное состояние институциональной системы может становиться не перегоном на пути из пункта А в пункт Б, а станцией прибытия, приобретая черты устойчивого равновесия.
Конечно, даже в развитых странах имеются обширные зоны, свободные от действия формальных регуляторов, -- теневая экономика в узком смысле слова. Но там между официальным и неофициальным сектором обычно существует достаточно четкая граница. В отличие от этого российскую экономику было бы правильно назвать не двухсекторной, а двухслойной: в ней практически невозможно провести ясную разграничительную линию между бизнесом легальным (живущим "по правилам") и внелегальным (живущим "по понятиям"). Говоря о компаниях "Майкрософт" или "Дженерал Моторз", естественно исходить из презумпции, что они не участвуют ни в какой теневой деятельности. В отношении российских компаний справедлива прямо противоположная установка: даже крупнейшие из них стоят одной ногой в официальной экономике, другой -- в неофициальной. [С гипертрофией неформальных отношенческих сетей сталкивались многие развивающиеся страны. Однако двухсекторная модель приложима и к ним (хотя и с бóльшими оговорками и ограничениями). Даже когда теневой сегмент разрастался в них до гигантских размеров, рядом с ним сохранялся легальный сегмент, который в общем продолжал функционировать в соответствии с формально-контрактными принципами и нормами (зарплата выплачивалась, кредиты возвращались и т. д.).] Пожалуй, это одно из наиболее зримых проявлений сохраняющейся "переходности" российской институциональной системы.
Роль механизмов enforcement'а
Чем же можно объяснить возникшее расхождение в траекториях институциональной эволюции стран ЦВЕ и России? Почему в одном случае "переходность" более или успешно преодолевалась, тогда как в другом приобретала встроенный характер? Ответ, который подсказывает современная институциональная теория, достаточно прост: дело не только и не столько в установлении разных по качеству и внутренней согласованности формальных "правил игры" (хотя значение этого фактора никак нельзя сбрасывать со счетов), сколько в неодинаковой способности обеспечивать выполнение этих правил с помощью эффективных дисциплинирующих механизмов. В конечном счете именно отсутствие работоспособных механизмов enforcement'а объясняет, почему в российском контексте любые законы и контрактные установления начинают действовать не в автоматическом режиме, как подобает формальным институтам, а ad hoc, в зависимости от того, есть ли у заинтересованных сторон достаточно ресурсов, чтобы запустить их в действие или, напротив, заблокировать их применение.
Яркий пример -- российская система corporate governance. Как показывает сравнительный анализ, по качеству корпоративного права Россия относится к числу безусловных лидеров среди стран с переходной экономикой. [K. Pistor. The evolution of legal institutions and economic regime transformation. -" Bank Conference on Development Economics in Europe on Governance, Equity and Global Markets. Paris, 1999.] Де юре российские акционеры защищены от злоупотреблений менеджмента едва ли не надежнее немецких или французских. Но вот парадокс: замечательные законодательные установления существуют параллельно с предельно низкой защищенностью прав акционеров де факто и с открытым применением насилия при разрешении корпоративных конфликтов.
Вновь воспользовавшись аналогией со спортом, можно было бы сказать, что на общественном "игровом поле" действительно критической проблемой является не столько обновление устаревших правил, сколько нахождение судей, которые бы честно назначали штрафные, не шли на сговор с командами и вообще приходили судить объявленные матчи. Или в иных терминах: когда предпринимаются попытки установить систему "правления права" -- "the rule of law", то ввести "law" оказывается несравненно проще, нежели обеспечить его "rule". Не в последнюю очередь это связано с тем, что в противоположность собственно "правилам игры" механизмы enforcement'а практически не поддаются импортированию. Их редко удается заимствовать в готовом виде, а приходится так или иначе отстраивать своими силами, из подручного материала. [Когда такой "импорт" все же происходит, он чаще всего принимает форму "призвания варягов", как в знаменитом эпизоде из начальной истории России.]
Имеющиеся исключения лишь подтверждают этот вывод. Одно из наиболее известных -- опыт послевоенных реформ в Германии и Японии. Конечно, для их успеха огромное значение имели и внушительная финансовая поддержка США, и помощь западных государств в обновлении законодательных систем, и не слишком продолжительный период подавления рыночных порядков. Но не менее важно, что сам процесс системной трансформации осуществлялся под фактическим контролем оккупационных властей. Они выступали той инстанцией, которая жестко ограничивала оппортунистическое поведение и обеспечивала соблюдение вновь вводимых правил и процедур на первых этапах переходного процесса.
В данном отношении страны ЦВЕ изначально находились в заметно лучшем положении, чем Россия. И не только в силу сохранявшихся традиций "правилосообразного" поведения, более высокой степени консолидации общества и большей готовности элит к самоограничению. У них имелись мощные добавочные стимулы к тому, чтобы как можно быстрее начинать жить "по правилам" и отлаживать все необходимые для этого правоприменительные механизмы. Роль своеобразного внешнего якоря играла установка, разделявшаяся практически всеми значимыми политическими силами, на возвращение в Европу, скорейшую интеграцию в основные европейские институты (я благодарен В. Гимпельсону, указавшему на это важное обстоятельство). Требование гармонизации законодательств с законодательствами государств-членов Европейского союза не только оставляло им меньше возможностей для институциональных импровизаций, но и заставляло проявлять бóльшую последовательность и жесткость при отстраивании дисциплинирующих механизмов, призванных защищать новые формальные "правила игры".
Если российская экономика так и не зажила по понятным, обязательным для всех законам, с использованием прозрачных и единообразных процедур, то прежде всего из-за отсутствия эффективных публичных механизмов контроля за соблюдением законов и контрактных установлений. Их формирование блокировалось множеством факторов -- исключительно высокой степенью неопределенности, возникшей на начальном этапе реформ; неукорененностью традиций "правилосообразного" поведения; идеологической расколотостью общества; незрелостью элит; недостатком политической воли у высшего руководства страны; отсутствием внешнего якоря и, наконец, общей слабостью стимулов, которые побуждали бы двигаться в нужном направлении. [По формулировке историка В. Хуторского, российскому обществу скорее присуща традиция подчинения не законам и правилам, а распоряжениям и приказам.] Не обладая надежными механизмами защиты и контроля, формальные институты переставали действовать в автоматическом режиме; утрачивая автоматизм, они неизбежно начинали обрастать неписаными правилами и нормами и использоваться в качестве инструментов при проведении неформальных сделок.
Pro et contra
Обратимся теперь к проблеме, являющейся ключевой. Что означает формирование "стационарно переходной" модели общественного устройства как с точки зрения краткосрочной устойчивости системы, так и с точки зрения перспектив ее долгосрочного развития? Чтобы ответить на этот вопрос, нам придется еще раз вернуться к обсуждению общих принципов действия формальных и неформальных регуляторов.
Благодаря тому, что формальные институты, писаные законы и явные контракты получают жестко фиксированное выражение и обладают публичными механизмами защиты, их действие носит автоматический характер, не зависящий от каких-либо внешних обстоятельств. В результате уменьшается неопределенность экономической среды, расширяется поле безличного обмена, становятся возможны сложные трансакции, рассчитанные на длительную перспективу и охватывающие множество участников. Вместе с тем на крутых виражах истории жесткость, присущая формальным институтам, может становиться контрпродуктивной, препятствуя поиску и утверждению новых эффективных моделей адаптации. Кроме того, вокруг некоторых таких институтов нередко происходит консолидация мощных групп со специальными интересами, чье влияние способно затормозить процесс системной трансформации или направить его по тупиковому пути.
В отличие от формальных институтов неписаные законы и неявные контракты лишены жесткого автоматизма, оставляя возможности для гибкого приспособления к меняющимся условиям. С точки зрения краткосрочной амортизации шоков это немаловажное преимущество. С их помощью первоначальная адаптация принимает менее болезненные формы, чем это происходит в условиях чрезмерной институциональной "зарегулированности". Затрудняя консолидацию групповых интересов и увеличивая издержки коллективных действий, "стационарно переходная система" гасит возможные взрывы социального недовольства. [Сошлюсь на результат, полученный в недавнем опросе "Российского экономического барометра". По усредненной оценке респондентов РЭБ, нужно шесть месяцев подряд ничего не платить работникам, чтобы подвигнуть их на серьезный конфликт с руководством предприятий. Хотя эта оценка является, по-видимому, завышенной, она дает наглядное представление о том, насколько велики издержки коллективных действий в обществе с отключенными формальными регуляторами.] Это -- почти идеальный поглотитель шоков.
Однако в долгосрочной перспективе преобладание неформальных институтов оборачивается существенными потерями. Во-первых, круг участников сделок начинает ограничиваться агентами, способными поддерживать друг с другом регулярные личные контакты. Это ведет к сегментации рыночных отношений и оставляет незадействованным множество потенциальных возможностей для взаимовыгодного обмена. Во-вторых, происходит резкое сужение временнго горизонта принимаемых решений. Осуществлять долгосрочные проекты без четкой фиксации будущих обязательств всех сторон -- значит идти на огромный риск. [Можно возразить, что хотя неформальная сделка не подлежит официальной регистрации, ничто не мешает четкой фиксации ее условий. Но, во-первых, попытка жестко прописать все детали такой сделки способна подорвать саму основу неформального взаимодействия, поскольку служит демонстрацией недоверия к партнеру. Во-вторых, хотя никакой договор не в состоянии предусмотреть всех возможных будущих осложнений, формальные контракты обладают в этом отношении важным преимуществом. Когда пробелы обнаруживаются в содержании формальных сделок, закон как бы "вчитывает" в них неоговоренные пункты по умолчанию (default mechanisms). Неполноту неформальных сделок таким образом компенсировать невозможно.] В-третьих, открывается широкое поле для злоупотреблений и оппортунистического поведения, так как неформальные сделки формулируются в общих терминах и не обеспечены надежными санкциями против возможных нарушений. [По замечанию американского исследователя А. Грейфа, "размер рынка ограничивается способностью защищать (to enforce) обменные отношения". (A. Greif. Informal contract enforcement: lessons from Medieval trade. -- The New Palgrave Dictionary of Economics and Law. England, 1997.)] В-четвертых, поскольку они по определению лишены публичных механизмов enforcement'а, их участники вынуждены либо оставаться без защиты, либо прибегать к услугам "частной юстиции" (чрезвычайно дорогостоящим и обременительным). И то, и другое чревато значительными потерями и затратами. Наконец, общий уровень доверия между участниками рынка оказывается чрезвычайно низким, а, как известно, доверие (trust) -- необходимый элемент любой работоспособной институциональной системы. [См.: F. Fukuyama. Trust: the social virtues and the creation of prosperity. N. Y., 1995. Похоже, в этом отношении между западным и российским бизнесом существует принципиальное расхождение. В общем виде его можно выразить так: в одном случае исходной является установка на "авансирование" доверия, которая корректируется по мере того, как о партнере (потенциальном или фактическом) накапливается негативная информация; в другом " установка на "авансирование" недоверия, отказ от которой происходит по мере того, как появляется возможность убедиться в надежности партнера. А наличие достаточно большого количества игроков с кооперативными установками, как показывает теория игр, -- критическое условие, позволяющее избегать "плохих" равновесий.] Все это означает неизбежную примитивизациию трансакционного пространства. Такие сложные сделки как инвестирование или кредитование становятся трудно осуществимыми, что подрывает возможности роста.
Таким образом, хотя неформальные институты позволяют "мягче падать", это не значит, что они способны помочь "быстрее подняться". Реструктуризация -- в отличие от краткосрочной адаптации -- невозможна без утверждения формальных "правил игры", позволяющих планировать экономическую деятельность на длительную перспективу.
Здесь уместна аналогия с теневой экономикой в узком смысле слова. Нет сомнений, что в кризисных условиях она выступает важнейшим амортизатором социальных издержек, но обеспечить экономический рост (оставаясь в собственных границах) она не в состоянии. В рамках теневого сектора возможны лишь простейшие трансакции, не требующие много времени и опирающиеся на устоявшиеся личные контакты. Сложные, неперсонализированные сделки, охватывающие длительный период, оказываются связаны с огромным риском и запретительно высокими трансакционными издержками. Снижение издержек, сопровождающих такие сделки, достижимо лишь при наличии свода универсальных и соблюдаемых всеми участниками "правил игры", снабженных публичными механизмами защиты.
С одной стороны, поразительно, как страна с многомиллионным населением, разветвленной системой разделения труда, плотной сетью обменных отношений, современным образованием и высокой культурой смогла просуществовать столько лет при столь минимальном наборе работоспособных формальных институтов. С другой, трудно избавиться от впечатления (хотя строгие доказательства здесь едва ли возможны), что подобное "размягченное" состояние институциональной системы имело прямое отношение к тому, что переходный кризис, пережитый российской экономикой, оказался беспрецедентным по масштабам и растянулся на целое десятилетие.
В одном из неформальных обсуждений с А. Полетаевым возникала метафора, которая, как мне кажется, неплохо передает парадоксальность ситуации. Представим: пробуют стронуть с места паровоз со старым паровым котлом -- проржавевшим, допотопной конструкции, с множеством неработающих частей и отвалившихся деталей. Вот начинаются попытки поднять в нем давление -- наблюдатели в ужасе, предрекая неминуемый взрыв (вспомним хор апокалипсических предсказаний, сопровождавший первые шаги российских реформ). Но сколько ни подбрасывай угля в топку, никакого взрыва нет -- как, впрочем, нет и заметного движения вперед. А все потому, что в котле столько трещин, дыр и пробоин (читай: "серых" схем и теневых сделок), да к тому же умельцы врезали в него столько отводных труб, что любые усилия повысить давление заканчиваются ничем. С одной стороны, такое специфическое устройство сводит к минимуму опасность взрыва. С другой, из-за перманентно низкого давления "паровозу" никак не удается разогнаться и он долго буксует на месте.
Разрастание сети неформальных институтов имеет собственную инерцию и может приобретать характер самоподдерживающегося процесса. Если ограниченность неписаных правил и неявных контрактов не компенсируется эффективно действующими формальными институтами, которые начинают сами функционировать в неформальном режиме, перспективы устойчивого долгосрочного развития оказываются подорваны. Решающим фактором успеха становятся не конкурентные преимущества, а способность действовать поверх существующих законодательных или контрактных ограничений. Отсюда -- неизбежные потери в эффективности.
По существу российская экономика попала в своеобразную институциональную ловушку: отказ от неформальных сделок полностью парализовал бы ее текущее функционирование; вместе с тем их доминирование подтачивает силы, способные обеспечить долгосрочный устойчивый рост. Она оказалась в "плохом" институциональном равновесии, которое может быть описано в терминах "дилеммы заключенного". С одной стороны, сохранение ситуации с полу-включенными формальными регуляторами противоречит интересам подавляющего большинства участников "игры" (отсутствием "порядка" недовольны все -- и рядовые граждане, и предприниматели, и государство); с другой, никто не готов взять на себя издержки по ее изменению, так как все уже худо-бедно приспособились и боятся проиграть от нарушения статус-кво.
Уже упоминалось, что начавшийся экономический подъем привел к сворачиванию некоторых "нестандартных" форм адаптации, вписанных в сложные отношенческие сети (неплатежей, бартера и др.). Поскольку их главное предназначение -- амортизация последствий негативных шоков, вполне естественно, что при улучшении конъюнктуры "спрос" на них пошел на убыль. Сходные тенденции отмечались и в странах ЦВЕ, где выход из трансформационного спада сопровождался заметным сокращением масштабов неофициальной экономики.
Перспективы роста неизбежно порождают стимулы для переключения от неформальных "правил игры" -- к более формализованным, от неявных контрактов -- к явным, от непрозрачных теневых схем -- к открытым легальным трансакциям. Во-первых, благодаря меньшей неопределенности экономической среды временнй горизонт принимаемых решений увеличивается, что требует перевода деловых отношений на формально-контрактную основу. Во-вторых, возрастает способность участников рынка действовать в соответствии с условиями заключенных сделок, что благоприятно сказывается на общем уровне контрактной дисциплины. В-третьих, сокращение числа "нарушителей" позволяет более четко отделять оппортунистическое поведение от неоппортунистического, создавая предпосылки для избирательного применения санкций. В-четвертых, в растущей экономике резко возрастает альтернативная стоимость ведения дел исключительно через неформальные отношенческие сети, поскольку это сужает круг потенциальных контрагентов, затрудняет привлечение ресурсов из внешних источников для расширения бизнеса, блокирует выход в новые рыночные ниши. Наконец, возрастают издержки, связанные с несоблюдением принятых обязательств: повышается риск ухода партнеров (в изменившихся условиях становится легче найти другого поставщика, потребителя, работодателя), а потеря деловой репутации оборачивается значительной упущенной выгодой от будущих потенциальных сделок. [В конечном счете репутация -- это демонстрация неукоснительного следования правилам, включая добровольно принятые самоограничения. Конечно, она важна при любых типах деловых отношений -- как формальных, так и неформальных. Вопрос только в том, является ли информация о ней публичной (как в первом случае) или остается достоянием сравнительно узкого круга игроков (как во втором случае). Соответственно стимулы к инвестированию в репутацию будут неодинаковыми.] Так возникает спонтанный сдвиг в направлении большей формализации и прозрачности трансакционного пространства.
Однако сам по себе он имеет ограниченное значение и неспособен качественно изменить ситуацию. Удивительно не то, что с началом экономического подъема "нестандартные" формы адаптации стали использоваться менее активно, а то, каким массивным несмотря ни на что остается их применение. Не вызывает также сомнений, что любой серьезный негативный шок сразу бы развернул российскую экономику в обратном направлении. Сам по себе экономический рост не может изменить институциональной природы переходного общества; в лучшем случае он способен создать благоприятные предпосылки для ее постепенного переформатирования.
Спонтанный сдвиг "снизу" в пользу большей формализации и прозрачности способов экономического взаимодействия может дать долгосрочный эффект, только если он будет поддержан "сверху" -- законодательно, организационно и политически.
Что за поворотом?
Обсуждение "стационарно переходного" состояния российской экономики было бы неполным без попытки ответить на вопрос: в какой мере возможна ее ре-институционализация и какими путями она может пойти. Дело в том, что после недавней смены руководства страны обозначились новые тенденции, идущие вразрез с инерцией предшествующего институционального развития.
Похоже, исходным для новой российской власти стало осознание тупиковости ситуации, сложившейся в пореформенный период. Было открыто признано, что система, при которой все государственные институты опутаны плотной сетью неформальных договоренностей и персонализированных связей, не имеет перспективы. Фактически обществу был предъявлен проект, ориентированный на альтернативную институциональную модель. Его опорные элементы легко реконструируются из программных заявлений и первых конкретных шагов новой власти. Это -- установление прозрачных и единых для всех "правил игры", чтобы все происходило в соответствии с законом; строительство "сильного государства", способного отвечать по своим обязательствам; ликвидация множественности центров власти и обеспечение независимости государственных институтов от влиятельных групп со специальными интересами; "выращивание" эффективной и некоррумпированной (а значит -- высокооплачиваемой) бюрократии; разведение политики и экономики, утверждение принципа равноудаленности в отношениях между бизнесом и властью; сужение пространства "серых" схем и непрозрачных теневых практик; выведение неофициальной экономики, где это возможно, "на свет", включение ее в нормальное правовое поле. Как нетрудно убедиться, эти задачи во многом коррелируют с общими выводами, вытекающими из нашего обсуждения "стационарно переходного" состояния российской институциональной системы.
Выделяются несколько ключевых направлений, по которым на начальном этапе развивалась практическая реализация того, что можно было бы назвать "путинским проектом": (1) политическое и экономическое ослабление элитных групп, заинтересованных в сохранении прежнего порядка и располагающих достаточными властными и финансовыми ресурсами для "размывания" любых формальных регуляторов; (2) унификация законодательного пространства, устранение противоречий между нормами и процедурами, действующими в разных звеньях и на разных уровнях правовой и административной системы; (3) сокращение числа и упрощение содержания формальных ограничений, а также снижение издержек, связанных с их соблюдением; (4) ужесточение санкций за нарушение законов и контрактных установлений (другими словами -- повышение издержек, сопровождающих оппортунистическое поведение).
При всей кажущейся разнородности эти инициативы сводятся к одному общему знаменателю -- к попыткам заставить работать механизмы enforcement'а, обеспечив минимально приемлемый уровень защиты общих "правил игры". [Сознание, свыкшееся с "переходным" укладом жизни, может воспринимать сдвиг от неформальных регуляторов к формальным как ущемление свободы, и в каком-то смысле это, наверное, действительно так. Не следует, однако, забывать, что неписаные нормы и правила также являются ограничителями, пусть и иного рода. При какой системе свобода экономической деятельности оказывается стеснена меньше -- где предприниматель, однажды обманув партнеров, теряет репутацию и лишается возможности заниматься бизнесом дальше, или где он может нарушать контрактные обязательства неограниченное число раз, но в одном случае из десяти рискует стать жертвой заказного убийства? Однозначный ответ здесь едва ли возможен.] Успех на этом пути означал бы выход российской экономики из "плохого" институционального равновесия, в котором она оказалась заперта после почти десятилетнего опыта реформ.
Вместе с тем нельзя не заметить, что в этом "проекте" содержится фундаментальное противоречие, способное взорвать его изнутри. Оно заключается в том, что универсалистскую программу предстоит воплощать в жизнь аппарату, который сам является продуктом предшествующей эпохи, мыслит исключительно в категориях неявных сделок и неспособен работать иначе кроме как посредством все тех же непубличных, теневых технологий. Конечно, можно сказать, что это ограничение задано объективно: другой аппарат, с иными представлениями и навыками администрирования, взять неоткуда; эффективную "веберианскую" бюрократию невозможно создать в одночасье. Но это ставит судьбу всего "проекта" под большой вопрос.
Его провал может выразиться в двух различных формах. С одной стороны, вполне вероятно, что после непродолжительного периода бури и натиска все вернется на круги своя, персональные подвижки не будут сопровождаться серьезными системными сдвигами и в конце концов прежняя парадигма отношений будет воспроизведена в практически неизменном виде. [К тому же универсалистская риторика может скрывать вполне материальные интересы тех или иных влиятельных кланов.] Такой вариант развития будет означать фактическое сохранение "стационарно переходной" модели общественного устройства.
С другой стороны, нельзя исключить, что попытки перевести ее в иной, более упорядоченный и "правилосообразный" режим могут пойти по пути усложнения и умножения числа запретов и ограничений, безостановочного наращивания и ужесточения административного контроля. В таком случае возникнет реальная опасность формирования модели с выраженными элементами авторитарности, неспособной к динамичному развитию, подавляющей независимую инициативу, парализующей автономные силы самоорганизации общества. (С теоретической точки зрения систему авторитарного правления можно определить как режим, где органам enforcement'а принадлежит право по своему усмотрению устанавливать и менять общие "правила игры".) В долгосрочной перспективе этот вариант институциональной эволюции также представляется тупиковым.
* * *
Как я надеялся показать, современная институциональная теория может быть интересна не только своими общими идеями и подходами; ей есть что сказать и по поводу реальных институциональных развилок, которые открываются перед переходными обществами. Сегодня специфическая институциональная модель, сложившаяся в России в шоковой среде первых пореформенных лет, находится на перепутье; существует несколько правдоподобных сценариев ее дальнейшей эволюции. Какой из них окажется ведущим, по-видимому, станет ясно в ближайшие два-три года. Тогда-то и можно будет дать внятный ответ на вопрос, вынесенный в заглавие этих заметок.