 |
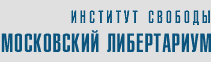 |
|
||
Сочинения ДАВИДА РИКАРДО (в 3-х томах)Давид Рикардо
Перевод под редакцией члена-корреспондента Академии Наук СССР М.Н. Смит Оглавление
ПредисловияРикардо как ученый От издательства Издание сочинений Давида Рикардо Государственным издательством политической литературы было начато накануне Отечественной войны. В 1941 г. вышли в свет I и II тома. Ввиду того что в настоящее время I и II тома становятся библиографической редкостью, Госполитиздат выпускает их вторым изданием. Первым изданием выходит III том сочинений. Для перевода произведений Рикардо был использован ряд английских изданий, вышедших в свет еще при жизни автора. При редактировании настоящего издания использовано Собрание сочинении Давида Рикардо, изданное Кембриджским университетом в 1951--1955 гг. Произведения Рикардо даны в сочинениях не в хронологическом порядке, а в тематическом. В первый том вошла его основная теоретическая работа «Начала политической экономии и налогового обложения»; во втором томе собраны статьи и речи по вопросам денежного обращения и банков; в третий том вошли работы по вопросам земледелия и ренты и впервые публикующиеся на русском языке критические примечания к книге Мальтуса «Начала политической экономии». В эпоху своего победоносного шествия вперёд к экономическому и политическому господству буржуазия передовых тогда европейских стран - Англии и Франции - выделила из своих рядов немало крупнейших учёных как в области естественных, так и в области общественных наук и, в частности, политической экономии. Три стадии развития капиталистической промышленности - путь её от простой кооперации к машинному производству - отмечены и крупными достижениями в области науки. Создавались все условия капиталистического производства: отделение мелкого производителя от средств производства, объединение многих совместно работавших наёмных рабочих под одной капиталистической крышей, разделение труда между ними и, наконец, подчинение рабочих ритму крупного машинного производства, основанного на применении механического двигателя. В то же время зрело в умах людей и научное обобщение этих явлений. Вильям Петти (1623-1687), учитель буржуазии, яростно доказывавший ей, что источник богатства не деньги и что увеличение количества их путём фальсификации монеты может обмануть лишь "глупцов", совершенно недвусмысленно указывал молодой буржуазии источник обогащения: пусть рабочие попостятся в пятницу вечером и тратят на обед полтора часа вместо двух, т. е. пусть работают больше на 1/20 времени и настолько же меньше потребляют. Пусть увеличивается абсолютная прибавочная стоимость - таков надёжный путь роста буржуазного богатства. Певец мануфактуры Адам Смит (1723-1790) с восторгом описывает рост производительности труда на капиталистических мануфактурах в результате разделения труда и становится в то же время в тупик перед обменом большего количества труда на меньшее. Что капиталист даёт рабочему всё меньше и меньше в обмен на всё большее количество труда именно в эпоху роста производительности последнего, это Смиту ясно, но он ещё не может отделаться от докапиталистического недоумения по этому вопросу. Недаром же автор статьи о Рикардо в "Encyclopedia Britannica" противопоставляет Смита Рикардо и сокрушённо замечает, что последний был "скорее экономист, чем социальный философ", ибо в работах его "нет и следа тех симпатий к рабочему классу, которыми отличался Смит. Он рассматривал рабочего лишь как орудие в руках капиталиста". За кажущейся наивностью этого замечания скрывается, конечно, совершенно определённая цель: ещё одним способом нанести удар ненавистному современной буржуазии теоретику трудовой стоимости - Рикардо. И всё же помимо воли и сознания автора статьи в ней отражается, хотя и косвенно, какое-то реальное явление. В эпоху быстрой капиталистической индустриализации, когда на сцену являются пар в качестве двигательной силы и автоматический ткацкий станок, когда быстро развиваются металлургия и машиностроение, не стоило уже вспоминать о том, что наёмный рабочий был когда-то самостоятельным мелким производителем. Теперь задача состояла не в том, чтобы сопоставлять прошлое и настоящее, а в том, чтобы провозгласить торжество и незыблемость капитализма как вечного и единственно возможного строя общественной экономики. У Рикардо нет уже "ценных противоречий" (Маркс) Смита, но в то же время он частично исправил ошибки последнего, вытекающие из неясного понимания природы постоянного капитала. Если не постоянный капитал полностью, то основной капитал и его роль в капиталистическом производстве Рикардо были выявлены, а в стоимость товара теперь уже включалась им и стоимость потраченных средств производства. Вместо смитовского купленного труда на сцену явился затраченный труд, а вместо неопределённого понятия "труд" более точное понятие - "рабочее время". "Наконец, - пишет Маркс в "Теориях прибавочной стоимости", - выступает Рикардо и кричит науке: стой! Основа, исходный пункт физиологии буржуазной системы - понимания ее внутренней органической связи и жизненного процесса - есть определение стоимости рабочим временем. Отсюда исходит Рикардо и требует от науки, чтобы она оставила свою прежнюю рутину и дала себе отчет в том, насколько остальные развитые, выясненные ею категории - отношения производства и обращения - соответствуют или противоречат этой основе, этому исходному пункту... В этом-то и заключается историческое значение Рикардо для науки..." [К. Маркс, Теории прибавочной стоимости, т. II, ч. 1, 1936, стр. 8-9] Кто же был этот человек, крикнувший буржуазной политэкономии "стой!", требовавший от неё, чтобы она "оставила свою прежнюю рутину", и сумевший сделать это, даже несмотря на "научную недостаточность его метода"? [К. Маркс, Теории прибавочной стоимости, т. II, ч. 1, 1936, стр. 9] Давид Рикардо родился в 1772 г. и умер в 1823 г., 51 года от роду, в расцвете своей научной и политической деятельности. Годы, в которые он жил, были периодом огромного значения в развитии и укреплении буржуазного господства. Буржуазная революция во Франции смела за это время феодальные преграды, мешавшие развитию капитализма, английская же буржуазия, ещё ранее вышедшая на историческую арену, переживала промышленный переворот: применение машин, парового двигателя, развитие пароходства, расширение сферы кредита и банковского дела и одновременно пролетаризация широких масс трудящихся и жестокая эксплуатация рабочих. В эту эпоху буржуазии нужен был учёный, который чётко и членораздельно провозгласил бы экономические принципы буржуазного господства, дав определение стоимости рабочим временем. Таким учёным, завершившим дело своих предшественников - Вильяма Петти и Адама Смита в Англии, физиократов во Франции, - и был Рикардо. Он пришёл в науку не прямой дорогой - через систематическое образование. Сын биржевого маклера, еврея, он лишь два года учился в торговой школе, а затем работал в предприятии отца. Разойдясь с отцом по религиозным основаниям,- женившись на христианке,- он выступил на биржевом поприще. Большие практические способности помогли будущему политэконому составить себе крупное состояние. В 1797 г., когда Рикардо было 25 лет, он стал миллионером. Однако в дальнейшем он не пошёл по проторённой дорожке и не сделался профессиональным деятелем биржи. Став богатым, он отошёл от биржи и занялся научной работой. Сперва он отдал дань естествознанию и был одним из членов-учредителей Геологического общества Англии, затем занялся политической экономией. Английские биографы Рикардо утверждают, что во время пребывания на курорте Батс он якобы случайно натолкнулся на книгу Адама Смита "Богатство народов" и, прочитав её, принялся работать в области политэкономии. Однако ничего случайного тут не было. Будучи образованным человеком, Рикардо знал, конечно, о книге Смита. Он стал работать в области политэкономии, имея уже естественно-историческое образование, и мог поэтому использовать и в ней метод естественных наук. Свою дальнейшую научную работу Рикардо посвящает уже полностью политической экономии. Внимание его сосредоточивается первоначально на проблемах денежного обращения. В 1809 г. он выпускает анонимный памфлет "Цена золота", вызвавший ряд возражений. Отвечая на них, Рикардо перерабатывает свой памфлет и выступает сначала с письмом в редакцию газеты "The Morning Chronicle", а затем с брошюрой "Высокая цена слитков - доказательство обесценения банкнот". Как говорит его буржуазный биограф на страницах "Encyclopedia Britannica", эта работа была новым стимулом к дискуссии по поводу возобновления оплаты наличными банкнот Английского банка. Это был период действия так называемого Акта о рестрикции, т. е. закона, ограничивающего размен банкнот на золото, проведённого в эпоху наполеоновских войн, расстройства внешней торговли и неурожаев. Золотые запасы Английского банка истощились, курс банкнот сильно упал: если в 1799 г. сумма неразменных банкнот составляла 8,5 млн. ф. ст., то в 1802 г. она поднялась до 17 млн. ф. ст., а к 1810 г.- до 28 млн. ф. ст. Естественно, что в такой обстановке выступления Рикардо привлекли к себе внимание и послужили толчком к назначению так называемого Bouillon Committee, или парламентского Комитета о золотых слитках. Доклад Комитета подтвердил выводы Рикардо, что не помешало, однако, палате общин принять постановление, объявлявшее банкноты не обесцененными. В 1811 г. Рикардо выступает с работой "Ответ на практические замечания г-на Бозанкета по поводу доклада Комитета о слитках", а в 1816 г. со статьёй "Предложения в пользу экономного и устойчивого денежного обращения". В этих работах Рикардо ведёт решительную борьбу за оздоровление денежного обращения Англии и резко критикует Английский банк (акционерное общество, которому английское правительство поручало государственные эмиссионные и кредитные операции), наживающийся на управлении государственным долгом. Годом раньше, в 1815 г., в разгар политической борьбы против "хлебных законов" Рикардо выступает против мальтусовской работы "Основы взгляда на политику ограничения ввоза иностранного хлеба" <Malthus, Grounds of an Opinion on the Policy of Restricting the free exportation of corn>. Наконец, в 1817 г. Рикардо выступает со своим капитальным трудом "Начала политической экономии и налогового обложения" - трудом, в котором, по выражению Маркса, анализируется самая "основа, исходный пункт физиологии буржуазной системы". Именно в этом труде Рикардо дал определение стоимости рабочим временем, именно в нём и раздался, по выражению Маркса, крик "стой!", обращённый к буржуазной науке. В "Началах политической экономии" Рикардо дал доказательство "научной недостаточности" метода буржуазной политэкономии, показав с полной очевидностью, что "классическая политическая экономия подходит очень близко к истинному положению вещей, однако не формулирует его сознательно". Но, как отмечал Маркс, "этого она и не может сделать, не сбросив своей буржуазной кожи" <К. Маркс, Капитал, т. I, 1955, стр. 544>. В 1819 г. Рикардо был избран в парламент. В своей парламентской деятельности он, как пишет Лесли Стефен, автор биографии Рикардо, в "Dictionary of National Biography", "соглашался почти безоговорочно с политикой радикальной партии того периода... резко изобличал всякие религиозные преследования, нападал на хлебные законы, на законы о ростовщичестве и вообще на всякого рода подачки и ограничения". Эта характеристика парламентской деятельности Рикардо вуалирует суть вопроса: экономист-теоретик, поддерживавший промышленную буржуазию против лендлордов, Рикардо как политик стоял на левом фланге этой борьбы, принадлежа к радикалам. Он боролся против хлебных законов, за свободу торговли, за свободу коалиций и рабочих союзов и за парламентскую реформу. Джемс Милль, последователь и личный друг Рикардо, с восторгом говорит о его "бесстрашной и достопамятной декларации в защиту неограниченной свободы мысли и свободы речи" в области религиозных вопросов. В этой декларации Рикардо горячо поддерживал петицию об освобождении крайнего радикала Ричарда Карлейля, арестованного за свои передовые взгляды. В одном письме к Троуэру Рикардо пишет: "Свобода правительства ограничена, поскольку народ может его свергнуть. И какие гарантии свободы имелись бы, если бы были дозволены только приходские собрания?" В письме к Мак-Куллоху от 22 июня 1819 г. Рикардо так характеризует своё положение в палате общин: "Оказанный мне снисходительный приём облегчил мне до некоторой степени произнесение речей, но для моего успеха имеется всё ещё так много огромных препятствий, некоторые из которых являются, как я опасаюсь, почти непреодолимыми, что с моей стороны было бы, думается мне, делом мудрости и здоровой осторожности довольствоваться молчаливым голосованием". Эти "непреодолимые препятствия", о которых говорил Рикардо, свидетельствуют о той борьбе, которую он вёл против торийского правительства в той самой палате общин, которая несколькими годами раньше постановила, что обесценения банкнот, приближавшегося тогда к своему максимуму, не существует. Но, защищая интересы промышленной буржуазии как класса, пришедшего на смену феодалам, Рикардо в то же время не солидаризируется полностью с партией вигов, выражавшей интересы промышленной буржуазии. "Партия вигов, - писал он в письме к Мак-Куллоху, - владеет сама большим количеством гнилых местечек, но с чем виги менее всего захотят расстаться, так это с тем влиянием, которое они оказывают на избирателей как крупные землевладельцы или просто капиталисты". Две черты характерны для Рикардо как учёного: его научное беспристрастие и известная способность к самокритике. Маркс подчёркивает научное беспристрастие Рикардо, сопоставляя его позиции с позициями Мальтуса. Последний мог поддерживать интересы промышленной буржуазии лишь постольку, поскольку они совпадали с интересами земельной аристократии, поскольку, следовательно, оба класса дружно выступали "против массы народа, против пролетариата" <К. Маркс, Теории прибавочной стоимости, т. II, ч. 1, стр. 204>. Но там, где интересы промышленной буржуазии и земельной аристократии расходились (как по вопросу о хлебных пошлинах, например), Мальтус всегда становился на защиту лендлордов. Рикардо же стоит прежде всего на точке зрения развития производительных сил и, как замечает Маркс, "с полным для своего времени правом рассматривает капиталистический способ производства как самый выгодный для производства вообще...". Его прямолинейность в этом вопросе является, по мнению Маркса, "не только научно добросовестной, но и научно обязательной для его точки зрения" <там же, стр. 205, 206>. Рост производительности человеческого труда для него выше всего, и в жертву ей он согласен принести даже стоимость основного капитала, поскольку последняя падает при росте первой. "Нельзя отрицать, - пишет Рикардо, - что некоторое количество капитала было бы потеряно. Но что такое представляет собой владение капиталом или сохранение его - цель или средство? Несомненно, средство. В чём мы нуждаемся, так это в изобилии товаров; если бы могло быть доказано, что, пожертвовав одной частью нашего капитала, мы могли бы увеличить годичное производство тех предметов, которые служат для нашего наслаждения и нашего счастья, тогда, конечно, мы не должны были бы роптать на потерю части нашего капитала" <Давид Рикардо, О покровительстве земледелию, т. III настоящего издания, стр. 74>. Рикардо готов также пожертвовать интересами и лендлордов и рабочих, если технический прогресс затрагивает ренту или заработную плату или является причиной безработицы. По последнему пункту необходимо, однако, сделать оговорку: что технический прогресс приводит в условиях капитализма к безработице, это не всегда было ясно Рикардо. Но именно тут он и дал любопытный образец самокритики. В XXXI главе своих "Начал", анализируя экономические последствия введения машин для разных классов общества, Рикардо пишет: "Когда я впервые обратил своё внимание на изучение вопросов политической экономии, я придерживался взгляда, что применение машин... поскольку оно сберегает труд, является благом для всех...". И далее: "Класс рабочих, думал я тогда, также выиграл бы в одинаковой степени от введения машин, потому что при той же самой денежной заработной плате рабочие могли бы теперь покупать больше товаров. Я полагал при этом, что заработная плата не понизилась бы, так как капиталист мог бы предъявлять спрос и занять такое же количество труда..." Но ошибочность этих представлений скоро стала ясна Рикардо: "...Я теперь убедился, - пишет он в следующем абзаце, - что замена человеческого труда машиной часто приносит очень большой ущерб интересам класса рабочих... Теперь я имею основание думать, что фонд, из которого извлекают свой доход землевладельцы и капиталисты, может возрастать, в то время как другой, от которого главным образом зависит трудящийся класс, может уменьшаться" <Давид Рикардо, Начала политической экономии и налогового обложения, стр. 318, 319 и 320 настоящего тома>. Конечно, Рикардо не делает никаких политических выводов из этого признания и даже находит смягчающие обстоятельства: машины, говорит он, вводятся не сразу, а постепенно, т. е. "влияние их сказывается скорее при решении вопроса о применении сберегаемого и накопляемого капитала, чем при перемещении капитала, фактически уже применённого". Мало того, дело не столько во введении машин, сколько в вывозе капитала за границу: "Вкладывая часть капитала в усовершенствованные машины, мы только задерживаем прогрессивное возрастание спроса на труд; вывозя капитал в другую страну, мы совершенно уничтожаем этот спрос" <Там же, стр. 325, 326>. Итак, не вывозите капитала и не бойтесь применять машины; пусть процветает промышленный капитализм, хотя положение рабочего будет ухудшаться, - таков объективный смысл констатации Рикардо, показывающих, с одной стороны, его научную беспристрастность и способность к самокритике, а с другой - его полную готовность пожертвовать интересами рабочих во имя развития производительных сил капитализма. Научное беспристрастие и вместе с тем научная ограниченность Рикардо выражаются также в весьма своеобразной форме и в его отношении к своему современнику - утописту Роберту Оуэну. Будучи членом парламентской комиссии, которая должна была рассмотреть оуэновский проект, он высказался против него. В одном из писем к Троуэру он говорит, что "такое общество, какое проектируют они" (т. е. Оуэн и Престон), не может процветать, ибо "опыт веков против него". Это совершенно закономерно для Рикардо, теоретика промышленной буржуазии, но это не помешало, однако, Рикардо высоко ценить Оуэна как человека и общественного деятеля и открыто защищать его от нападок буржуазии. Мало того, в вышецитированной работе "О покровительстве земледелию", анализируя влияние высокого урожая на цены, Рикардо говорит: "Если бы мы жили в одном из параллелограммов Оуэна и пользовались всеми нашими продуктами сообща, то никто не пострадал бы в результате изобилия; но, пока общество устроено так, как в настоящее время, изобилие часто будет убыточно для производителей, а недостаток будет для них выгоден" <Давид Рикардо, О покровительстве земледелию, т. III настоящего издания, стр. 53>. Выше мы уже привели характеристику, данную Марксом Рикардо и его роли в истории политической экономии. Глубокая критика, которой подвергает Маркс Рикардо, исходит именно из признания этой исторической роли. Так, в "Нищете философии", говоря об экономистах-фаталистах, т. е. тех теоретиках, которые "индифферентны в своей теории к тому, что они называют неудобствами буржуазного производства", Маркс разделяет их на классиков и романтиков. О первых он говорит: "Классики - как, например, Адам Смит и Рикардо - являются представителями той буржуазии, которая, находясь еще в борьбе с остатками феодального общества, стремилась лишь очистить экономические отношения от феодальных пятен, увеличить производительные силы и придать новый размах промышленности и торговле... Миссия экономистов, вроде Адама Смита и Рикардо, являющихся историками этой эпохи, состоит лишь в том, чтобы уяснить, каким образом приобретается богатство при отношениях буржуазного производства, сформулировать эти отношения в виде категорий и законов и показать, насколько эти законы, эти категории в деле производства богатства стоят выше, чем законы и категории феодального общества" <К. Маркс, Нищета философии, 1941, стр 106>. Такова историческая роль и историческая заслуга Смита и Рикардо. Они были историками эпохи победы буржуазии над феодализмом, помогали очистить новые экономические отношения от "феодальных пятен" и "развить производительные силы" той формации, которая является исторической предпосылкой социализма. По меткому замечанию Ленина, Рикардо "инстинктивно характеризовал самую суть буржуазного способа производства..." <В. И. Ленин, Соч., т. 2, стр. 136>. Что же именно внёс Рикардо в науку политической экономии и прежде всего в теорию стоимости и прибавочной стоимости? Несомненно, огромной научной заслугой его является преодоление ошибки Смита в теории стоимости - смешения купленного труда с затраченным. "Адам Смит,- говорил Рикардо,- который так правильно определил коренной источник меновой стоимости, оказался непоследовательным", ибо Смит имеет в виду "не количество труда, затраченное на производство того или иного предмета, а то количество его, какое можно купить за этот предмет на рынке..." Ведь рабочий, замечает Рикардо, не получит "за свой труд вдвое больше против прежнего, раз труд его стал вдвое производительнее, и он может поэтому выработать вдвое больше товара" <Давид Рикардо, Начала политической экономии и налогового обложения, стр. 35 настоящего тома>. Критика неверного положения Смита, его недоговорённости и недодуманности начинается именно с вопроса о росте производительности труда. За большее количество продукта всё та же заработная плата! Значит, в теории Смита имеется трещина. И далее указывается причина этого: "...Меновая стоимость произведённых товаров пропорциональна труду, затраченному на их производство; не только на непосредственное производство, но и на изготовление орудий и машин, требующихся для того вида труда, при котором они применяются" <Там же, стр. 43>. В этом определении Рикардо заключаются и большой шаг вперёд и серьёзная ошибка. Здесь отведено надлежащее место основному капиталу и опущен оборотный. Рабочее время, необходимое для производства орудий и машин, принято во внимание, но время, нужное для производства сырья, не учтено. Однако Рикардо не всегда отвлекается от оборотного капитала; в приводимых им конкретных примерах последний не всегда выпадает. Так, приводя в пример производство чулок, Рикардо определяет затраченное на них рабочее время следующим образом: "Сюда войдёт, во-первых, труд по обработке земли, на которой разводят хлопок; во-вторых, труд по доставке хлопка в страну, где будут изготовлены из него чулки, сюда же включается также часть труда, затраченного на постройку судна, на котором хлопок перевозится... в-третьих, труд прядильщика и ткача; в-четвёртых, часть труда машиностроителя, кузнеца и плотника, которые строили здания и машины, с помощью которых изготовляются чулки..." <Давид Рикардо, Начала политической экономии и налогового обложения, стр. 44 настоящего тома>. Здесь не говорится, правда, ни о стоимости хлопка как сырья для прядения, ни о стоимости семян хлопка как сырья для земледелия, но зато идёт речь о труде, создающем сырьё. Развитие и углубление теории трудовой стоимости с самого начала связано у Рикардо с одним ограничением: его интересует лишь относительная стоимость товаров, или "их стоимость сравнительно с другими вещами" <Там же, стр. 43>. Если труд людей, производящих тот или иной товар, стал производительнее, тогда как труд, производящий все другие товары, остался на прежнем уровне, то как изменится их стоимость по отношению друг к другу,- вот проблема, которая волнует Рикардо и за пределы которой он не может выйти. Отношение же стоимостей отдельных товаров к общественному труду остаётся вне поля его зрения. Величина стоимости заслоняет для него её действительную природу и её исторический характер. Стоимость для него - только всегда существующее отношение вещей, а не исторически обусловленное отношение людей. Установленная Рикардо противоположность между заработной платой и прибылью непосредственно вытекает из его теории стоимости и в то же время из предположения, что рабочий день есть величина постоянная. Отсюда достоинства этой теории и отсюда её недостатки. В полемике с Сэем, Мальтусом и Смитом Рикардо резко восстаёт против их утверждений, что изменение заработной платы влияет на размеры ренты и на стоимость товаров: "Повышение стоимости труда невозможно без соответствующего падения прибыли. Если хлеб подлежит разделу между фермером и рабочим, то чем больше доля последнего, тем меньше остаётся первому. Точно так же если сукно или хлопчатобумажные ткани делятся между рабочими и их хозяевами, то, чем большая доля даётся первым, тем меньше остаётся последним" <Давид Рикардо, Начала политической экономии и налогового обложения, стр. 52 настоящего тома>. Это положение Рикардо неустанно защищает в своих "Началах" и особо оттачивает свои формулировки в полемике: "Если заработная плата падает, то поднимается прибыль, а не рента. Если заработная плата поднимается, то падает прибыль, а не рента" <Там же, стр. 338>. Это - по адресу Мальтуса, который видит в росте заработной платы одну из причин падения ренты, и наоборот. По адресу же Сэя, считающего, что рост заработной платы вызывает повышение цен, Рикардо язвительно замечает: "Убеждённый, что цена товаров регулируется ценой труда... г-н Сэй говорит: "Я подозреваю, что дешевизна товаров, получаемых из Англии, отчасти обусловлена существованием в этой стране множества благотворительных учреждений" (т. II, стр. 277). Для того, кто утверждает, что заработная плата регулирует цену, это - последовательное заключение" <Там же, стр. 70, сноска>. В конце VI отдела главы "О стоимости", посвящённого "неизменной мере стоимости", Рикардо даёт формулировку более общего характера, выдвигая на первый план отличие своей позиции от позиций своих предшественников: "...Адам Смит и все последующие экономисты без единого исключения утверждали, что за повышением цены труда последовало бы однообразное повышение цены всех товаров. Надеюсь, мне удалось показать, что этот взгляд совершенно не обоснован" <Там же, стр. 60>. Эта твёрдая позиция вызывает возмущённые протесты со стороны апологетической политэкономии буржуазии от Кэри до наших дней; она свидетельствует в то же время о научном бесстрашии Рикардо и его глубоком проникновении в природу капиталистической экономики. Однако и тут доминируют отношения вещей. Ясно установлены отношения заработной платы и прибыли, но не видно рабочих и капиталистов в их постоянной взаимной борьбе. Колебания величины заработной платы определяются в анализе Рикардо лишь колебаниями цен на средства существования в зависимости от условий обработки земли, внешней торговли, изменения стоимости денег и т. д. С другой стороны, величина рабочего дня и вновь созданная стоимость рассматриваются как величины постоянные. Это может быть правильно лишь для начала анализа, лишь как исходный пункт. Постоянное стремление капитала увеличить абсолютную прибавочную стоимость за счёт увеличения длины рабочего дня остаётся, так же как и первые попытки рабочих бороться за его сокращение, вне поля зрения и вне анализа Рикардо. Для него не наступил ещё момент, когда, по образному выражению Маркса, раздался "голос рабочего, который до сих пор заглушался шумом и грохотом процесса производства" <К. Маркс, Капитал, т. I, стр. 238>. Имея дело не с рабочими и капиталистами как участниками классовой борьбы, а лишь с получателями заработной платы и прибыли, Рикардо не может всё же не видеть условий роста относительной прибавочной стоимости. Этот рост является для него опять-таки результатом естественных причин - введения новых машин, улучшенных методов обработки земли, усовершенствования транспорта и т. д. Из самой теории стоимости вытекает объективная неизбежность "падения цены труда" при развитии производительных сил, т. е. при уменьшении количества рабочего времени, необходимого для производства средств существования рабочих. Постоянного сознательною воздействия капитала "на падение цены труда" Рикардо не видит. Его голос не был голосом капитала, который "громогласно и с обдуманным намерением возвещает о ней (о машине. - М. С.) как о силе, враждебной рабочему" <Там же, стр. 441>, но он не был, конечно, и голосом, формулирующим требования рабочих. Лишь в теории ренты Рикардо ясно слышатся уже голоса людей, представляющих борющиеся классы. Земельная собственность и высокие цены на хлеб мешают развитию капиталистической индустриализации. Промышленный капитал вынужден отдавать землевладельцу излишек стоимости над ценой производства. Лендлорды и их апологет Мальтус всячески отстаивают право собственников земли на ренту и требуют высоких пошлин на ввозной хлеб, выращиваемый на более плодородной земле, чтобы сохранить право на высокий излишек стоимости над ценой производства. Рикардо связывает свою теорию дифференциальной ренты с теорией трудовой стоимости. "Не потому хлеб дорог, что платится рента, а рента платится потому, что хлеб дорог" <Давид Рикардо, Начала политической экономии и налогового обложения, стр. 70-71 настоящего тома>, - замечает он. В. И. Ленин в своей критике теории ренты Сисмонди говорит, что последний "не столько опровергает Рикардо, сколько отвергает вообще перенесение на земледелие категории товарного хозяйства и капитализма" <В. И. Ленин, Соч., т. 2, стр. 155>. Наоборот, заслуга Рикардо именно и состоит в таком перенесении. Полемизируя со Смитом, который видит принципиальную разницу между земледелием и промышленностью в том, что в земледелии в отличие от промышленности работает не только человек, но и природа, Рикардо замечает: "Разве природа не делает ничего для человека в обрабатывающей промышленности? Разве силы ветра и воды, которые приводят в движение наши машины и корабли, равняются нулю? Разве давление атмосферы и упругость пара, которые позволяют нам приводить в движение самые изумительные машины,- не дары природы?" <Давид Рикардо, Начала политической экономии и налогового обложения, стр. 72 настоящего тома, сноска>. Именно на это ошибочное утверждение Смита опираются апологеты землевладельцев. От Мальтуса до Булгакова включительно все они стараются доказать, что рента - это дар природы. Возражая им, Рикардо утверждает, что защищать с помощью хлебных законов право на "прибавочный продукт, который земля даёт в форме ренты", это всё равно, что стремиться к тому, "чтобы с каждым годом вновь сооружённые машины были менее производительны, чем старые". Тогда "всем владельцам более производительных машин платилась бы рента" <Там же, стр. 71>, - замечает иронически Рикардо. Если абстрагироваться от путаницы, связанной с неправильным представлением Рикардо, что человечество обязательно идёт в обработке земли от лучших земель к худшим, и помнить твёрдую позицию Рикардо в вопросе о единстве теории стоимости и теории ренты, то смысл этой иронии Рикардо ясен: защитник технического прогресса и международного разделения труда обрушивается на лендлордов, для которых технический прогресс дело второстепенное, а право на ренту - основное и самое важное. Каковы бы ни были ошибки Рикардо в вопросах теории ренты и теории денег <См. предисловия к II и III томам настоящего издания>, в основе их всё же лежит концепция трудовой стоимости; его ошибки в этих вопросах являются, следовательно, в отличие от "теорий" современной буржуазной политической экономии отклонением от правильной установки, а не результатом порочной исходной позиции. Классовое лицо Рикардо определяется именно его отождествлением технического прогресса с укреплением классового господства промышленной буржуазии и страстной борьбой против тех, кто задерживает этот прогресс, - собственников земли. Как указывает Маркс, Рикардо, развивая теорию ренты Андерсона, делает и "теоретический и практический шаг вперед". Первый состоит в определении "стоимости товара и т. д." и в проникновении в "природу землевладения", а второй - в аргументах "против необходимости частной земельной собственности на основе буржуазного производства и затем против всяких государственных мероприятий, вроде хлебных пошлин, способствовавших увеличению этой частной земельной собственности" <К. Маркс, Теории прибавочной стоимости, т. II, ч. 1, стр. 205>. Именно это единство теоретических и практических выводов характерно для Рикардо, идеолога промышленного развития Англии и промышленной буржуазии, поскольку она выражала это развитие в период его жизни и деятельности. Научные завоевания Рикардо, всё то, что труд его содержал в себе смелого и нового, были полностью использованы Марксом. Как говорит В. И. Ленин в статье "Три источника и три составных части марксизма", "классическая политическая экономия до Маркса сложилась в Англии - самой развитой капиталистической стране. Адам Смит и Давид Рикардо, исследуя экономический строй, положили начало трудовой теории стоимости. Маркс продолжал их дело". Учение Маркса чуждо всякого сектантства "в смысле какого-то замкнутого, закостенелого учения, возникшего в стороне от столбовой дороги развития мировой цивилизации. Напротив, вся гениальность Маркса состоит именно в том, что он дал ответы на вопросы, которые передовая мысль человечества уже поставила" <В. И. Ленин, Соч., т. 19, стр. 3 и 5>. Ряд буржуазных политэкономов упрекает Маркса в том, что он заимствовал у Рикардо трудовую теорию стоимости. Ленин видит, наоборот, проявление гениальности Маркса в том, что он шёл по столбовой дороге мировой цивилизации, что учение его было законным преемником достижений его предшественников. Но "там, где буржуазные экономисты видели отношение вещей (обмен товара на товар), там Маркс вскрыл отношение между людьми" <Там же, стр. 6> Именно в этом состоит то новое, что внёс Маркс в учение классиков буржуазной политической экономии. Так гениально критически использовал он наследство классиков, не выбросив из него того зерна истины, которое в нём заключалось. "Физиология буржуазной системы" была показана Рикардо с точки зрения буржуазии, чья победа над феодализмом дала мощный толчок развитию производительных сил. Маркс анализировал эту "физиологию буржуазной системы" с точки зрения пролетариата, чья историческая миссия заключается в свержении буржуазии, когда господство её становится тормозом к развитию производительных сил. II. Исторические судьбы теории Рикардо Непосредственными наследниками теории Рикардо были те утопические социалисты XIX в., которые исходили в своих экономических воззрениях из учения классической школы политэкономии, хотя и выступали уже в роли критиков капитализма. Полемизируя с Прудоном в "Нищете философии", Маркс изобличает его не только в грубых противоречиях, но и в полном невежестве относительно выдвигаемого им "уравнительного" применения "определения стоимости рабочим временем". Прудон, говорит Маркс, выдаёт это определение "за формулу будущего возрождения", между тем как на самом деле оно есть "не что иное, как научное выражение экономических отношений современного общества, что, задолго до г. Прудона, было точно и ясно доказано Рикардо". Но не только это неизвестно Прудону, а также и то, что не он "первый задумал преобразовать общество путем превращения всех в непосредственных производителей, обменивающихся равными количествами труда". Игнорируя развитие политической экономии в Англии, Прудон не знает, "что в разное время почти все социалисты этой страны делали уравнительные выводы из рикардовской теории" <К. Маркс, Нищета философии, стр. 58 и 59>. Говоря об этих социалистах, Маркс упоминает работы Годскина, Вильяма Томпсона, Эдмондса и "коммуниста" Брэя. В "Теориях прибавочной стоимости" Маркс посвящает целую главу возражениям против экономистов на основе рикардовской теории. Их учение противоположно теории Рикардо, ибо они критики капиталистического строя, и притом критики его с позиций пролетариата. Но теория, указывающая пролетариату путь к достижению цели, ещё не выкована, и вот они хватаются за теорию трудовой стоимости Рикардо, пытаясь использовать её против буржуазии. Однако на этой базе они могли говорить лишь о "справедливом обмене" по трудовому эквиваленту. Они не были, как Прудон, идеологами мелкой буржуазии и не стремились повернуть историю вспять, к временам простого товарного производства. Лишь отсутствие правильного теоретического оружия привело социалистов-рикардианцев к позициям, внешне схожим с прудоновскими. В предисловии ко II тому "Капитала" Энгельс пишет о той обширной литературе, "которая в двадцатых годах повернула теорию стоимости и прибавочной стоимости Рикардо в интересах пролетариата против капиталистического производства, побивала буржуазию ее собственным оружием" <См. К. Маркс, Капитал, т. II, 1952, стр. 12>. Смелый протест против капиталистической эксплуатации, содержащийся в трудах Томпсона, Годскина, Брэя, Грея и др., был протестом, опирающимся на основные категории товарного хозяйства. Раз признана теория стоимости Рикардо, то пусть зло капиталистической эксплуатации будет исправлено с помощью обмена равных количеств труда через посредство "национального банка", и пусть этим путём каждый получает "полный продукт труда" - таковы основные мотивы, красной нитью проходящие через работы социалистов-рикардианцев. В противоположность им Маркс видел в теории стоимости Рикардо лишь "физиологию буржуазной системы", а свою теорию коммунизма "основывал, - по словам Энгельса, - ...на неизбежном, принимающем на наших глазах ежедневно все большие размеры, крушении капиталистического способа производства" <См. К. Маркс, Нищета философии, стр. 9, предисловие Ф. Энгельса>. Теория Рикардо как "физиология буржуазной системы" не могла стать теоретической базой социализма. Она была, как мы уже знаем, теорией буржуазии в ту эпоху её развития, когда она, "находясь еще в борьбе с остатками феодального общества, стремилась лишь очистить экономические отношения от феодальных пятен, увеличить производительные силы и придать новый размах промышленности и торговле" <Там же, стр. 106>. Но раз эта задача была выполнена, теория Рикардо, завершившая дело классиков буржуазной политэкономии, оказалась уже ненужной буржуазии. В ходе дальнейшего развития буржуазного общества наследство Рикардо подверглось разложению и вульгаризации. На смену классикам приходит школа политэкономии, названная Марксом школой "вульгарной экономии". Вульгарная политическая экономия давала теоретическую базу уже не борьбе буржуазии с пережитками феодализма, а борьбе её с пролетариатом, начинающим осознавать себя как класс. По мере развития "реальных противоречий в экономической жизни общества" вульгарная политическая экономия "старается всеми силами отделаться путем болтовни от тех мыслей, в которых содержатся противоречия" <К. Маркс, Теории прибавочной стоимости, т. III, 1936, стр. 366>. Тем самым она становится сознательно апологетической. Сэй во Франции и Мальтус в Англии возглавляют это неизбежное превращение классической политической экономии в вульгарно-апологетическую. Заимствовав у классиков "вульгарный элемент", содержавшийся в их работах, Сэй и Мальтус выступают в качестве критиков трудовой теории стоимости. Хотя Сэй выступал, правда, как комментатор и систематизатор работы Смита, но на деле он, как отмечает Маркс, взял у Смита ("выкристаллизовал") именно все слабые и вульгарные элементы его теории. Рикардо же, наоборот, взял у Смита наиболее ценные, научные элементы его труда. Сэй "опровергает" трудовую теорию стоимости, заявляя, что стоимость создаётся не трудом, а совместным действием труда или трудолюбия и сил природы и капитала. С другой стороны, он выводит стоимость из полезности и смешивает понятия стоимости и богатства, меновой стоимости и потребительной. В своих "Началах" Рикардо даёт остроумную критику теории стоимости Сэя и той бесконечной путаницы и противоречий, которыми полна его работа. Сэевской теории стоимости соответствует его теория распределения, согласно которой продукт общественного труда распределяется между тремя "агентами" производства - землевладельцем, капиталистом и рабочим, иначе говоря, распадается на ренту, прибыль и заработную плату. Маркс метко называет эту "теорию" распределения, построенную на базе эклектической теории стоимости, "последовательностью глупости". Рикардо, как мы знаем, осознаёт, наоборот, противоречие между прибылью и заработной платой. Но вульгарная политическая экономия вообще отказывается признавать прибыль как самостоятельную категорию. Она является, по мнению вульгарной политэкономии, лишь "категорией заработной платы". Вульгарная политическая экономия отметает трудовую теорию стоимости, капитал же является для неё "самостоятельным источником стоимости или прибавочной стоимости". Эти экономические теории появляются на сцену именно тогда, когда буржуазная "политическая экономия как наука уже закончила свой путь", ибо сами по себе эти теории "являются в то же время могилой этой науки" <К. Маркс, Теории прибавочной стоимости, т. III, стр. 365, 367>. В Англии в роли критика Рикардо выступил в эту эпоху поп Мальтус - ярый защитник земельной аристократии против промышленной буржуазии и промышленной буржуазии против пролетариата, ярый враг рабочих. Маркс говорит о нём, что его характеризует "глубокая низость мысли" <К. Маркс, Теории прибавочной стоимости, т. II, ч. 1, стр. 205>. Эта "низость мысли" проявляется, между прочим, в том, что "из научных и всегда им украденных предпосылок" он делает только выводы, угодные земельной аристократии "против буржуазии и им обеим - против пролетариата" <Там же, стр. 207>. После опубликования его "Опыта о народонаселении", который Маркс называет "ученически-поверхностным и поповски-напыщенным плагиатом", английские враги французской революции увидели в нём "великого искоренителя всех стремлений к дальнейшему человеческому развитию" <К. Маркс, Капитал, т. I, стр. 622. Примечание 75-е>. Естественно, что этому "искоренителю" теория стоимости Рикардо показалась подозрительной. Рикардовский закон стоимости не соответствовал интересам земельной аристократии, и, опровергая его, Мальтус думал "сделать приятные своим покровителям выводы" <К. Маркс, Теории прибавочной стоимости, т. III, стр. 6>. Из двух противоречащих друг другу положений Смита, что стоимость определяется затраченным трудом и что она определяется покупаемым трудом, Мальтус в противоположность Рикардо принимает второе. Правда, по мнению Мальтуса, труд есть мера стоимости, но зато любой товар может служить мерой труда. Отношение же между трудом как мерой стоимости и товарами определяется, по Мальтусу, издержками производства. Последние же включают, с его точки зрения, не только труд, затраченный на орудия производства, и живой труд, но и прибыль на авансированный капитал. Таким образом, "стоимость" соответствует заработной плато, а издержки производства включают прибыль. Мальтус гордится таким "открытием". Маркс замечает по этому поводу: "Господин Мальтус хочет сразу включить в определение стоимости "прибыль", чтобы она непосредственно вытекала из этого определения, чего нет у Рикардо". Итак, Мальтус не только не сделал шага вперёд после Рикардо, а старался, наоборот, "отодвинуть политическую экономию назад за Рикардо, даже за Смита и физиократов" <Там же, стр. 7>. Наряду с вульгарными экономистами, критиковавшими Рикардо с позиций буржуазии и земельной аристократии, ряд буржуазных экономистов претендовал идти по пути Рикардо. Им ещё нужна была эта теория, поскольку борьба буржуазии с земельной аристократией продолжалась. На этот раз в противоположность попытке социалистов-рикардианцев использовать теорию Рикардо для обоснования социализма последняя была использована по-новому. Началась эпоха её вульгаризации, начался процесс, который Маркс назвал "разложением рикардианской школы". Наиболее типичными представителями этой группы были Торренс, Джемс Милль и Мак-Куллох. Первый из них - Торренс, хотя формально и не отказывается от трудовой теории стоимости, считает, однако, как и Смит, что последняя верна лишь для докапиталистических эпох. Далее, Торренс приравнивает издержки производства к стоимости, а прибыль рассматривает как излишек, получающийся благодаря продаже товаров выше стоимости. Милль пытается спасти теорию Рикардо от имеющихся в ней противоречий, но это ему не удаётся, ибо своего учителя он понимает совершенно формально и схоластически. Отсюда распространённое толкование трудовой стоимости, смешение труда человека с действием сил природы. Если, например, вино, хранившееся в погребе, стало дороже, то произошло это благодаря "труду" капитала, или накопленного труда. Прибыль же капиталиста Милль превращает в "вознаграждение за труд", в своего рода заработную плату. Ещё дальше пошёл по этому пути Мак-Куллох, "бессовестный тупица", как назвал его Маркс. О Мак-Куллохе Маркс говорит, что он хочет "обделать дела с рикардовской экономией... совершенно так же, как Сэй устроил дела со Смитом..." <К. Маркс, Теории прибавочной стоимости, т. III, стр. 134>. Устроил он, конечно, свои дела, выступая как последователь Рикардо, с тем чтобы на деле отказаться от трудовой теории стоимости. Стоимости создаются, по его теории, не только живым трудом, как это утверждает Рикардо, и не только "накопленным", как это допускает Милль, но и "низшими животными, машинами и силами природы". Мак-Куллох, взявшись защищать Рикардо от Сэя, на деле принял теорию трёх факторов Сея. Трудности, с которыми сталкивался Рикардо, его горе-последователи решали, как говорит Маркс, "путем резонирования... путем словесной фикции, путем изменения правильных названий вещей". И этот способ "гораздо более разрушил все основание теории Рикардо, чем все нападки врагов..." <Там же, стр. 66>. * * * В эпоху империализма буржуазная политэкономия переживает окончательное падение. Пробил, по выражению Маркса, её смертный час. Изучение действительной экономики буржуазного общества, вскрытие законов физиологии последнего не нужно больше буржуазии, давно забывшей о своей борьбе с феодалами, вступившей в период, который Ленин охарактеризовал как "умирающий капитализм" и канун пролетарской революции. Маркс, говоря о "низости мысли" у Мальтуса, даёт такое пояснение этому термину: "Человека же, стремящегося приспособить науку к такой точке зрения, которая не почерпнута из нее самой, - как бы при этом она ошибочна ни была, - а взята извне, из чуждых ей внешних интересов, я называю "низким" <К. Маркс, Теории прибавочной стоимости, т. II, ч. 1, стр. 208>. Это определение Маркса с полным правом может быть применено и к создателям так называемой теории "предельной полезности" - прямым наследникам вульгарных экономистов. Классики буржуазной политэкономии, как бы ошибочны ни были их воззрения, не навязывали науке "чуждых ей внешних интересов". Их ошибки были частью их научной работы. Но школа "предельной полезности" именно исходила из таких чуждых науке интересов; выполняя социальные задания своих повелителей, она отошла от какого бы то ни было научного анализа действительности, заменив его надуманными, искусственными схемами и математическими формулами, не отражающими действительных экономических отношений. Со страниц их произведений исчезли капиталист, земельный собственник, рабочий. Все люди превратились для них в "продавцов" и "покупателей", а столкновение субъективных намерений последних сделалось единственным законом политической экономии. Раз трудовая теория стоимости, как она была создана классиками буржуазной политэкономии, была использована и критически переработана Марксом в интересах пролетариата, то тем самым она сделалась одиозной для Бем-Баверка, Менгера, Шарля Жида, Визера и др. Вытекающее из теории трудовой стоимости положение, что пролетариат является создателем всех богатств буржуазного общества, ненавистно этим носителям "низости мысли". Отсюда их выпады против Рикардо. И до сих пор ненавистна им его борьба с лендлордами и их притязаниями. Так, французские историки политэкономии и ярые критики Маркса - профессора Жид и Рист, критикуя рикардовскую теорию ренты, заявляют совершенно откровенно: "Все системы национализации земли, все проекты социализации ренты опираются на теорию Рикардо, а системы эти очень многочисленны" <Gide et Rist, Histoire des doctrines economiques, p. 624>. Но наиболее характерной, наиболее специфичной для современного этапа "низости" буржуазной экономической мысли является та позиция, которую заняли по отношению к Рикардо его непосредственные наследники - буржуазные политэкономы Англии. Разложение рикардианской школы свело на нет все достижения Рикардо. Так называемые приверженцы Рикардо расправились с его теорией хуже, чем явные критики и враги. В начале XX века на родине Рикардо эта "почетная" роль выпала на долю "последнего рикардианца" Англии, долгое время считавшегося главой современной английской политэкономии, - Альфреда Маршала. Он не только завершил дело разрушения рикардовской теории, но и выступил в роли защитника Рикардо... от Маркса. Буржуазный историк политэкономии Англии профессор Эдвин Кенан неоднократно упрекает Маршала на страницах своей книги "Economic Review" в том, что Рикардо был "героем его юных дней" и что он никак не мог полностью уйти из-под его влияния. На деле же, поскольку речь идёт о теории стоимости Рикардо, Маршал всюду заменяет термин "труд" термином "издержки производства". Будучи последователем теории "предельной полезности", он в качестве "рикардианца" одновременно поддерживает и теорию "издержек производства", а чтобы как-нибудь выйти из этой эклектической путаницы, выдумывает теорию "коротких и длинных периодов". Предельная полезность, или отношение спроса и предложения, определяет изменение цен на расстоянии коротких периодов, а издержки производства - на расстоянии длинных - такова его логика. Но что понимает Маршал под издержками производства? Как говорит Кенан, в Англии "чистая теория трудовых издержек (Labour cost) была вскоре вытеснена теорией издержек производства; последняя считает количество труда только одним из факторов, определяющих стоимость, и не рассматривает его как единственный фактор, определяющий её" <Edwin Canan, Economic Review, p. 185>. Ибо, как говорит Маршал, "время и ожидание являются, так же как и труд, элементом издержек производства". Иначе говоря, "время и ожидание", т. е. ожидание прибыли на затраченный капитал, являются для капиталиста "издержками производства". Они обосновывают его право на прибыль. Между тем, жалуется Маршал, "Карл Маркс ссылается на авторитет Рикардо, утверждая, что естественная стоимость вещей определяется исключительно вложенным в них трудом" <Alfred Marshal, Principles of Political Economy, p. 816>. В доказательство того, что не Маркс, а он правильно понял Рикардо, Маршал приводит следующее замечание Рикардо по адресу Мальтуса: "Г-н Мальтус думает, повидимому, что согласно моей теории издержки производства какой-либо вещи и стоимость её тождественны; это так, если он под издержками понимает "издержки производства", включающие прибыль. В вышеприведённом отрывке он имеет в виду не это, следовательно, он не вполне понял меня" <Давид Рикардо, Начала политической экономии и налогового обложения, стр. 61 настоящего тома, сноска>. Маркс также цитирует первую часть этого абзаца, хотя последний интересует его с другой точки зрения: он отмечает, что Рикардо смешивает тут стоимость и цену производства, поскольку издержки производства, включающие прибыль, - это издержки "плюс прибыль, определяемая всеобщей нормой прибыли" <К. Маркс, Теории прибавочной стоимости, т. II, ч. 1, стр. 37, сноска>. Но естественно, что от такого понимания Маршал весьма далёк. Между тем из приведённого отрывка явствует с полной несомненностью, что по интересующему Маршала вопросу именно Маркс понял правильно Рикардо, а не Маршал. Ведь Рикардо настаивает именно на том, что Мальтус неправильно навязывает ему представление о равенстве стоимости и издержек производства и о том, что последние якобы включают прибыль. Но Маршала это не смущает. Рикардо, утверждает он, "очень любил короткие фразы и полагал, что читатель сам сумеет развить те пояснения, на которые он лишь намекал" <Alfred Marshal, Principles of Political Economy, p. 816>. Поэтому он, Маршал, сам "развил" Рикардо до своего уровня. Сделал же он это для того, чтобы оправдать право капиталиста на эксплуатацию. "Карл Маркс и другие, - заявляет он, - доказывали, что труд всегда производит "прибавку" (surplus) сверх заработной платы и износа капитала, применяемого в помощь труду, и что зло, причиняемое рабочим, заключается в присвоении этой "прибавки"". На самом же деле, снова и снова повторяет Маршал, товары созданы не только трудом, "но трудом разного рода и ожиданием... Неверно, что стоимость созданной на данной фабрике пряжи за вычетом износа оборудования есть продукт труда рабочих. Она является продуктом их труда, труда предпринимателей и подчинённых им управляющих, а также затраченного капитала". Если же допустить, что товары являются только "продуктами труда, а не труда и ожидания, то мы неизбежно придём к логическому выводу, что процент, или вознаграждение за ожидание, не имеет оправдания" <Ibid., p. 587>. Тут-то и зарыта собака. Если Маркс правильно понял Рикардо и стоимость действительно создана трудом, то как же оправдать "процент, или вознаграждение за ожидание"? Чуждые науке внешние интересы не скрываются Маршалом, а, наоборот, подчёркиваются. Таковы теории "последнего рикардианца" Маршала. Когда же роль "вождя" в области буржуазной политической экономии перешла от Маршала к Кейнсу, учение Рикардо в Англии стало забываться. На этом фоне отрадным является издание собрания сочинений Рикардо, осуществлённое Кембриджским университетом в 1951-1955 гг. Советские экономисты, как и прогрессивные учёные других стран, внимательно изучают работы великого экономиста Давида Рикардо, внёсшего большой вклад в создание научной политической экономии. Предисловие Рикардо к первому изданию Продукт земли, - всё, что получается с её поверхности путём соединённого приложения труда, машин и капитала, - делится между тремя классами общества, а именно: владельцами земли, собственниками денег или капитала, необходимого для её обработки, и рабочими, трудом которых она обрабатывается. Но доли всего продукта земли, достающиеся каждому из этих классов под именем "ренты", "прибыли" и "заработной платы", весьма различны на разных стадиях общественного развития, в зависимости главным образом от уровня плодородия почвы, накопления капитала и роста населения, от квалификации и изобретательности работников и от орудий, применяемых в земледелии. Определить законы, которые управляют этим распределением, - главная задача политической экономии. Как ни обогатили эту науку исследования Тюрго, Стюарта, Смита, Сэя, Сисмонди и других, всё-таки объяснения, которые они дают относительно естественного движения ренты, прибыли и заработной платы, весьма мало удовлетворительны. В 1815 г. Мальтус в своём "Исследовании о природе и развитии ренты" и анонимный автор, член университетской коллегии в Оксфорде, в "Опыте о приложении капитала к земле" опубликовали почти в одно и то же время правильную теорию ренты. Без знакомства с ней нельзя понять влияния роста богатства на прибыль и заработную плату или дать удовлетворительную картину влияния налогов на различные классы общества, особенно когда предметом обложения служат продукты, получаемые непосредственно с поверхности земли. Адам Смит и другие талантливые экономисты, о которых я упоминал выше, не имея правильного представления о началах ренты, проглядели, как мне кажется, многие важные истины, которые могут быть раскрыты лишь тогда, когда сущность ренты вполне постигнута. Чтобы восполнить этот пробел, требуются способности, значительно превышающие те, которыми обладает автор последующих страниц. Но он уверен, что никто не сочтёт притязательной его попытку изложить свои взгляды на законы прибыли и заработной платы и на действие налогов - взгляды, к которым он пришёл после самого внимательного рассмотрения предмета, руководясь указаниями, которые он черпал в трудах вышеупомянутых выдающихся экономистов, и стараясь, кроме того, использовать драгоценный опыт, который дали настоящему поколению последние годы, столь богатые новыми фактами. Если принципы, которые он считает правильными, будут действительно признаны таковыми, то другим, более талантливым экономистам придётся сделать из них все важнейшие выводы. Подвергая критике установившиеся взгляды, автор считает необходимым обратить особенное внимание на те места в сочинениях Адама Смита, с которыми он имел основание не соглашаться. Он, однако, надеется, что никто вследствие этого не подумает, будто он не разделяет с теми, кто признаёт важное значение политической экономии, восторга, столь справедливо возбуждаемого глубоким трудом этого знаменитого автора. То же замечание относится и к превосходным трудам г-на Сэя. Он не только был первым или одним из первых экономистов на континенте Европы <В подлиннике - "континентальных писателей", т. е. живущих не на Британских островах. - Прим. ред.>, правильно оценивших и прилагавших принципы Смита; он не только сделал больше всех их, взятых вместе, для ознакомления европейских наций с принципами этого просвещённого и благотворного учения, но сумел также внести в науку более логический и поучительный порядок и обогатил её многими оригинальными, точными и глубокими исследованиями <В особенности гл. XV, отд. I. "Рынки" содержит некоторые весьма важные принципы, которые, мне думается, были изложены впервые этим выдающимся экономистом>. Однако уважение, питаемое автором к трудам этого экономиста, не помешало ему подвергнуть критике - со всей свободой, какой требуют, по его мнению, интересы науки, - те взгляды Сэя (в "Economic politique"), которые явно противоречат его собственным идеям. Предисловие Рикардо к третьему изданию В этом издании я старался разъяснить полнее, чем в предыдущем, свои взгляды на трудный вопрос о стоимости и с этой целью сделал несколько дополнений к первой главе. Я прибавил также новую главу "О машинах" и о влиянии их усовершенствования на интересы различных классов государства. В главе "Об отличительных свойствах стоимости и богатства" я подверг критике взгляды Сэя на этот важный вопрос, как они изложены, в исправленном виде, в четвёртом и последнем изданиях его сочинений. В последней главе я сделал попытку обосновать ещё строже, чем прежде, теорию, согласно которой страна была бы способна уплачивать добавочные денежные налоги даже в том случае, если бы валовая денежная стоимость всей массы товаров понизилась: оттого ли, что благодаря улучшениям в сельском хозяйстве уменьшилось количество труда, требующегося для производства хлеба внутри самой страны, или же оттого, что часть хлеба получается теперь по более дешёвой цене из-за границы путём вывоза промышленных товаров. Это соображение имеет большое значение для решения вопроса о политике неограниченного ввоза иностранного хлеба, особенно в стране, которая вследствие огромного национального долга постоянно обременена тяжёлыми денежными налогами. Я старался показать, что способность платить налоги зависит не от валовой денежной стоимости массы товаров и не от чистой денежной стоимости доходов капиталистов и землевладельцев, а от соотношения денежной стоимости дохода каждого человека и денежной стоимости товаров, которые он обыкновенно потребляет. ТОМ 1. Начала политической экономии и налогового обложения
ПредисловиеРикардо как ученый I. РИКАРДО КАК УЧЁНЫЙВ эпоху своего победоносного шествия вперёд к экономическому и политическому господству буржуазия передовых тогда европейских стран - Англии и Франции - выделила из своих рядов немало крупнейших учёных как в области естественных, так и в области общественных наук и, в частности, политической экономии. Три стадии развития капиталистической промышленности - путь её от простой кооперации к машинному производству - отмечены и крупными достижениями в области науки. Создавались все условия капиталистического производства: отделение мелкого производителя от средств производства, объединение многих совместно работавших наёмных рабочих под одной капиталистической крышей, разделение труда между ними и, наконец, подчинение рабочих ритму крупного машинного производства, основанного на применении механического двигателя. В то же время зрело в умах людей и научное обобщение этих явлений. Вильям Петти (1623-1687), учитель буржуазии, яростно доказывавший ей, что источник богатства не деньги и что увеличение количества их путём фальсификации монеты может обмануть лишь "глупцов", совершенно недвусмысленно указывал молодой буржуазии источник обогащения: пусть рабочие попостятся в пятницу вечером и тратят на обед полтора часа вместо двух, т. е. пусть работают больше на 1/20 времени и настолько же меньше потребляют. Пусть увеличивается абсолютная прибавочная стоимость - таков надёжный путь роста буржуазного богатства. Певец мануфактуры Адам Смит (1723-1790) с восторгом описывает рост производительности труда на капиталистических мануфактурах в результате разделения труда и становится в то же время в тупик перед обменом большего количества труда на меньшее. Что капиталист даёт рабочему всё меньше и меньше в обмен на всё большее количество труда именно в эпоху роста производительности последнего, это Смиту ясно, но он ещё не может отделаться от докапиталистического недоумения по этому вопросу. Недаром же автор статьи о Рикардо в "Encyclopedia Britannica" противопоставляет Смита Рикардо и сокрушённо замечает, что последний был "скорее экономист, чем социальный философ", ибо в работах его "нет и следа тех симпатий к рабочему классу, которыми отличался Смит. Он рассматривал рабочего лишь как орудие в руках капиталиста". За кажущейся наивностью этого замечания скрывается, конечно, совершенно определённая цель: ещё одним способом нанести удар ненавистному современной буржуазии теоретику трудовой стоимости - Рикардо. И всё же помимо воли и сознания автора статьи в ней отражается, хотя и косвенно, какое-то реальное явление. В эпоху быстрой капиталистической индустриализации, когда на сцену являются пар в качестве двигательной силы и автоматический ткацкий станок, когда быстро развиваются металлургия и машиностроение, не стоило уже вспоминать о том, что наёмный рабочий был когда-то самостоятельным мелким производителем. Теперь задача состояла не в том, чтобы сопоставлять прошлое и настоящее, а в том, чтобы провозгласить торжество и незыблемость капитализма как вечного и единственно возможного строя общественной экономики. У Рикардо нет уже "ценных противоречий" (Маркс) Смита, но в то же время он частично исправил ошибки последнего, вытекающие из неясного понимания природы постоянного капитала. Если не постоянный капитал полностью, то основной капитал и его роль в капиталистическом производстве Рикардо были выявлены, а в стоимость товара теперь уже включалась им и стоимость потраченных средств производства. Вместо смитовского купленного труда на сцену явился затраченный труд, а вместо неопределённого понятия "труд" более точное понятие - "рабочее время". "Наконец, - пишет Маркс в "Теориях прибавочной стоимости", - выступает Рикардо и кричит науке: стой! Основа, исходный пункт физиологии буржуазной системы - понимания ее внутренней органической связи и жизненного процесса - есть определение стоимости рабочим временем. Отсюда исходит Рикардо и требует от науки, чтобы она оставила свою прежнюю рутину и дала себе отчет в том, насколько остальные развитые, выясненные ею категории - отношения производства и обращения - соответствуют или противоречат этой основе, этому исходному пункту... В этом-то и заключается историческое значение Рикардо для науки..." [К. Маркс, Теории прибавочной стоимости, т. II, ч. 1, 1936, стр. 8-9] Кто же был этот человек, крикнувший буржуазной политэкономии "стой!", требовавший от неё, чтобы она "оставила свою прежнюю рутину", и сумевший сделать это, даже несмотря на "научную недостаточность его метода"? [К. Маркс, Теории прибавочной стоимости, т. II, ч. 1, 1936, стр. 9] Давид Рикардо родился в 1772 г. и умер в 1823 г., 51 года от роду, в расцвете своей научной и политической деятельности. Годы, в которые он жил, были периодом огромного значения в развитии и укреплении буржуазного господства. Буржуазная революция во Франции смела за это время феодальные преграды, мешавшие развитию капитализма, английская же буржуазия, ещё ранее вышедшая на историческую арену, переживала промышленный переворот: применение машин, парового двигателя, развитие пароходства, расширение сферы кредита и банковского дела и одновременно пролетаризация широких масс трудящихся и жестокая эксплуатация рабочих. В эту эпоху буржуазии нужен был учёный, который чётко и членораздельно провозгласил бы экономические принципы буржуазного господства, дав определение стоимости рабочим временем. Таким учёным, завершившим дело своих предшественников - Вильяма Петти и Адама Смита в Англии, физиократов во Франции, - и был Рикардо. Он пришёл в науку не прямой дорогой - через систематическое образование. Сын биржевого маклера, еврея, он лишь два года учился в торговой школе, а затем работал в предприятии отца. Разойдясь с отцом по религиозным основаниям,- женившись на христианке,- он выступил на биржевом поприще. Большие практические способности помогли будущему политэконому составить себе крупное состояние. В 1797 г., когда Рикардо было 25 лет, он стал миллионером. Однако в дальнейшем он не пошёл по проторённой дорожке и не сделался профессиональным деятелем биржи. Став богатым, он отошёл от биржи и занялся научной работой. Сперва он отдал дань естествознанию и был одним из членов-учредителей Геологического общества Англии, затем занялся политической экономией. Английские биографы Рикардо утверждают, что во время пребывания на курорте Батс он якобы случайно натолкнулся на книгу Адама Смита "Богатство народов" и, прочитав её, принялся работать в области политэкономии. Однако ничего случайного тут не было. Будучи образованным человеком, Рикардо знал, конечно, о книге Смита. Он стал работать в области политэкономии, имея уже естественно-историческое образование, и мог поэтому использовать и в ней метод естественных наук. Свою дальнейшую научную работу Рикардо посвящает уже полностью политической экономии. Внимание его сосредоточивается первоначально на проблемах денежного обращения. В 1809 г. он выпускает анонимный памфлет "Цена золота", вызвавший ряд возражений. Отвечая на них, Рикардо перерабатывает свой памфлет и выступает сначала с письмом в редакцию газеты "The Morning Chronicle", а затем с брошюрой "Высокая цена слитков - доказательство обесценения банкнот". Как говорит его буржуазный биограф на страницах "Encyclopedia Britannica", эта работа была новым стимулом к дискуссии по поводу возобновления оплаты наличными банкнот Английского банка. Это был период действия так называемого Акта о рестрикции, т. е. закона, ограничивающего размен банкнот на золото, проведённого в эпоху наполеоновских войн, расстройства внешней торговли и неурожаев. Золотые запасы Английского банка истощились, курс банкнот сильно упал: если в 1799 г. сумма неразменных банкнот составляла 8,5 млн. ф. ст., то в 1802 г. она поднялась до 17 млн. ф. ст., а к 1810 г.- до 28 млн. ф. ст. Естественно, что в такой обстановке выступления Рикардо привлекли к себе внимание и послужили толчком к назначению так называемого Bouillon Committee, или парламентского Комитета о золотых слитках. Доклад Комитета подтвердил выводы Рикардо, что не помешало, однако, палате общин принять постановление, объявлявшее банкноты не обесцененными. В 1811 г. Рикардо выступает с работой "Ответ на практические замечания г-на Бозанкета по поводу доклада Комитета о слитках", а в 1816 г. со статьёй "Предложения в пользу экономного и устойчивого денежного обращения". В этих работах Рикардо ведёт решительную борьбу за оздоровление денежного обращения Англии и резко критикует Английский банк (акционерное общество, которому английское правительство поручало государственные эмиссионные и кредитные операции), наживающийся на управлении государственным долгом. Годом раньше, в 1815 г., в разгар политической борьбы против "хлебных законов" Рикардо выступает против мальтусовской работы "Основы взгляда на политику ограничения ввоза иностранного хлеба" <Malthus, Grounds of an Opinion on the Policy of Restricting the free exportation of corn>. Наконец, в 1817 г. Рикардо выступает со своим капитальным трудом "Начала политической экономии и налогового обложения" - трудом, в котором, по выражению Маркса, анализируется самая "основа, исходный пункт физиологии буржуазной системы". Именно в этом труде Рикардо дал определение стоимости рабочим временем, именно в нём и раздался, по выражению Маркса, крик "стой!", обращённый к буржуазной науке. В "Началах политической экономии" Рикардо дал доказательство "научной недостаточности" метода буржуазной политэкономии, показав с полной очевидностью, что "классическая политическая экономия подходит очень близко к истинному положению вещей, однако не формулирует его сознательно". Но, как отмечал Маркс, "этого она и не может сделать, не сбросив своей буржуазной кожи" <К. Маркс, Капитал, т. I, 1955, стр. 544>. В 1819 г. Рикардо был избран в парламент. В своей парламентской деятельности он, как пишет Лесли Стефен, автор биографии Рикардо, в "Dictionary of National Biography", "соглашался почти безоговорочно с политикой радикальной партии того периода... резко изобличал всякие религиозные преследования, нападал на хлебные законы, на законы о ростовщичестве и вообще на всякого рода подачки и ограничения". Эта характеристика парламентской деятельности Рикардо вуалирует суть вопроса: экономист-теоретик, поддерживавший промышленную буржуазию против лендлордов, Рикардо как политик стоял на левом фланге этой борьбы, принадлежа к радикалам. Он боролся против хлебных законов, за свободу торговли, за свободу коалиций и рабочих союзов и за парламентскую реформу. Джемс Милль, последователь и личный друг Рикардо, с восторгом говорит о его "бесстрашной и достопамятной декларации в защиту неограниченной свободы мысли и свободы речи" в области религиозных вопросов. В этой декларации Рикардо горячо поддерживал петицию об освобождении крайнего радикала Ричарда Карлейля, арестованного за свои передовые взгляды. В одном письме к Троуэру Рикардо пишет: "Свобода правительства ограничена, поскольку народ может его свергнуть. И какие гарантии свободы имелись бы, если бы были дозволены только приходские собрания?" В письме к Мак-Куллоху от 22 июня 1819 г. Рикардо так характеризует своё положение в палате общин: "Оказанный мне снисходительный приём облегчил мне до некоторой степени произнесение речей, но для моего успеха имеется всё ещё так много огромных препятствий, некоторые из которых являются, как я опасаюсь, почти непреодолимыми, что с моей стороны было бы, думается мне, делом мудрости и здоровой осторожности довольствоваться молчаливым голосованием". Эти "непреодолимые препятствия", о которых говорил Рикардо, свидетельствуют о той борьбе, которую он вёл против торийского правительства в той самой палате общин, которая несколькими годами раньше постановила, что обесценения банкнот, приближавшегося тогда к своему максимуму, не существует. Но, защищая интересы промышленной буржуазии как класса, пришедшего на смену феодалам, Рикардо в то же время не солидаризируется полностью с партией вигов, выражавшей интересы промышленной буржуазии. "Партия вигов, - писал он в письме к Мак-Куллоху, - владеет сама большим количеством гнилых местечек, но с чем виги менее всего захотят расстаться, так это с тем влиянием, которое они оказывают на избирателей как крупные землевладельцы или просто капиталисты". Две черты характерны для Рикардо как учёного: его научное беспристрастие и известная способность к самокритике. Маркс подчёркивает научное беспристрастие Рикардо, сопоставляя его позиции с позициями Мальтуса. Последний мог поддерживать интересы промышленной буржуазии лишь постольку, поскольку они совпадали с интересами земельной аристократии, поскольку, следовательно, оба класса дружно выступали "против массы народа, против пролетариата" <К. Маркс, Теории прибавочной стоимости, т. II, ч. 1, стр. 204>. Но там, где интересы промышленной буржуазии и земельной аристократии расходились (как по вопросу о хлебных пошлинах, например), Мальтус всегда становился на защиту лендлордов. Рикардо же стоит прежде всего на точке зрения развития производительных сил и, как замечает Маркс, "с полным для своего времени правом рассматривает капиталистический способ производства как самый выгодный для производства вообще...". Его прямолинейность в этом вопросе является, по мнению Маркса, "не только научно добросовестной, но и научно обязательной для его точки зрения" <там же, стр. 205, 206>. Рост производительности человеческого труда для него выше всего, и в жертву ей он согласен принести даже стоимость основного капитала, поскольку последняя падает при росте первой. "Нельзя отрицать, - пишет Рикардо, - что некоторое количество капитала было бы потеряно. Но что такое представляет собой владение капиталом или сохранение его - цель или средство? Несомненно, средство. В чём мы нуждаемся, так это в изобилии товаров; если бы могло быть доказано, что, пожертвовав одной частью нашего капитала, мы могли бы увеличить годичное производство тех предметов, которые служат для нашего наслаждения и нашего счастья, тогда, конечно, мы не должны были бы роптать на потерю части нашего капитала" <Давид Рикардо, О покровительстве земледелию, т. III настоящего издания, стр. 74>. Рикардо готов также пожертвовать интересами и лендлордов и рабочих, если технический прогресс затрагивает ренту или заработную плату или является причиной безработицы. По последнему пункту необходимо, однако, сделать оговорку: что технический прогресс приводит в условиях капитализма к безработице, это не всегда было ясно Рикардо. Но именно тут он и дал любопытный образец самокритики. В XXXI главе своих "Начал", анализируя экономические последствия введения машин для разных классов общества, Рикардо пишет: "Когда я впервые обратил своё внимание на изучение вопросов политической экономии, я придерживался взгляда, что применение машин... поскольку оно сберегает труд, является благом для всех...". И далее: "Класс рабочих, думал я тогда, также выиграл бы в одинаковой степени от введения машин, потому что при той же самой денежной заработной плате рабочие могли бы теперь покупать больше товаров. Я полагал при этом, что заработная плата не понизилась бы, так как капиталист мог бы предъявлять спрос и занять такое же количество труда..." Но ошибочность этих представлений скоро стала ясна Рикардо: "...Я теперь убедился, - пишет он в следующем абзаце, - что замена человеческого труда машиной часто приносит очень большой ущерб интересам класса рабочих... Теперь я имею основание думать, что фонд, из которого извлекают свой доход землевладельцы и капиталисты, может возрастать, в то время как другой, от которого главным образом зависит трудящийся класс, может уменьшаться" <Давид Рикардо, Начала политической экономии и налогового обложения, стр. 318, 319 и 320 настоящего тома>. Конечно, Рикардо не делает никаких политических выводов из этого признания и даже находит смягчающие обстоятельства: машины, говорит он, вводятся не сразу, а постепенно, т. е. "влияние их сказывается скорее при решении вопроса о применении сберегаемого и накопляемого капитала, чем при перемещении капитала, фактически уже применённого". Мало того, дело не столько во введении машин, сколько в вывозе капитала за границу: "Вкладывая часть капитала в усовершенствованные машины, мы только задерживаем прогрессивное возрастание спроса на труд; вывозя капитал в другую страну, мы совершенно уничтожаем этот спрос" <Там же, стр. 325, 326>. Итак, не вывозите капитала и не бойтесь применять машины; пусть процветает промышленный капитализм, хотя положение рабочего будет ухудшаться, - таков объективный смысл констатации Рикардо, показывающих, с одной стороны, его научную беспристрастность и способность к самокритике, а с другой - его полную готовность пожертвовать интересами рабочих во имя развития производительных сил капитализма. Научное беспристрастие и вместе с тем научная ограниченность Рикардо выражаются также в весьма своеобразной форме и в его отношении к своему современнику - утописту Роберту Оуэну. Будучи членом парламентской комиссии, которая должна была рассмотреть оуэновский проект, он высказался против него. В одном из писем к Троуэру он говорит, что "такое общество, какое проектируют они" (т. е. Оуэн и Престон), не может процветать, ибо "опыт веков против него". Это совершенно закономерно для Рикардо, теоретика промышленной буржуазии, но это не помешало, однако, Рикардо высоко ценить Оуэна как человека и общественного деятеля и открыто защищать его от нападок буржуазии. Мало того, в вышецитированной работе "О покровительстве земледелию", анализируя влияние высокого урожая на цены, Рикардо говорит: "Если бы мы жили в одном из параллелограммов Оуэна и пользовались всеми нашими продуктами сообща, то никто не пострадал бы в результате изобилия; но, пока общество устроено так, как в настоящее время, изобилие часто будет убыточно для производителей, а недостаток будет для них выгоден" <Давид Рикардо, О покровительстве земледелию, т. III настоящего издания, стр. 53>. Выше мы уже привели характеристику, данную Марксом Рикардо и его роли в истории политической экономии. Глубокая критика, которой подвергает Маркс Рикардо, исходит именно из признания этой исторической роли. Так, в "Нищете философии", говоря об экономистах-фаталистах, т. е. тех теоретиках, которые "индифферентны в своей теории к тому, что они называют неудобствами буржуазного производства", Маркс разделяет их на классиков и романтиков. О первых он говорит: "Классики - как, например, Адам Смит и Рикардо - являются представителями той буржуазии, которая, находясь еще в борьбе с остатками феодального общества, стремилась лишь очистить экономические отношения от феодальных пятен, увеличить производительные силы и придать новый размах промышленности и торговле... Миссия экономистов, вроде Адама Смита и Рикардо, являющихся историками этой эпохи, состоит лишь в том, чтобы уяснить, каким образом приобретается богатство при отношениях буржуазного производства, сформулировать эти отношения в виде категорий и законов и показать, насколько эти законы, эти категории в деле производства богатства стоят выше, чем законы и категории феодального общества" <К. Маркс, Нищета философии, 1941, стр 106>. Такова историческая роль и историческая заслуга Смита и Рикардо. Они были историками эпохи победы буржуазии над феодализмом, помогали очистить новые экономические отношения от "феодальных пятен" и "развить производительные силы" той формации, которая является исторической предпосылкой социализма. По меткому замечанию Ленина, Рикардо "инстинктивно характеризовал самую суть буржуазного способа производства..." <В. И. Ленин, Соч., т. 2, стр. 136>. Что же именно внёс Рикардо в науку политической экономии и прежде всего в теорию стоимости и прибавочной стоимости? Несомненно, огромной научной заслугой его является преодоление ошибки Смита в теории стоимости - смешения купленного труда с затраченным. "Адам Смит,- говорил Рикардо,- который так правильно определил коренной источник меновой стоимости, оказался непоследовательным", ибо Смит имеет в виду "не количество труда, затраченное на производство того или иного предмета, а то количество его, какое можно купить за этот предмет на рынке..." Ведь рабочий, замечает Рикардо, не получит "за свой труд вдвое больше против прежнего, раз труд его стал вдвое производительнее, и он может поэтому выработать вдвое больше товара" <Давид Рикардо, Начала политической экономии и налогового обложения, стр. 35 настоящего тома>. Критика неверного положения Смита, его недоговорённости и недодуманности начинается именно с вопроса о росте производительности труда. За большее количество продукта всё та же заработная плата! Значит, в теории Смита имеется трещина. И далее указывается причина этого: "...Меновая стоимость произведённых товаров пропорциональна труду, затраченному на их производство; не только на непосредственное производство, но и на изготовление орудий и машин, требующихся для того вида труда, при котором они применяются" <Там же, стр. 43>. В этом определении Рикардо заключаются и большой шаг вперёд и серьёзная ошибка. Здесь отведено надлежащее место основному капиталу и опущен оборотный. Рабочее время, необходимое для производства орудий и машин, принято во внимание, но время, нужное для производства сырья, не учтено. Однако Рикардо не всегда отвлекается от оборотного капитала; в приводимых им конкретных примерах последний не всегда выпадает. Так, приводя в пример производство чулок, Рикардо определяет затраченное на них рабочее время следующим образом: "Сюда войдёт, во-первых, труд по обработке земли, на которой разводят хлопок; во-вторых, труд по доставке хлопка в страну, где будут изготовлены из него чулки, сюда же включается также часть труда, затраченного на постройку судна, на котором хлопок перевозится... в-третьих, труд прядильщика и ткача; в-четвёртых, часть труда машиностроителя, кузнеца и плотника, которые строили здания и машины, с помощью которых изготовляются чулки..." <Давид Рикардо, Начала политической экономии и налогового обложения, стр. 44 настоящего тома>. Здесь не говорится, правда, ни о стоимости хлопка как сырья для прядения, ни о стоимости семян хлопка как сырья для земледелия, но зато идёт речь о труде, создающем сырьё. Развитие и углубление теории трудовой стоимости с самого начала связано у Рикардо с одним ограничением: его интересует лишь относительная стоимость товаров, или "их стоимость сравнительно с другими вещами" <Там же, стр. 43>. Если труд людей, производящих тот или иной товар, стал производительнее, тогда как труд, производящий все другие товары, остался на прежнем уровне, то как изменится их стоимость по отношению друг к другу,- вот проблема, которая волнует Рикардо и за пределы которой он не может выйти. Отношение же стоимостей отдельных товаров к общественному труду остаётся вне поля его зрения. Величина стоимости заслоняет для него её действительную природу и её исторический характер. Стоимость для него - только всегда существующее отношение вещей, а не исторически обусловленное отношение людей. Установленная Рикардо противоположность между заработной платой и прибылью непосредственно вытекает из его теории стоимости и в то же время из предположения, что рабочий день есть величина постоянная. Отсюда достоинства этой теории и отсюда её недостатки. В полемике с Сэем, Мальтусом и Смитом Рикардо резко восстаёт против их утверждений, что изменение заработной платы влияет на размеры ренты и на стоимость товаров: "Повышение стоимости труда невозможно без соответствующего падения прибыли. Если хлеб подлежит разделу между фермером и рабочим, то чем больше доля последнего, тем меньше остаётся первому. Точно так же если сукно или хлопчатобумажные ткани делятся между рабочими и их хозяевами, то, чем большая доля даётся первым, тем меньше остаётся последним" <Давид Рикардо, Начала политической экономии и налогового обложения, стр. 52 настоящего тома>. Это положение Рикардо неустанно защищает в своих "Началах" и особо оттачивает свои формулировки в полемике: "Если заработная плата падает, то поднимается прибыль, а не рента. Если заработная плата поднимается, то падает прибыль, а не рента" <Там же, стр. 338>. Это - по адресу Мальтуса, который видит в росте заработной платы одну из причин падения ренты, и наоборот. По адресу же Сэя, считающего, что рост заработной платы вызывает повышение цен, Рикардо язвительно замечает: "Убеждённый, что цена товаров регулируется ценой труда... г-н Сэй говорит: "Я подозреваю, что дешевизна товаров, получаемых из Англии, отчасти обусловлена существованием в этой стране множества благотворительных учреждений" (т. II, стр. 277). Для того, кто утверждает, что заработная плата регулирует цену, это - последовательное заключение" <Там же, стр. 70, сноска>. В конце VI отдела главы "О стоимости", посвящённого "неизменной мере стоимости", Рикардо даёт формулировку более общего характера, выдвигая на первый план отличие своей позиции от позиций своих предшественников: "...Адам Смит и все последующие экономисты без единого исключения утверждали, что за повышением цены труда последовало бы однообразное повышение цены всех товаров. Надеюсь, мне удалось показать, что этот взгляд совершенно не обоснован" <Там же, стр. 60>. Эта твёрдая позиция вызывает возмущённые протесты со стороны апологетической политэкономии буржуазии от Кэри до наших дней; она свидетельствует в то же время о научном бесстрашии Рикардо и его глубоком проникновении в природу капиталистической экономики. Однако и тут доминируют отношения вещей. Ясно установлены отношения заработной платы и прибыли, но не видно рабочих и капиталистов в их постоянной взаимной борьбе. Колебания величины заработной платы определяются в анализе Рикардо лишь колебаниями цен на средства существования в зависимости от условий обработки земли, внешней торговли, изменения стоимости денег и т. д. С другой стороны, величина рабочего дня и вновь созданная стоимость рассматриваются как величины постоянные. Это может быть правильно лишь для начала анализа, лишь как исходный пункт. Постоянное стремление капитала увеличить абсолютную прибавочную стоимость за счёт увеличения длины рабочего дня остаётся, так же как и первые попытки рабочих бороться за его сокращение, вне поля зрения и вне анализа Рикардо. Для него не наступил ещё момент, когда, по образному выражению Маркса, раздался "голос рабочего, который до сих пор заглушался шумом и грохотом процесса производства" <К. Маркс, Капитал, т. I, стр. 238>. Имея дело не с рабочими и капиталистами как участниками классовой борьбы, а лишь с получателями заработной платы и прибыли, Рикардо не может всё же не видеть условий роста относительной прибавочной стоимости. Этот рост является для него опять-таки результатом естественных причин - введения новых машин, улучшенных методов обработки земли, усовершенствования транспорта и т. д. Из самой теории стоимости вытекает объективная неизбежность "падения цены труда" при развитии производительных сил, т. е. при уменьшении количества рабочего времени, необходимого для производства средств существования рабочих. Постоянного сознательною воздействия капитала "на падение цены труда" Рикардо не видит. Его голос не был голосом капитала, который "громогласно и с обдуманным намерением возвещает о ней (о машине. - М. С.) как о силе, враждебной рабочему" <Там же, стр. 441>, но он не был, конечно, и голосом, формулирующим требования рабочих. Лишь в теории ренты Рикардо ясно слышатся уже голоса людей, представляющих борющиеся классы. Земельная собственность и высокие цены на хлеб мешают развитию капиталистической индустриализации. Промышленный капитал вынужден отдавать землевладельцу излишек стоимости над ценой производства. Лендлорды и их апологет Мальтус всячески отстаивают право собственников земли на ренту и требуют высоких пошлин на ввозной хлеб, выращиваемый на более плодородной земле, чтобы сохранить право на высокий излишек стоимости над ценой производства. Рикардо связывает свою теорию дифференциальной ренты с теорией трудовой стоимости. "Не потому хлеб дорог, что платится рента, а рента платится потому, что хлеб дорог" <Давид Рикардо, Начала политической экономии и налогового обложения, стр. 70-71 настоящего тома>, - замечает он. В. И. Ленин в своей критике теории ренты Сисмонди говорит, что последний "не столько опровергает Рикардо, сколько отвергает вообще перенесение на земледелие категории товарного хозяйства и капитализма" <В. И. Ленин, Соч., т. 2, стр. 155>. Наоборот, заслуга Рикардо именно и состоит в таком перенесении. Полемизируя со Смитом, который видит принципиальную разницу между земледелием и промышленностью в том, что в земледелии в отличие от промышленности работает не только человек, но и природа, Рикардо замечает: "Разве природа не делает ничего для человека в обрабатывающей промышленности? Разве силы ветра и воды, которые приводят в движение наши машины и корабли, равняются нулю? Разве давление атмосферы и упругость пара, которые позволяют нам приводить в движение самые изумительные машины,- не дары природы?" <Давид Рикардо, Начала политической экономии и налогового обложения, стр. 72 настоящего тома, сноска>. Именно на это ошибочное утверждение Смита опираются апологеты землевладельцев. От Мальтуса до Булгакова включительно все они стараются доказать, что рента - это дар природы. Возражая им, Рикардо утверждает, что защищать с помощью хлебных законов право на "прибавочный продукт, который земля даёт в форме ренты", это всё равно, что стремиться к тому, "чтобы с каждым годом вновь сооружённые машины были менее производительны, чем старые". Тогда "всем владельцам более производительных машин платилась бы рента" <Там же, стр. 71>, - замечает иронически Рикардо. Если абстрагироваться от путаницы, связанной с неправильным представлением Рикардо, что человечество обязательно идёт в обработке земли от лучших земель к худшим, и помнить твёрдую позицию Рикардо в вопросе о единстве теории стоимости и теории ренты, то смысл этой иронии Рикардо ясен: защитник технического прогресса и международного разделения труда обрушивается на лендлордов, для которых технический прогресс дело второстепенное, а право на ренту - основное и самое важное. Каковы бы ни были ошибки Рикардо в вопросах теории ренты и теории денег <См. предисловия к II и III томам настоящего издания>, в основе их всё же лежит концепция трудовой стоимости; его ошибки в этих вопросах являются, следовательно, в отличие от "теорий" современной буржуазной политической экономии отклонением от правильной установки, а не результатом порочной исходной позиции. Классовое лицо Рикардо определяется именно его отождествлением технического прогресса с укреплением классового господства промышленной буржуазии и страстной борьбой против тех, кто задерживает этот прогресс, - собственников земли. Как указывает Маркс, Рикардо, развивая теорию ренты Андерсона, делает и "теоретический и практический шаг вперед". Первый состоит в определении "стоимости товара и т. д." и в проникновении в "природу землевладения", а второй - в аргументах "против необходимости частной земельной собственности на основе буржуазного производства и затем против всяких государственных мероприятий, вроде хлебных пошлин, способствовавших увеличению этой частной земельной собственности" <К. Маркс, Теории прибавочной стоимости, т. II, ч. 1, стр. 205>. Именно это единство теоретических и практических выводов характерно для Рикардо, идеолога промышленного развития Англии и промышленной буржуазии, поскольку она выражала это развитие в период его жизни и деятельности. Научные завоевания Рикардо, всё то, что труд его содержал в себе смелого и нового, были полностью использованы Марксом. Как говорит В. И. Ленин в статье "Три источника и три составных части марксизма", "классическая политическая экономия до Маркса сложилась в Англии - самой развитой капиталистической стране. Адам Смит и Давид Рикардо, исследуя экономический строй, положили начало трудовой теории стоимости. Маркс продолжал их дело". Учение Маркса чуждо всякого сектантства "в смысле какого-то замкнутого, закостенелого учения, возникшего в стороне от столбовой дороги развития мировой цивилизации. Напротив, вся гениальность Маркса состоит именно в том, что он дал ответы на вопросы, которые передовая мысль человечества уже поставила" <В. И. Ленин, Соч., т. 19, стр. 3 и 5>. Ряд буржуазных политэкономов упрекает Маркса в том, что он заимствовал у Рикардо трудовую теорию стоимости. Ленин видит, наоборот, проявление гениальности Маркса в том, что он шёл по столбовой дороге мировой цивилизации, что учение его было законным преемником достижений его предшественников. Но "там, где буржуазные экономисты видели отношение вещей (обмен товара на товар), там Маркс вскрыл отношение между людьми" <Там же, стр. 6> Именно в этом состоит то новое, что внёс Маркс в учение классиков буржуазной политической экономии. Так гениально критически использовал он наследство классиков, не выбросив из него того зерна истины, которое в нём заключалось. "Физиология буржуазной системы" была показана Рикардо с точки зрения буржуазии, чья победа над феодализмом дала мощный толчок развитию производительных сил. Маркс анализировал эту "физиологию буржуазной системы" с точки зрения пролетариата, чья историческая миссия заключается в свержении буржуазии, когда господство её становится тормозом к развитию производительных сил. II. ИСТОРИЧЕСКИЕ СУДЬБЫ ТЕОРИИ РИКАРДОНепосредственными наследниками теории Рикардо были те утопические социалисты XIX в., которые исходили в своих экономических воззрениях из учения классической школы политэкономии, хотя и выступали уже в роли критиков капитализма. Полемизируя с Прудоном в "Нищете философии", Маркс изобличает его не только в грубых противоречиях, но и в полном невежестве относительно выдвигаемого им "уравнительного" применения "определения стоимости рабочим временем". Прудон, говорит Маркс, выдаёт это определение "за формулу будущего возрождения", между тем как на самом деле оно есть "не что иное, как научное выражение экономических отношений современного общества, что, задолго до г. Прудона, было точно и ясно доказано Рикардо". Но не только это неизвестно Прудону, а также и то, что не он "первый задумал преобразовать общество путем превращения всех в непосредственных производителей, обменивающихся равными количествами труда". Игнорируя развитие политической экономии в Англии, Прудон не знает, "что в разное время почти все социалисты этой страны делали уравнительные выводы из рикардовской теории" <К. Маркс, Нищета философии, стр. 58 и 59>. Говоря об этих социалистах, Маркс упоминает работы Годскина, Вильяма Томпсона, Эдмондса и "коммуниста" Брэя. В "Теориях прибавочной стоимости" Маркс посвящает целую главу возражениям против экономистов на основе рикардовской теории. Их учение противоположно теории Рикардо, ибо они критики капиталистического строя, и притом критики его с позиций пролетариата. Но теория, указывающая пролетариату путь к достижению цели, ещё не выкована, и вот они хватаются за теорию трудовой стоимости Рикардо, пытаясь использовать её против буржуазии. Однако на этой базе они могли говорить лишь о "справедливом обмене" по трудовому эквиваленту. Они не были, как Прудон, идеологами мелкой буржуазии и не стремились повернуть историю вспять, к временам простого товарного производства. Лишь отсутствие правильного теоретического оружия привело социалистов-рикардианцев к позициям, внешне схожим с прудоновскими. В предисловии ко II тому "Капитала" Энгельс пишет о той обширной литературе, "которая в двадцатых годах повернула теорию стоимости и прибавочной стоимости Рикардо в интересах пролетариата против капиталистического производства, побивала буржуазию ее собственным оружием" <См. К. Маркс, Капитал, т. II, 1952, стр. 12>. Смелый протест против капиталистической эксплуатации, содержащийся в трудах Томпсона, Годскина, Брэя, Грея и др., был протестом, опирающимся на основные категории товарного хозяйства. Раз признана теория стоимости Рикардо, то пусть зло капиталистической эксплуатации будет исправлено с помощью обмена равных количеств труда через посредство "национального банка", и пусть этим путём каждый получает "полный продукт труда" - таковы основные мотивы, красной нитью проходящие через работы социалистов-рикардианцев. В противоположность им Маркс видел в теории стоимости Рикардо лишь "физиологию буржуазной системы", а свою теорию коммунизма "основывал, - по словам Энгельса, - ...на неизбежном, принимающем на наших глазах ежедневно все большие размеры, крушении капиталистического способа производства" <См. К. Маркс, Нищета философии, стр. 9, предисловие Ф. Энгельса>. Теория Рикардо как "физиология буржуазной системы" не могла стать теоретической базой социализма. Она была, как мы уже знаем, теорией буржуазии в ту эпоху её развития, когда она, "находясь еще в борьбе с остатками феодального общества, стремилась лишь очистить экономические отношения от феодальных пятен, увеличить производительные силы и придать новый размах промышленности и торговле" <Там же, стр. 106>. Но раз эта задача была выполнена, теория Рикардо, завершившая дело классиков буржуазной политэкономии, оказалась уже ненужной буржуазии. В ходе дальнейшего развития буржуазного общества наследство Рикардо подверглось разложению и вульгаризации. На смену классикам приходит школа политэкономии, названная Марксом школой "вульгарной экономии". Вульгарная политическая экономия давала теоретическую базу уже не борьбе буржуазии с пережитками феодализма, а борьбе её с пролетариатом, начинающим осознавать себя как класс. По мере развития "реальных противоречий в экономической жизни общества" вульгарная политическая экономия "старается всеми силами отделаться путем болтовни от тех мыслей, в которых содержатся противоречия" <К. Маркс, Теории прибавочной стоимости, т. III, 1936, стр. 366>. Тем самым она становится сознательно апологетической. Сэй во Франции и Мальтус в Англии возглавляют это неизбежное превращение классической политической экономии в вульгарно-апологетическую. Заимствовав у классиков "вульгарный элемент", содержавшийся в их работах, Сэй и Мальтус выступают в качестве критиков трудовой теории стоимости. Хотя Сэй выступал, правда, как комментатор и систематизатор работы Смита, но на деле он, как отмечает Маркс, взял у Смита ("выкристаллизовал") именно все слабые и вульгарные элементы его теории. Рикардо же, наоборот, взял у Смита наиболее ценные, научные элементы его труда. Сэй "опровергает" трудовую теорию стоимости, заявляя, что стоимость создаётся не трудом, а совместным действием труда или трудолюбия и сил природы и капитала. С другой стороны, он выводит стоимость из полезности и смешивает понятия стоимости и богатства, меновой стоимости и потребительной. В своих "Началах" Рикардо даёт остроумную критику теории стоимости Сэя и той бесконечной путаницы и противоречий, которыми полна его работа. Сэевской теории стоимости соответствует его теория распределения, согласно которой продукт общественного труда распределяется между тремя "агентами" производства - землевладельцем, капиталистом и рабочим, иначе говоря, распадается на ренту, прибыль и заработную плату. Маркс метко называет эту "теорию" распределения, построенную на базе эклектической теории стоимости, "последовательностью глупости". Рикардо, как мы знаем, осознаёт, наоборот, противоречие между прибылью и заработной платой. Но вульгарная политическая экономия вообще отказывается признавать прибыль как самостоятельную категорию. Она является, по мнению вульгарной политэкономии, лишь "категорией заработной платы". Вульгарная политическая экономия отметает трудовую теорию стоимости, капитал же является для неё "самостоятельным источником стоимости или прибавочной стоимости". Эти экономические теории появляются на сцену именно тогда, когда буржуазная "политическая экономия как наука уже закончила свой путь", ибо сами по себе эти теории "являются в то же время могилой этой науки" <К. Маркс, Теории прибавочной стоимости, т. III, стр. 365, 367>. В Англии в роли критика Рикардо выступил в эту эпоху поп Мальтус - ярый защитник земельной аристократии против промышленной буржуазии и промышленной буржуазии против пролетариата, ярый враг рабочих. Маркс говорит о нём, что его характеризует "глубокая низость мысли" <К. Маркс, Теории прибавочной стоимости, т. II, ч. 1, стр. 205>. Эта "низость мысли" проявляется, между прочим, в том, что "из научных и всегда им украденных предпосылок" он делает только выводы, угодные земельной аристократии "против буржуазии и им обеим - против пролетариата" <Там же, стр. 207>. После опубликования его "Опыта о народонаселении", который Маркс называет "ученически-поверхностным и поповски-напыщенным плагиатом", английские враги французской революции увидели в нём "великого искоренителя всех стремлений к дальнейшему человеческому развитию" <К. Маркс, Капитал, т. I, стр. 622. Примечание 75-е>. Естественно, что этому "искоренителю" теория стоимости Рикардо показалась подозрительной. Рикардовский закон стоимости не соответствовал интересам земельной аристократии, и, опровергая его, Мальтус думал "сделать приятные своим покровителям выводы" <К. Маркс, Теории прибавочной стоимости, т. III, стр. 6>. Из двух противоречащих друг другу положений Смита, что стоимость определяется затраченным трудом и что она определяется покупаемым трудом, Мальтус в противоположность Рикардо принимает второе. Правда, по мнению Мальтуса, труд есть мера стоимости, но зато любой товар может служить мерой труда. Отношение же между трудом как мерой стоимости и товарами определяется, по Мальтусу, издержками производства. Последние же включают, с его точки зрения, не только труд, затраченный на орудия производства, и живой труд, но и прибыль на авансированный капитал. Таким образом, "стоимость" соответствует заработной плато, а издержки производства включают прибыль. Мальтус гордится таким "открытием". Маркс замечает по этому поводу: "Господин Мальтус хочет сразу включить в определение стоимости "прибыль", чтобы она непосредственно вытекала из этого определения, чего нет у Рикардо". Итак, Мальтус не только не сделал шага вперёд после Рикардо, а старался, наоборот, "отодвинуть политическую экономию назад за Рикардо, даже за Смита и физиократов" <Там же, стр. 7>. Наряду с вульгарными экономистами, критиковавшими Рикардо с позиций буржуазии и земельной аристократии, ряд буржуазных экономистов претендовал идти по пути Рикардо. Им ещё нужна была эта теория, поскольку борьба буржуазии с земельной аристократией продолжалась. На этот раз в противоположность попытке социалистов-рикардианцев использовать теорию Рикардо для обоснования социализма последняя была использована по-новому. Началась эпоха её вульгаризации, начался процесс, который Маркс назвал "разложением рикардианской школы". Наиболее типичными представителями этой группы были Торренс, Джемс Милль и Мак-Куллох. Первый из них - Торренс, хотя формально и не отказывается от трудовой теории стоимости, считает, однако, как и Смит, что последняя верна лишь для докапиталистических эпох. Далее, Торренс приравнивает издержки производства к стоимости, а прибыль рассматривает как излишек, получающийся благодаря продаже товаров выше стоимости. Милль пытается спасти теорию Рикардо от имеющихся в ней противоречий, но это ему не удаётся, ибо своего учителя он понимает совершенно формально и схоластически. Отсюда распространённое толкование трудовой стоимости, смешение труда человека с действием сил природы. Если, например, вино, хранившееся в погребе, стало дороже, то произошло это благодаря "труду" капитала, или накопленного труда. Прибыль же капиталиста Милль превращает в "вознаграждение за труд", в своего рода заработную плату. Ещё дальше пошёл по этому пути Мак-Куллох, "бессовестный тупица", как назвал его Маркс. О Мак-Куллохе Маркс говорит, что он хочет "обделать дела с рикардовской экономией... совершенно так же, как Сэй устроил дела со Смитом..." <К. Маркс, Теории прибавочной стоимости, т. III, стр. 134>. Устроил он, конечно, свои дела, выступая как последователь Рикардо, с тем чтобы на деле отказаться от трудовой теории стоимости. Стоимости создаются, по его теории, не только живым трудом, как это утверждает Рикардо, и не только "накопленным", как это допускает Милль, но и "низшими животными, машинами и силами природы". Мак-Куллох, взявшись защищать Рикардо от Сэя, на деле принял теорию трёх факторов Сея. Трудности, с которыми сталкивался Рикардо, его горе-последователи решали, как говорит Маркс, "путем резонирования... путем словесной фикции, путем изменения правильных названий вещей". И этот способ "гораздо более разрушил все основание теории Рикардо, чем все нападки врагов..." <Там же, стр. 66>. *** В эпоху империализма буржуазная политэкономия переживает окончательное падение. Пробил, по выражению Маркса, её смертный час. Изучение действительной экономики буржуазного общества, вскрытие законов физиологии последнего не нужно больше буржуазии, давно забывшей о своей борьбе с феодалами, вступившей в период, который Ленин охарактеризовал как "умирающий капитализм" и канун пролетарской революции. Маркс, говоря о "низости мысли" у Мальтуса, даёт такое пояснение этому термину: "Человека же, стремящегося приспособить науку к такой точке зрения, которая не почерпнута из нее самой, - как бы при этом она ошибочна ни была, - а взята извне, из чуждых ей внешних интересов, я называю "низким" <К. Маркс, Теории прибавочной стоимости, т. II, ч. 1, стр. 208>. Это определение Маркса с полным правом может быть применено и к создателям так называемой теории "предельной полезности" - прямым наследникам вульгарных экономистов. Классики буржуазной политэкономии, как бы ошибочны ни были их воззрения, не навязывали науке "чуждых ей внешних интересов". Их ошибки были частью их научной работы. Но школа "предельной полезности" именно исходила из таких чуждых науке интересов; выполняя социальные задания своих повелителей, она отошла от какого бы то ни было научного анализа действительности, заменив его надуманными, искусственными схемами и математическими формулами, не отражающими действительных экономических отношений. Со страниц их произведений исчезли капиталист, земельный собственник, рабочий. Все люди превратились для них в "продавцов" и "покупателей", а столкновение субъективных намерений последних сделалось единственным законом политической экономии. Раз трудовая теория стоимости, как она была создана классиками буржуазной политэкономии, была использована и критически переработана Марксом в интересах пролетариата, то тем самым она сделалась одиозной для Бем-Баверка, Менгера, Шарля Жида, Визера и др. Вытекающее из теории трудовой стоимости положение, что пролетариат является создателем всех богатств буржуазного общества, ненавистно этим носителям "низости мысли". Отсюда их выпады против Рикардо. И до сих пор ненавистна им его борьба с лендлордами и их притязаниями. Так, французские историки политэкономии и ярые критики Маркса - профессора Жид и Рист, критикуя рикардовскую теорию ренты, заявляют совершенно откровенно: "Все системы национализации земли, все проекты социализации ренты опираются на теорию Рикардо, а системы эти очень многочисленны" <Gide et Rist, Histoire des doctrines economiques, p. 624>. Но наиболее характерной, наиболее специфичной для современного этапа "низости" буржуазной экономической мысли является та позиция, которую заняли по отношению к Рикардо его непосредственные наследники - буржуазные политэкономы Англии. Разложение рикардианской школы свело на нет все достижения Рикардо. Так называемые приверженцы Рикардо расправились с его теорией хуже, чем явные критики и враги. В начале XX века на родине Рикардо эта "почетная" роль выпала на долю "последнего рикардианца" Англии, долгое время считавшегося главой современной английской политэкономии, - Альфреда Маршала. Он не только завершил дело разрушения рикардовской теории, но и выступил в роли защитника Рикардо... от Маркса. Буржуазный историк политэкономии Англии профессор Эдвин Кенан неоднократно упрекает Маршала на страницах своей книги "Economic Review" в том, что Рикардо был "героем его юных дней" и что он никак не мог полностью уйти из-под его влияния. На деле же, поскольку речь идёт о теории стоимости Рикардо, Маршал всюду заменяет термин "труд" термином "издержки производства". Будучи последователем теории "предельной полезности", он в качестве "рикардианца" одновременно поддерживает и теорию "издержек производства", а чтобы как-нибудь выйти из этой эклектической путаницы, выдумывает теорию "коротких и длинных периодов". Предельная полезность, или отношение спроса и предложения, определяет изменение цен на расстоянии коротких периодов, а издержки производства - на расстоянии длинных - такова его логика. Но что понимает Маршал под издержками производства? Как говорит Кенан, в Англии "чистая теория трудовых издержек (Labour cost) была вскоре вытеснена теорией издержек производства; последняя считает количество труда только одним из факторов, определяющих стоимость, и не рассматривает его как единственный фактор, определяющий её" <Edwin Canan, Economic Review, p. 185>. Ибо, как говорит Маршал, "время и ожидание являются, так же как и труд, элементом издержек производства". Иначе говоря, "время и ожидание", т. е. ожидание прибыли на затраченный капитал, являются для капиталиста "издержками производства". Они обосновывают его право на прибыль. Между тем, жалуется Маршал, "Карл Маркс ссылается на авторитет Рикардо, утверждая, что естественная стоимость вещей определяется исключительно вложенным в них трудом" <Alfred Marshal, Principles of Political Economy, p. 816>. В доказательство того, что не Маркс, а он правильно понял Рикардо, Маршал приводит следующее замечание Рикардо по адресу Мальтуса: "Г-н Мальтус думает, повидимому, что согласно моей теории издержки производства какой-либо вещи и стоимость её тождественны; это так, если он под издержками понимает "издержки производства", включающие прибыль. В вышеприведённом отрывке он имеет в виду не это, следовательно, он не вполне понял меня" <Давид Рикардо, Начала политической экономии и налогового обложения, стр. 61 настоящего тома, сноска>. Маркс также цитирует первую часть этого абзаца, хотя последний интересует его с другой точки зрения: он отмечает, что Рикардо смешивает тут стоимость и цену производства, поскольку издержки производства, включающие прибыль, - это издержки "плюс прибыль, определяемая всеобщей нормой прибыли" <К. Маркс, Теории прибавочной стоимости, т. II, ч. 1, стр. 37, сноска>. Но естественно, что от такого понимания Маршал весьма далёк. Между тем из приведённого отрывка явствует с полной несомненностью, что по интересующему Маршала вопросу именно Маркс понял правильно Рикардо, а не Маршал. Ведь Рикардо настаивает именно на том, что Мальтус неправильно навязывает ему представление о равенстве стоимости и издержек производства и о том, что последние якобы включают прибыль. Но Маршала это не смущает. Рикардо, утверждает он, "очень любил короткие фразы и полагал, что читатель сам сумеет развить те пояснения, на которые он лишь намекал" <Alfred Marshal, Principles of Political Economy, p. 816>. Поэтому он, Маршал, сам "развил" Рикардо до своего уровня. Сделал же он это для того, чтобы оправдать право капиталиста на эксплуатацию. "Карл Маркс и другие, - заявляет он, - доказывали, что труд всегда производит "прибавку" (surplus) сверх заработной платы и износа капитала, применяемого в помощь труду, и что зло, причиняемое рабочим, заключается в присвоении этой "прибавки"". На самом же деле, снова и снова повторяет Маршал, товары созданы не только трудом, "но трудом разного рода и ожиданием... Неверно, что стоимость созданной на данной фабрике пряжи за вычетом износа оборудования есть продукт труда рабочих. Она является продуктом их труда, труда предпринимателей и подчинённых им управляющих, а также затраченного капитала". Если же допустить, что товары являются только "продуктами труда, а не труда и ожидания, то мы неизбежно придём к логическому выводу, что процент, или вознаграждение за ожидание, не имеет оправдания" <Ibid., p. 587>. Тут-то и зарыта собака. Если Маркс правильно понял Рикардо и стоимость действительно создана трудом, то как же оправдать "процент, или вознаграждение за ожидание"? Чуждые науке внешние интересы не скрываются Маршалом, а, наоборот, подчёркиваются. Таковы теории "последнего рикардианца" Маршала. Когда же роль "вождя" в области буржуазной политической экономии перешла от Маршала к Кейнсу, учение Рикардо в Англии стало забываться. На этом фоне отрадным является издание собрания сочинений Рикардо, осуществлённое Кембриджским университетом в 1951-1955 гг. Советские экономисты, как и прогрессивные учёные других стран, внимательно изучают работы великого экономиста Давида Рикардо, внёсшего большой вклад в создание научной политической экономии. ПРЕДИСЛОВИЕ РИКАРДО К ПЕРВОМУ ИЗДАНИЮПродукт земли, - всё, что получается с её поверхности путём соединённого приложения труда, машин и капитала, - делится между тремя классами общества, а именно: владельцами земли, собственниками денег или капитала, необходимого для её обработки, и рабочими, трудом которых она обрабатывается. Но доли всего продукта земли, достающиеся каждому из этих классов под именем "ренты", "прибыли" и "заработной платы", весьма различны на разных стадиях общественного развития, в зависимости главным образом от уровня плодородия почвы, накопления капитала и роста населения, от квалификации и изобретательности работников и от орудий, применяемых в земледелии. Определить законы, которые управляют этим распределением, - главная задача политической экономии. Как ни обогатили эту науку исследования Тюрго, Стюарта, Смита, Сэя, Сисмонди и других, всё-таки объяснения, которые они дают относительно естественного движения ренты, прибыли и заработной платы, весьма мало удовлетворительны. В 1815 г. Мальтус в своём "Исследовании о природе и развитии ренты" и анонимный автор, член университетской коллегии в Оксфорде, в "Опыте о приложении капитала к земле" опубликовали почти в одно и то же время правильную теорию ренты. Без знакомства с ней нельзя понять влияния роста богатства на прибыль и заработную плату или дать удовлетворительную картину влияния налогов на различные классы общества, особенно когда предметом обложения служат продукты, получаемые непосредственно с поверхности земли. Адам Смит и другие талантливые экономисты, о которых я упоминал выше, не имея правильного представления о началах ренты, проглядели, как мне кажется, многие важные истины, которые могут быть раскрыты лишь тогда, когда сущность ренты вполне постигнута. Чтобы восполнить этот пробел, требуются способности, значительно превышающие те, которыми обладает автор последующих страниц. Но он уверен, что никто не сочтёт притязательной его попытку изложить свои взгляды на законы прибыли и заработной платы и на действие налогов - взгляды, к которым он пришёл после самого внимательного рассмотрения предмета, руководясь указаниями, которые он черпал в трудах вышеупомянутых выдающихся экономистов, и стараясь, кроме того, использовать драгоценный опыт, который дали настоящему поколению последние годы, столь богатые новыми фактами. Если принципы, которые он считает правильными, будут действительно признаны таковыми, то другим, более талантливым экономистам придётся сделать из них все важнейшие выводы. Подвергая критике установившиеся взгляды, автор считает необходимым обратить особенное внимание на те места в сочинениях Адама Смита, с которыми он имел основание не соглашаться. Он, однако, надеется, что никто вследствие этого не подумает, будто он не разделяет с теми, кто признаёт важное значение политической экономии, восторга, столь справедливо возбуждаемого глубоким трудом этого знаменитого автора. То же замечание относится и к превосходным трудам г-на Сэя. Он не только был первым или одним из первых экономистов на континенте Европы <В подлиннике - "континентальных писателей", т. е. живущих не на Британских островах. - Прим. ред.>, правильно оценивших и прилагавших принципы Смита; он не только сделал больше всех их, взятых вместе, для ознакомления европейских наций с принципами этого просвещённого и благотворного учения, но сумел также внести в науку более логический и поучительный порядок и обогатил её многими оригинальными, точными и глубокими исследованиями <В особенности гл. XV, отд. I. "Рынки" содержит некоторые весьма важные принципы, которые, мне думается, были изложены впервые этим выдающимся экономистом>. Однако уважение, питаемое автором к трудам этого экономиста, не помешало ему подвергнуть критике - со всей свободой, какой требуют, по его мнению, интересы науки, - те взгляды Сэя (в "Economic politique"), которые явно противоречат его собственным идеям.
ПРЕДИСЛОВИЕ РИКАРДО К ТРЕТЬЕМУ ИЗДАНИЮВ этом издании я старался разъяснить полнее, чем в предыдущем, свои взгляды на трудный вопрос о стоимости и с этой целью сделал несколько дополнений к первой главе. Я прибавил также новую главу "О машинах" и о влиянии их усовершенствования на интересы различных классов государства. В главе "Об отличительных свойствах стоимости и богатства" я подверг критике взгляды Сэя на этот важный вопрос, как они изложены, в исправленном виде, в четвёртом и последнем изданиях его сочинений. В последней главе я сделал попытку обосновать ещё строже, чем прежде, теорию, согласно которой страна была бы способна уплачивать добавочные денежные налоги даже в том случае, если бы валовая денежная стоимость всей массы товаров понизилась: оттого ли, что благодаря улучшениям в сельском хозяйстве уменьшилось количество труда, требующегося для производства хлеба внутри самой страны, или же оттого, что часть хлеба получается теперь по более дешёвой цене из-за границы путём вывоза промышленных товаров. Это соображение имеет большое значение для решения вопроса о политике неограниченного ввоза иностранного хлеба, особенно в стране, которая вследствие огромного национального долга постоянно обременена тяжёлыми денежными налогами. Я старался показать, что способность платить налоги зависит не от валовой денежной стоимости массы товаров и не от чистой денежной стоимости доходов капиталистов и землевладельцев, а от соотношения денежной стоимости дохода каждого человека и денежной стоимости товаров, которые он обыкновенно потребляет. Глава 1. О стоимостиОтдел 1 ОТДЕЛ IСтоимость товара, или количество какого-либо другого товара, на которое он обменивается, зависит от относительного количества труда, которое необходимо для его производства, а не от большего или меньшего вознаграждения, которое уплачивается за этот труд "Слово стоимость, - замечает Адам Смит, - имеет два различных значения: иногда оно обозначает полезность какого-нибудь предмета, а иногда возможность приобретения других предметов, которую даёт обладание данным предметом. Первую можно назвать потребительной стоимостью, вторую - меновой стоимостью. Предметы, обладающие весьма большой потребительной стоимостью, часто имеют совсем небольшую меновую стоимость или даже совсем её не имеют; напротив, предметы, имеющие очень большую меновую стоимость, часто имеют совсем небольшую потребительную стоимость или совсем её не имеют" <Адам Смит, Исследовлние о природе и причинах богатства народов, т. I, Соцэкгиз, 1935, стр. 28. - Прим. ред.>. Вода и воздух чрезвычайно полезны, они необходимы для существования, однако при обычных условиях за них нельзя ничего получить в обмен. Напротив, золото, хотя полезность его в сравнении с воздухом или водой очень мала, обменивается на большое количество других благ. Таким образом, полезность не является мерой меновой стоимости, хотя она существенно необходима для этой последней. Если предмет ни на что не годен, другими словами, если он ничем не служит нашим нуждам, он будет лишён меновой стоимости, как бы редок он ни был и каково бы ни было количество труда, необходимое для его получения. Товары, обладающие полезностью, черпают свою меновую стоимость из двух источников: своей редкости и количества труда, требующегося для их производства. Существуют некоторые товары, стоимость которых определяется исключительно их редкостью. Никаким трудом нельзя увеличить их количество, и потому стоимость их не может быть понижена в силу роста предложения. К такого рода товарам принадлежат некоторые редкие статуи и картины, редкие книги и монеты, вина особого вкуса, выделываемые только из винограда, растущего на определённой почве, встречающейся в очень ограниченном количестве. Стоимость их совершенно не зависит от количества труда, первоначально необходимого для их производства, и изменяется в зависимости от изменения богатства и склонностей лиц, которые желают приобрести их. Но в массе товаров, ежедневно обменивающихся на рынке, такие товары составляют очень незначительную долю. Подавляющее большинство всех благ, являющихся предметом желаний, доставляется трудом. Количество их может быть увеличиваемо не только в одной стране, но и во многих в почти неограниченном размере, если только мы расположены затратить необходимый для этого труд. Вот почему, говоря о товарах, их меновой стоимости и законах, регулирующих их относительные цены, мы всегда имеем в виду только такие товары, количество которых может быть увеличено человеческим трудом и в производстве которых действие конкуренции не подвергается никаким ограничениям. На ранних ступенях общественного развития меновая стоимость этих товаров, или правило, определяющее, какое количество одного товара должно обмениваться на другой, зависела почти исключительно от сравнительного количества труда, затраченного на каждый из них. "Действительная цена всякого предмета, - говорит Адам Смит, - т. е. то, что каждый предмет действительно стоит тому, кто хочет приобрести его, есть труд и усилия, нужные для приобретения этого предмета. Действительная стоимость всякого предмета для человека, который приобрёл его и который хочет продать его или обменять на какой-либо другой предмет, состоит в труде и усилиях, от которых он может избавить себя и которые он может возложить на других людей... Труд был первоначальной ценой, первоначальной покупной суммой, которая была уплачена за все предметы" <Адам Смит, Исследование о природе и причинах богатства народов, т. I, стр. 30>. И далее: "В обществе первобытном и мало развитом, предшествовавшем накоплению капиталов и обращению земли в частную собственность, соотношение между количествами труда, необходимыми для приобретения разных предметов, было, невидимому, единственным основанием, которое могло служить руководством для обмена их друг на друга. Так, например, если у охотничьего народа обычно приходится затратить вдвое больше труда для того, чтобы убить бобра, чем на то, чтобы убить оленя, один бобр будет, естественно, обмениваться на двух оленей, или будет иметь стоимость двух оленей. Вполне естественно, что продукт, изготовляемый обычно в течение двух дней или двух часов труда, будет иметь вдвое большую стоимость, чем продукт, изготовляемый обычно в течение одного дня или одного часа труда" <Адам Смит, Исследование о природе и причинах богатства народов, т. I, стр. 45>. Утверждение, что именно в этом заключается подлинная основа меновой стоимости всех предметов, кроме тех, количество коих не может быть увеличено человеческим трудом, имеет для политической экономии в высшей степени важное значение: ничто не порождало так много ошибок и разногласий в этой науке, как именно неопределённость понятий, которые связывались со словом "стоимость". Если меновая стоимость товаров определяется количеством труда, воплощённого в них, то всякое возрастание этого количества должно увеличивать стоимость того товара, на который затрачивается труд, а всякое уменьшение - понижать её. Но Адам Смит, который так правильно определил коренной источник меновой стоимости, оказался непоследовательным. Вместо того чтобы строго держаться принципа, в силу которого стоимость предметов увеличивается или уменьшается в зависимости от увеличения или уменьшения затраченного на них труда, он выдвинул ещё другую стандартную меру стоимости и говорит о предметах, стоящих больше или меньше, смотря по тому, на большее или меньшее количество таких стандартных мер они обмениваются. Иногда он принимает за такую меру хлеб, иногда труд - не количество труда, затраченное на производство того или иного предмета, а то количество его, какое можно купить за этот предмет на рынке, - как будто это равнозначащие выражения, как будто рабочий необходимо получит за свой труд вдвое больше против прежнего, раз труд его стал вдвое производительнее, и он может поэтому выработать вдвое больше товара. Будь это действительно верно, будь вознаграждение рабочего всегда пропорционально тому, сколько он произвёл, количество труда, затраченное на товар, и количество труда, которое за этот товар можно купить, были бы равны, и любым из них можно было бы точно измерять изменения (в стоимости) других предметов. Но они не равны: первое при многих обстоятельствах является неизменным эталоном, показывающим изменения (в стоимости) других предметов, а последнее подвержено стольким же колебаниям, как и стоимость товаров, сравниваемых с ним. Адам Смит, весьма искусно показав недостаточную пригодность такого изменчивого мерила, как золото и серебро, для определения изменения стоимости других вещей, сам избрал не менее изменчивое мерило, остановившись на хлебе или труде. Несомненно, стоимость золота и серебра подвержена колебаниям вследствие открытия новых и более богатых рудников; но такие открытия редки, и действие их, хоть и могущественное, ограничивается сравнительно короткими периодами. Она подвержена колебаниям также и вследствие повышения квалификации труда и усовершенствования машин, с помощью которых разрабатываются рудники; благодаря этому при том же количестве труда можно добыть больше золота и серебра. Далее, стоимость их подвержена колебаниям и вследствие истощения рудников, снабжавших золотом и серебром мир в течение веков. Но разве стоимость хлеба не подвергается действию хотя бы одной из этих причин? Разве не изменяется она, с одной стороны, вследствие улучшений в способах обработки земли, в машинах и орудиях, применяющихся в сельском хозяйстве, а также вследствие открытия в других странах новых участков плодородной земли, которые могут быть обращены под обработку и окажут, таким образом, влияние на стоимость хлеба на всех рынках, куда ввоз его свободен? Разве, с другой стороны, стоимость его не увеличивается вследствие запрещения ввоза, роста населения и богатства и вместе с тем вследствие возрастающей трудности увеличить предложение, так как обработка худших земель требует дополнительного труда? И разве не так же изменчива и стоимость труда, на которую, как и на все другие вещи, влияет не только отношение между спросом и предложением, - отношение, постоянно изменяющееся с каждой переменой в состоянии общества, - но и изменение цен на пищу и другие необходимые предметы, на которые расходуется заработная плата? В одной и той же стране производство данного количества пищи и необходимых для жизни предметов может требовать в одну эпоху вдвое больше труда, чем в другую, более давнюю, вознаграждение же рабочего при этом может уменьшаться очень мало. Если в предыдущий период заработная плата рабочего составляла известное количество пищи и других необходимых предметов, то он, вероятно, не мог бы существовать, если бы это количество уменьшилось. При этих условиях стоимость пищи и предметов, необходимых для жизни, поднялась бы на 100%, считая по количеству труда, необходимого для их производства; между тем если измерять стоимость их количеством труда, на которое они обмениваются, то она едва ли возросла бы. То же замечание может быть сделано и при сравнении двух или нескольких стран. В Америке и в Польше [на земле, поступившей в обработку позже других], годичный труд [данного числа людей] произведёт гораздо больше хлеба, чем [на такой же земле] в Англии <Слова, заключённые в прямые скобки, прибавлены во втором издании. - Прим. ред.>. Предполагая, что все прочие предметы, необходимые для жизни, одинаково дёшевы в этих трёх странах, не будет ли большой ошибкой заключить, что достающееся рабочему количество хлеба будет в каждой из них пропорционально лёгкости его производства? Если бы благодаря улучшению машин обувь и одежда рабочего могли быть произведены при вчетверо меньшей затрате труда, чем необходимо теперь для их производства, стоимость их, вероятно, упала бы на 75 %, но из этого ещё вовсе не следует, что рабочий благодаря этому получил бы возможность постоянно потреблять четыре сюртука или четыре пары обуви вместо одной. Более вероятно, что в непродолжительном времени его заработная плата под влиянием конкуренции и роста населения была бы приведена в соответствие с новой стоимостью предметов жизненной необходимости, на которые она расходуется. Если бы такие улучшения распространились на все предметы потребления рабочего, то мы, вероятно, нашли бы, что через несколько лет он будет жить лишь немногим лучше или совсем не лучше, хотя меновая стоимость указанных товаров в сравнении со стоимостью других, в производстве которых не было сделано никаких улучшений, очень значительно понизится, так как теперь они представляют продукт гораздо меньшего количества труда. Итак, неправильно говорить вместе с Адамом Смитом, что если труд "может иногда купить большее количество этих товаров, иногда меньшее, но в данном случае изменяется стоимость этих товаров, а не стоимость труда, на который они покупаются", и что, следовательно, "один лишь труд, стоимость которого никогда не меняется, является единственным и действительным мерилом, при помощи которого во все времена и во всех местах можно было расценивать и сравнивать стоимость всех товаров" <Адам Смит, Исследование о природе и причинах богатства народов, т. I, стр. 32-33>. Зато совершенно правильно прежнее положение Адама Смита о том, что "соотношение между количествами труда, необходимыми для приобретения различных предметов, является, повидимому, единственным основанием для выработки правил, регулирующих обмен одних товаров на другие", или, другими словами, что настоящую или прошедшую относительную стоимость товаров определяет сравнительное количество их, которое производит труд, а не сравнительные количества, которые даются рабочему в обмен на его труд <В первом и втором изданиях далее шел следующий текст: "Если бы можно было найти товар, для производства которого теперь и всегда требовалось бы то же самое количество труда, то этот товар имел бы неизменяющуюся стоимость и был бы в высшей степени полезен как стандартная мера, при помощи которой можно было бы измерить изменения стоимости других предметов. Но мы не знаем ни одного такого товара и поэтому не в состоянии установить стандартную меру стоимости. Однако ради установления правильной теории весьма полезно определить, каковы должны быть существенные свойства такой меры как для того, чтобы знать причины изменения в относительной стоимости товаров, так и для того, чтобы быть в состоянии определить степень возможного влияния этих свойств". Дальше до конца первого отдела следует прибавление, сделанное только в третьем издании>. Относительная стоимость двух товаров изменяется; как же узнать, в котором из них действительно произошло изменение? Сравнив настоящую стоимость одного из них со стоимостью обуви, чулок, шляп, железа, сахара и всех других товаров, мы находим, что он обменивается на то же самое количество всех этих вещей, что и прежде. Сравнив с этими же товарами другой, мы находим, что он изменился относительно всех их; в таком случае мы можем с большой вероятностью заключить, что изменение произошло в этом товаре, а не в товарах, с которыми мы его сравнивали. Если, исследуя подробнее все обстоятельства, связанные с производством всех этих различных товаров, мы найдём, что для производства обуви, чулок, шляп, железа, сахара и пр. необходимо то же количество труда и капитала, что и прежде, а для производства того единственного товара, относительная стоимость которого изменилась, уже не нужно прежнее количество труда, то вероятность превратится в достоверность, и мы будем уверены, что происшедшее изменение относится только к этому товару: мы открываем, таким образом, и причину его изменения. Если я нашёл, что унция золота обменивается на меньшее количество перечисленных выше товаров и многих других, если сверх того я нашёл, что данное количество золота благодаря открытию новых и более богатых рудников или более выгодному применению машин можно получить с меньшим количеством труда, то я вправе буду сказать, что причиной изменения стоимости золота относительно других товаров была большая лёгкость его производства или уменьшение количества труда, необходимого для его получения. Точно так же, если стоимость труда значительно упала в сравнении со стоимостью всех других предметов и если я установил, что это падение было следствием обильного предложения, поощряемого большей лёгкостью производства хлеба и других предметов жизненной необходимости для рабочего, то я считаю себя вправе сделать вывод, что стоимость хлеба и других предметов первой необходимости упала вследствие уменьшения количества труда, необходимого для их производства, и что вследствие большей лёгкости прокормить рабочего понизилась также и стоимость труда. Нет, возражают Адам Смит и Мальтус, в примере с золотом вы были правы, объясняя происшедшее изменение падением его стоимости, так как стоимость хлеба и труда не изменялась в этом случае. А так как за золото можно было бы теперь получить только меньшее количество их, как и всех других предметов, то совершенно правильно было заключить, что все вещи остались в том же положении и только золото подверглось изменению (в своей стоимости). Но если упала стоимость труда и хлеба - предметов, избранных нами, несмотря на все изменения, которым подвергается их стоимость, и, по нашему признанию, стандартными мерами последней, - то было бы в высшей степени неверно сделать тот же самый вывод. Пользуясь правильной терминологией, надо сказать, что стоимость труда и хлеба не изменилась и что, наоборот, возросла стоимость всех остальных предметов. Но именно против такого способа выражения я и протестую. Я нахожу, что, точно так же как и в примере с золотом, причиной изменения стоимости хлеба относительно других вещей служит уменьшение количества труда, необходимого для его производства. Поэтому, рассуждая последовательно, я должен назвать изменение в стоимости хлеба и труда падением их стоимости, а не повышением стоимости вещей, с которыми они сравниваются. Если мне надо нанять рабочего на неделю и я плачу ему вместо 10 шилл. 8, причём в стоимости денег не произошло никакой перемены, то рабочий может, вероятно, получить больше пищи и предметов первой необходимости за 8 шилл., чем раньше получал за 10. Но это произойдёт не вследствие повышения действительной стоимости его заработной платы, как утверждал Адам Смит и недавно Мальтус, а вследствие падения стоимости предметов, на которые рабочий расходует свою заработную плату, а это совершенно различные вещи. И, однако, когда я называю это падением действительной стоимости заработной платы, мне говорят, что я употребляю новую и необычную терминологию, не соответствующую истинным началам науки. А мне, наоборот, кажется, что именно мои противники употребляют необычную и действительно несостоятельную терминологию. Предположим, что рабочему платят бушель хлеба за неделю труда, когда цена хлеба составляет 80 шилл. за квартер <1 квартер = 4 бушелям. - Прим. ред.>, и бушель с четвертью, когда цена его падает до 40 шилл. Предположим, далее, что рабочий со своей семьёй потребляет полбушеля хлеба в неделю, а остальной хлеб обменивает на топливо, мыло, свечи, чай, сахар, соль и пр. Если три четверти бушеля, которые останутся у него в одном случае, не доставят ему столько же названных товаров, сколько в другом случае полбушеля, то повысилась или упала стоимость труда? Повысилась, должен сказать Адам Смит, потому что у него мерой сравнения служит хлеб, а рабочий получает больше хлеба за неделю труда. Упала, должен сказать тот же Адам Смит, "потому что стоимость вещи зависит от покупательной силы, которую даёт обладание ею по отношению к другим вещам" <Здесь приводится не точный текст, а лишь самая идея А. Смита. (См. Адам Смит, Исследование о природе и причинах богатства народов, т. I, кн. 1, гл. V.)>, а покупательная сила труда относительно этих других предметов уменьшилась. ОТДЕЛ IIТруд различного качества вознаграждается различно. Это обстоятельство не служит причиной изменения относительной стоимости товаров Но если я говорю, что труд является основой всякой стоимости и что относительное количество его определяет [почти исключительно] <эти слова вставлены только в третьем издании. - Прим. ред.> относительную стоимость товаров, то из этого ещё не следует, что я упускаю из виду различия в качестве труда и трудность сравнения между часом или днём труда в одной отрасли промышленности с трудом той же продолжительности в другой. Оценка труда различных качеств скоро устанавливается на рынке с достаточной для всех практических целей точностью и в значительной мере зависит от сравнительного искусства рабочего и напряжённости выполняемого им труда. Раз сложившаяся шкала подвергается незначительным изменениям. Если день труда рабочего ювелира стоит больше, чем день труда простого рабочего, то это отношение уже давно установлено и заняло своё надлежащее место в шкале стоимости <"Хотя труд является действительным мерилом меновой стоимости всех товаров, стоимость их обычно расценивается не в труде. Часто бывает трудно установить отношение между двумя различными количествами труда. Время, затраченное на две различные работы, не всегда само по себе определяет это взаимоотношение. В расчёт должна быть принята также различная степень затраченных усилий и необходимого искусства. Один час какой-нибудь тяжёлой работы может заключать в себе больше труда, чем два часа лёгкой работы; точно так же один час занятия таким ремеслом, обучение которому потребовало десять лет труда, может содержать в себе больше труда, чем работа в течение месяца в каком-нибудь обычном занятии, не требующем обучения. Не легко найти точное мерило для определения степени трудности или ловкости. Правда, обычно при обмене продуктов различных видов труда принимается во внимание степень трудности и ловкости. Однако при этом не имеется никакого точного мерила, и дело решает рыночная конкуренция в соответствии с той грубой справедливостью, которая, не будучи вполне точной, достаточна всё же для обычных житейских дел". [Адам Смит, Исследование о природе и причинах богатства народов, т. I, стр. 31.]>. Таким образом, при сравнении стоимости одного и того же товара в различные эпохи едва ли надо принимать в расчёт сравнительное искусство и напряжённость труда, требующиеся при производстве именно этого товара, ибо эти последние одинаково действительны и в ту и в другую эпоху. Определённый вид труда в данную эпоху сравнивается с тем же видом труда в другую; если прибавилась или убавилась одна десятая, одна пятая или одна четвёртая труда, то это окажет соответствующее действие на относительную стоимость товара. Если кусок сукна стоит теперь двух кусков полотна, а спустя десять лет обычная стоимость куска сукна будет равна четырём кускам полотна, то мы можем с уверенностью заключить, что либо для изготовления сукна требуется больше труда, либо для изготовления полотна - меньше труда, либо что действовали обе причины. Так как анализ, на который я хочу обратить внимание читателей, ставит себе целью исследовать влияние изменений не абсолютной, а относительной стоимости товаров, то для нас не представляет интереса сравнительная оценка различных видов человеческого труда. Мы можем с достаточным основанием принять, что, каково бы ни было первоначальное неравенство между ними, насколько бы больше ни требовалось ловкости, искусства или времени для овладения одним ремеслом по сравнению с другим, разница будет продолжать существовать почти без перемен из поколения в поколение или по крайней мере, что имевшие место изменения весьма незначительны; поэтому для коротких периодов они мало влияют на относительную стоимость товаров. "На соотношение между нормами заработной платы и прибыли в различных приложениях труда и капитала, повидимому, не очень влияет, как уже указано, богатство или бедность страны, её прогрессирующее, стационарное или регрессирующее состояние. Такие резкие изменения в общественном благосостоянии, хотя и отражаются на общем уровне заработной платы и прибыли, в конечном счёте должны одинаково влиять на них в различных отраслях промышленности. Соотношение между ними должно поэтому оставаться прежним и не может изменяться, по крайней мере на сколько-нибудь продолжительное время, при указанных изменениях в общественном благосостоянии" <Адам Смит, Исследование о природе и причинах богатства народов, т. I, стр. 128-129. - Прим. ред.>. ОТДЕЛ IIIНа стоимость товаров влияет не только труд, применяемый непосредственно к ним, но и труд, затраченный на орудия, инструменты и здания, способствующие этому труду <Во втором издании первые два отдела первой главы составляют один отдел. Второй отдел - в третьем издании третий - открывается следующим тезисом: "Накопление капитала не вносит никакого различия в принцип, установленный в последнем отделе", и начинается следующим вступлением, которое Рикардо в третьем издании выпустил, но которое имелось уже и в первом: "Цитата из "Богатства народов", приведённая мною на стр. 34-35, показывает, что хотя Адам Смит полностью признавал принцип, согласно которому соотношение между количествами труда, необходимого для производства различных предметов, представляет единственное основание, которым можно руководствоваться при обмене одних товаров на другие, однако он ограничивает его применение "первобытным, некультурным состоянием общества, которое предшествовало как накоплению капитала, так и обращению земли в частную собственность". А если бы выплачивались прибыль и рента, то они имели бы известное влияние на относительную стоимость товаров, независимо от одного только количества труда, которое было необходимо для их производства. Несмотря на это, Адам Смит нигде не анализирует влияние накопления капитала и обращение земли в частную собственность на относительную стоимость. Важно поэтому определить, в какой степени действие, неизменно оказываемое на меновую стоимость товаров сравнительным количеством труда, затраченного на их производство, изменяется или модифицируется накоплением капитала и уплатой ренты. Во-первых, что касается накопления капитала, то даже" и далее, как в тексте.> Даже в том первобытном состоянии общества, на которое указывает Адам Смит, охотнику нужен для его промысла некоторый капитал, хотя возможно созданный и накопленный им же самим. Без какого-либо оружия нельзя убить ни бобра, ни оленя, и потому стоимость этих животных регулируется не только временем и трудом, необходимыми, чтобы убить их, но и временем и трудом, необходимыми для снабжения охотника капиталом - оружием, с помощью которого их убивают. Предположим, что изготовление оружия, необходимого для охоты на бобра, требует гораздо большей затраты труда, чем производство оружия, необходимого для охоты на оленя, так как близко подойти к первому животному труднее и потому оружие должно быть более метким; тогда один бобр будет, естественно, стоить больше двух оленей, и именно на том основании, что в целом требуется больше труда, чтобы убить его. [Или, предположим, что на изготовление того и другого оружия необходимо было одинаковое количество труда, но долговечность их весьма неодинакова; лишь небольшая доля стоимости долговечного оружия будет переноситься на товар, но гораздо большая сумма стоимости менее долговечного оружия будет воплощаться в товаре, для получения которого оно служило.] <Эта вставка сделана в третьем издании>. Все орудия, необходимые для охоты на бобра и оленя, могут принадлежать одному классу людей, а труд, применяющийся при охоте, доставляться другим классом; и всё-таки сравнительные цены дичи будут соразмерны труду, действительно затраченному как на образование капитала, так и на охоту. В зависимости от различных условий изобилия или скудости капитала сравнительно с трудом, в зависимости от различных условий изобилия или скудости пищи и предметов необходимости для содержания рабочих те, кто вложил капитал одинаковой стоимости в тот или другой промысел, будут получать половину, четверть или одну восьмую добытого продукта, а остаток будет уплачиваться в виде заработной платы тем, кто доставил труд. Но это разделение не отразится на относительной стоимости этих товаров, потому что, будет ли прибыль на капитал больше или меньше, составит ли она 50, 20 или 10%, будет ли заработная плата рабочих высока или низка, всё это окажет одинаковое влияние на оба промысла. Если мы предположим, что количество отдельных занятии в обществе увеличилось, что одни доставляют лодки и снасти, необходимые для рыбной ловли, другие - семена и грубые орудия, применяющиеся в первобытном земледелии, то всё же остаётся в силе принцип, согласно которому меновая стоимость произведённых товаров пропорциональна труду, затраченному на их производство; не только на непосредственное производство, но и на изготовление орудий и машин, требующихся для того вида труда, при котором они применяются. Если мы представим себе состояние общества, в котором достигнуты большие успехи, в котором промышленность и торговля процветают, то мы попрежнему найдём, что стоимость товаров изменяется согласно тому же принципу: определяя, например, меновую стоимость чулок, мы найдём, что их стоимость сравнительно с другими вещами зависит от всего количества труда, которое необходимо для изготовления их и доставки на рынок. Сюда войдёт, во-первых, труд по обработке земли, на которой разводят хлопок; во-вторых, труд по доставке хлопка в страну, где будут изготовлены из него чулки, сюда же включается также часть труда, затраченного на постройку судна, на котором хлопок перевозится и который оплачивается в фрахте товаров; в-третьих, труд прядильщика и ткача; в-четвёртых, часть труда машиностроителя, кузнеца и плотника, которые строили здания и машины, с помощью которых изготовляются чулки; в-пятых, труд розничного торговца и многих других лиц, которых мы не будем перечислять. Общая сумма этих различных видов труда определяет, на какое количество других предметов будут обменены чулки, а чтобы определить, какое количество каждого из этих предметов будет дано в обмен за чулки, надо опять-таки сосчитать общую сумму различных видов труда, затраченного на них. Чтобы убедиться, что именно такова действительная основа меновой стоимости, предположим, что сделано какое-нибудь усовершенствование, сокращающее труд в каком-либо из различных процессов, через которые должен пройти хлопок-сырец, прежде чем изготовленные чулки поступят на рынок для обмена на другие предметы, и посмотрим, каковы будут последствия этого. Если для возделывания хлопка-сырца потребовалось теперь меньше рабочих, или меньше матросов было занято перевозкой его, или меньше корабельных плотников работало при сооружении судна, на котором он был доставлен к нам, если меньше рук работало над сооружением зданий и машин, или была поднята производительность последних, то стоимость чулок неизбежно упадёт, а потому в обмен за них будет получено меньше других предметов. Стоимость их упала, потому что количество труда, необходимое для их производства, уменьшилось. Вследствие этого они будут обмениваться на меньшее количество предметов, в производстве которых не было введено такое сокращение труда. Экономия в приложении труда всегда понизит относительную стоимость товара, всё равно, касается ли она труда, необходимого для изготовления самого товара, или же для образования капитала, с помощью которого товар производится. Цена чулок упадёт во всех случаях оттого ли, что будет занято меньше белильщиков, прядильщиков и ткачей - лиц, непосредственно необходимых для их изготовления, или же матросов, перевозчиков, машиностроителей и кузнецов - лиц, занятых в этом производстве более косвенным образом. В первом случае всё сбережение труда придётся на чулки, потому что эта доля труда всецело уходила на производство чулок; во втором - только часть придётся на чулки, а остальная часть придётся на все другие товары, производству которых служили строения, машины и средства перевозки. <В первом и втором изданиях далее шёл следующий текст: "I. Во всяком обществе срок жизни капитала, употребляемого в производстве, необходимо ограничен. 2. Пища и одежда, потребляемые рабочим, здание, в котором он работает, орудия, которыми он пользуется при работе, имеют проходящий характер. Есть, однако, огромная разница во времени, в течение которого все эти различные капиталы будут служить: паровая машина служит дольше корабля, корабль - дольше одежды рабочего, а одежда рабочего - дольше потребляемой им пищи. 3. В зависимости от того, быстро ли изнашивается капитал и часто ли требует воспроизведения или же потребляется медленно, он причисляется или к оборотному, или к основному капиталу <разделение несущественное, в котором разграничительная линия не может быть точно проведена. [Это примечание сделано только во втором издании]>. О пивоваре, который пользуется ценными и долговечными зданиями и аппаратами, говорят, что он употребляет значительную долю своего капитала в форме основного; напротив, о сапожнике, капитал которого идёт главным образом на уплату заработной платы, которая расходуется на пишу и одежду, товары, менее долговечные, чем здания и машины, говорят, что он употребляет значительную часть своего капитала в форме оборотного. 4. Так, в двух отраслях промышленности могут употребляться капиталы одинаковой величины, но эти капиталы различным образом подразделяются на долю основную и оборотную. 5. Далее, два фабриканта могут употреблять основной и оборотный капиталы одной и той же величины, но срок жизни их основных капиталов весьма различен. У одного - паровые машины стоимостью в 10 тыс. ф. ст., у другого - корабли той же стоимости. 6. Помимо изменений в относительной стоимости товаров, вызванных тем, что для производства их требуется больше или меньше труда, она подвергается также колебаниям вследствие роста заработной платы и последующего за ним падения прибыли, если при этом основные капиталы, занятые в промышленности, представляют неодинаковую стоимость или неодинаково долговечны. 7. Следует также отметить, что оборотный капитал может оборачиваться или возвращаться к своему хозяину в весьма неодинаковые промежутки времени. Пшеница, купленная фермером для посева, есть основной капитал по сравнению с пшеницей, купленной булочником для приготовления из неё хлеба. Один оставляет её в почве и не может получить обратно раньше года, другой может перемолоть её в муку, продать в виде хлеба своим покупателям, и уже через неделю его капитал высвободится для возобновления того же самого дела или чтобы начать какое-нибудь новое". 1-й абзац в третьем издании исключён, абзацы 2, 3, 4 и 5-й перенесены в четвёртый отдел, 6-й во втором издании перенесён в третий отдел второго же издания и составляет его начало. Он заменён 7-м, который в свою очередь в третьем издании перенесён в четвёртый отдел. - Прим. ред.>. Предположим, что на ранних ступенях общественного развития как лук и стрелы охотника, так и лодка и орудия рыболова имеют одинаковую стоимость и одинаковую долговечность, будучи продуктами одинакового количества труда. При этих обстоятельствах стоимость оленя - продукта дневного труда охотника - будет в точности равна стоимости рыбы - продукта дневного труда рыболова. Сравнительная стоимость рыбы и дичи будет всецело регулироваться количеством труда, воплощённого в той и другой, каковы бы ни были размеры продукции или как бы высока или низка ни была в общем заработная плата или прибыль. Если бы, например, лодки и орудия рыболова имели стоимость в 100 ф. ст. и могли служить 10 лет; если бы он занимал 10 рабочих, которым он платил бы в год 100 ф. ст. и которые доставляли бы ему своим трудом 20 лососей в день; если бы орудия, употребляемые охотником, также имели стоимость в 100 ф. ст. и могли служить 10 лет и если бы охотник тоже держал 10 рабочих, которым он платил бы в год 100 ф. ст. и которые добывали бы ему ежедневно 10 оленей,- то, как бы ни была велика или мала доля всего продукта, доставшаяся людям, добывшим его, естественная цена оленя равнялась бы 2 лососям. Какая доля продукта уплачивается в форме заработной платы - вопрос в высшей степени важный при изучении прибыли. Ибо нужно сейчас же заметить, что последняя будет высока или низка в той же самой пропорции, в какой будет низка или высока заработная плата. Но это обстоятельство нисколько не повлияет на относительную стоимость рыбы и дичи, так как заработная плата будет высока или низка в одно и то же время в том и другом промысле. Если бы охотник требовал у рыболова больше рыбы в обмен на свою дичь на том основании, что он платил своим рабочим большую часть дичи или её стоимости в форме заработной платы, то рыболов ответил бы ему, что он сам находится в таком же положении. Поэтому, пока труд одного дня доставляет те же самые соответственные количества рыбы и дичи, естественная норма обмена останется без изменения - 2 лосося за 1 оленя, как бы при этом ни изменялись заработная плата и прибыль и какое бы действие ни оказывало накопление капитала. Если бы то же самое количество труда доставляло меньшее количество рыбы или большее количество дичи, то стоимость рыбы повысилась бы сравнительно со стоимостью дичи. Если, напротив, то же количество труда давало бы меньшее количество дичи или большее количество рыбы, то стоимость дичи повысилась бы в сравнении со стоимостью рыбы. Если бы существовал какой-нибудь другой товар, стоимость которого не изменялась бы, то мы могли бы, сравнив стоимость рыбы и дичи со стоимостью этого товара, определить, в какой степени это изменение должно быть приписано обстоятельствам, повлиявшим на стоимость рыбы, и в какой степени обстоятельствам, повлиявшим на стоимость дичи. Положим, что таким товаром являются деньги. Если лосось стоит 1 ф. ст., а олень - 2 ф. ст., то 1 олень стоит столько, сколько 2 лосося. Но 1 олень может иметь такую же стоимость, как 3 лосося, если потребуется больше труда, чтобы убить оленя или меньше, чтобы поймать лососей. Обе эти причины могут действовать одновременно. И если бы в нашем распоряжении имелась неизменная мера, мы легко могли бы определить, в какой степени влияла каждая из этих причин. Если лосося попрежнему продают за 1 ф.ст., а оленя теперь продают за 3 ф.ст., то мы можем заключить, что теперь требуется больше труда, чтобы убить оленя. Если бы оленя продавали по прежней цене, за 2 ф. ст., а лосося - за 13 шилл. 4 пенса, то мы могли бы сказать с уверенностью, что для поимки лосося требуется меньше труда. А если бы стоимость оленя возросла до 2 ф. ст. 10 шилл. и стоимость лосося упала до 16 шилл. 8 пенс., то мы были бы убеждены, что изменение относительной стоимости этих товаров вызвано действием обеих причин. Никакое изменение в заработной плате рабочих не вызвало бы какого-либо изменения в относительной стоимости этих товаров. [Если мы предположим даже, что заработная плата повысилась] <В первом и втором изданиях вместо взятых в скобки слов следует большой абзац с подробным обоснованием, почему изменение в заработной плате не вызывает изменения в относительной стоимости товаров: "Ибо если бы прибыль составляла 10%, то, чтобы возместить 100 ф. ст. оборотного капитала плюс 10% прибыли, требуется выручка в 110 ф. ст.; чтобы возместить такую же долю основного капитала, при норме прибыли в 10%, потребовалось бы ежегодное получение 16,27 ф. ст., ибо существующая стоимость аннуитета в 16,27 ф. ст. в течение 10 лет, когда деньги ссужаются из 10%, составляет 100 ф. ст., следовательно, вся дичь охотника должна была бы ежегодно продаваться за 126, 27 ф. ст. Но так как капитал рыболова составляет такую же величину и делится в той же самой пропорции на основной и оборотный капитал, а также одинаково долговечен, то, чтобы получить ту же самую прибыль, он должен продавать свои продукты за ту же самую стоимость. Если бы заработная плата возросла на 10% и в силу этого в каждой отрасли промышленности потребовалось бы на 10% больше оборотного капитала, то это оказало бы одинаковое воздействие на оба занятия. В обоих потребовалось бы 210 ф. ст. вместо 200, чтобы произвести прежнее количество товаров, и последние продавались бы за такую же точно сумму денег, именно за 126, 27 ф. ст.; следовательно, их относительная стоимость не изменилась бы и прибыли одинаково понизились бы в обеих отраслях промышленности. Цены товаров не повысились бы, ибо деньги, в которых выражается их стоимость при предположении их неизменной стоимости, всегда требуют того же количества труда для их производства. Если бы золотой рудник, из которого добываются деньги, находился в той же стране, то в этом случае, после повышения заработной платы, необходимо, может быть, употребить как капитал 210 ф. ст., чтобы получить то же самое количество металла, которое получалось прежде на 200 ф. ст., по той же самой причине, по которой охотник и рыболов потребовали бы прибавки в 10 ф.ст. к своим капиталам и рудокоп потребовал бы равной прибавки к своему". - Дальше, как в тексте>, то всё-таки ни в одном из этих промыслов не потребуется большее количество труда, увеличится лишь цена этого труда. Те же основания, которые заставят охотника и рыболова стараться повысить стоимость их дичи и рыбы, заставят и владельца рудника повысить стоимость своего золота. Так как это побуждение действует с одинаковой силой на все эти три промысла и так как относительное положение занимающихся ими как до, так и после повышения заработной платы одинаково, то относительная стоимость дичи, рыбы и золота останется без перемены. Заработная плата может повыситься на 20 %, и прибыль вследствие этого может упасть в большей или меньшей пропорции, не вызывая ни малейшего изменения в относительной стоимости этих товаров. Предположим теперь, что, располагая тем же количеством труда и основного капитала, можно добыть больше рыбы, но не больше золота или дичи; тогда относительная стоимость рыбы упадёт сравнительно со стоимостью золота или дичи. Если бы продукт одного дня труда составлял не 20 лососей, а 25, то цена лосося была бы 16 шилл. вместо 1 ф. ст. и в обмен на одного оленя давали бы два с половиной лосося вместо двух, но цена оленя осталась бы попрежнему 2 ф. ст. Точно так же, если при том же количестве капитала и труда получилось меньше рыбы, то сравнительная стоимость рыбы повысилась бы. Таким образом, меновая стоимость рыбы повышалась бы или падала только потому, что требовалось бы больше или меньше труда для получения данного количества её. Но это повышение или падение стоимости рыбы всегда было бы пропорционально увеличению или уменьшению количества требующегося труда. Итак, если бы мы имели неизменную меру, которой могли бы измерять изменения в стоимости других товаров, то мы нашли бы, что крайний предел повышения стоимости товаров, если они производятся при предположенных нами обстоятельствах, пропорционален добавочному количеству труда, требующемуся для их производства, и что если для производства их не требуется больше труда, то стоимость их не могла бы повыситься ни в какой степени. Рост заработной платы не увеличил бы их стоимость ни относительно денег, ни относительно всех других товаров, для производства которых не требовался добавочный труд, и между основным и оборотным капиталом сохранилось бы то же отношение, причём основной капитал мог бы служить тот же срок. Если бы для производства какого-нибудь другого товара потребовалось больше или меньше труда, то, как мы уже показали, это непосредственно вызвало бы изменение в его относительной стоимости, но такое изменение произошло бы вследствие изменения количества требующегося труда, а не в силу повышения заработной платы <Во втором издании имеется ещё следующий абзац, заканчивающий второй отдел: "Таким образом, из этого отдела явствует, что, несмотря на накопление капитала, относительная стоимость товаров не будет необходимо возрастать вследствие повышения заработной платы, если последнее не сопровождается возросшей лёгкостью или трудностью в производстве одного или более из этих товаров". После этого начинается третий отдел>. ОТДЕЛ IVПринцип, согласно которому количество труда, затраченного на производство товаров, регулирует их относительную стоимость в значительной степени вследствие применения машин и другого основного и долговечного капитала В предыдущем отделе мы предполагали, что принадлежности и оружие, необходимые для охоты и ловли лососей, одинаково долговечны и являются результатом одинакового количества труда. Мы видели, что изменения в относительной стоимости оленя и лосося зависели исключительно от изменений в количествах труда, необходимого для их добывания, но в каждом состоянии общества инструменты, орудия, здания и машины, употребляющиеся в различных промыслах, могут иметь различную долговечность и требовать различных количеств труда для своего производства. Кроме того, отношение между капиталом, предназначенным для содержания труда, и капиталом, вложенным в инструменты, машины и здания, может быть различным. Различие в степени долговечности основного капитала и в отношениях между двумя формами капитала обусловливает другую причину изменений в относительной стоимости товаров помимо большего или меньшего количества труда, необходимого для их производства. Этой новой причиной служит повышение или падение стоимости труда. Пища и одежда, потребляемые рабочим, здание, в котором он работает, орудия, которыми он пользуется при работе, имеют преходящий характер. Есть, однако, огромная разница во времени, в течение которого все эти различные капиталы будут служить: паровая машина служит дольше корабля, корабль --дольше одежды рабочего, а одежда - дольше потребляемой им пищи. В зависимости от того, быстро ли изнашивается капитал и часто ли требует воспроизведения или же потребляется медленно, он причисляется или к оборотному, или к основному капиталу <Разделение несущественное, в котором разграничительная линия не может быть точно проведена. [Это примечание появляется только во втором издании]>. О пивоваре, который пользуется ценными и долговечными зданиями и аппаратами, говорят, что он употребляет значительную долю своего капитала в форме основного; напротив, о сапожнике, капитал которого идёт главным образом на уплату заработной платы, которая расходуется на пищу и одежду, - товары менее долговечные, чем здания и машины, - говорят, что он употребляет значительную часть своего капитала в форме оборотного. Следует также отметить, что оборотный капитал может оборачиваться или возвращаться к своему хозяину в весьма неодинаковые промежутки времени. Пшеница, купленная фермером для посева, есть основной капитал по сравнению с пшеницей, купленной булочником для приготовления из неё хлеба. Один оставляет её в почве и не может получить обратно раньше года, другой может перемолоть её в муку, продать в виде хлеба своим покупателям, и спустя неделю его капитал высвободится для возобновления того же самого дела или чтобы начать какое-нибудь новое. Так, в двух отраслях промышленности могут употребляться капиталы одинаковой величины, но эти капиталы различным образом подразделяются на основную и оборотную доли. В одной отрасли очень мало капитала употребляется в качестве оборотного, т. е. на содержание труда: он вложен главным образом в машины, орудия, здания и пр., т. е. в капитал скорее основного и долговечного характера. В другой отрасли промышленности употребляется то же количество капитала, но главным образом на содержание труда, и очень мало его вложено в орудия, машины, здания. Повышение заработной платы рабочих не преминет отразиться неодинаковым образом на товарах, произведённых при столь различных условиях. Далее, два фабриканта могут употреблять основной и оборотный капиталы одной и той же величины, но срок жизни их основных капиталов весьма различен. У одного - паровые машины стоимостью в 10 тыс. ф. ст., у другого - корабли той же стоимости. Если бы люди не применяли в производстве машины, а только труд, и если бы для доставки их товаров на рынок требовалось одинаковое количество времени, то меновая стоимость их товаров была бы точно пропорциональна количеству затраченного труда. Если бы они употребляли основной капитал одной и той же стоимости и долговечности, то стоимость произведённых товаров была бы и тогда одинакова, и она изменялась бы в зависимости от большего или меньшего количества труда, затраченного на их производство. Хотя относительная стоимость товаров, произведённых в одинаковых условиях, изменяется только вследствие увеличения или уменьшения количества труда, необходимого для производства того или другого из них, однако в сравнении с другими товарами, произведёнными при иной относительной доле основного капитала, стоимость их будет изменяться также и от другой причины, упомянутой мною выше, а именно, от повышения стоимости труда, хотя бы на производство этих товаров употреблялось и не меньшее количество его. Ячмень и овёс при всяком изменении заработной платы будут находиться в одном и том же отношении друг к другу. То же самое произошло бы с ситцем и сукном, если бы они были произведены при совершенно сходных условиях. И всё-таки при повышении или падении заработной платы стоимость ячменя может в большей или меньшей степени измениться в сравнении со стоимостью сукна. Предположим, что два лица нанимают в течение года по 100 рабочих для сооружения двух машин, а третье лицо - то же количество рабочих для производства хлеба; каждая из машин будет иметь в конце года одинаковую стоимость с хлебом, потому что произведена одинаковым количеством труда. Предположим далее, что владелец одной машины употребит её в следующем году для изготовления сукна, имея 100 рабочих, а владелец другой машины - для изготовления ситца тоже при 100 рабочих, фермер же будет попрежнему держать 100 рабочих для производства хлеба. На второй год все они будут употреблять одинаковое количество труда, но товары и машины как фабриканта сукон, так и фабриканта ситцев будут результатом труда 200 рабочих, занятых в течение года, или, скорее, труда 100 рабочих, работавших 2 года, тогда как хлеб будет произведён трудом 100 человек в течение одного года. Следовательно, если стоимость хлеба равняется 500 ф. ст., то сукно и машина фабриканта сукон должны представлять стоимость в 1 тыс. ф. ст., а стоимость машины и ситцев хлопчатобумажного фабриканта должна быть тоже вдвое больше стоимости хлеба. Но первая будет превышать стоимость хлеба больше чем вдвое, потому что прибыль на капитал фабрикантов сукон и ситцев за первый год была присоединена к их капиталам, между тем как фермер свою прибыль издержал на личные нужды. Следовательно, ввиду различных сроков жизни их капиталов, или, что одно и то же, ввиду различия во времени, которое должно пройти, прежде чем партия товаров будет доставлена на рынок, стоимость их не будет точно пропорциональна количеству затраченного на них труда. Отношение их стоимостей будет уже не 2 : 1, а несколько больше; это является компенсацией за больший промежуток времени, который должен пройти, прежде чем более дорогой товар может быть доставлен на рынок. Предположим, что каждый рабочий будет получать за труд 50 ф. ст. в год или что затрачен капитал в 5 тыс. ф. ст. и что прибыль равнялась 10 %. Тогда стоимость каждой машины, так же как и хлеба, составит в конце первого года 5 500 ф. ст. Во втором году фабриканты и фермер снова затратят по 5 тыс. ф. ст. на содержание труда и поэтому опять продадут свои товары за 5 500 ф. ст. Но люди, пользующиеся машинами, должны получить, чтобы быть в равных условиях с фермером, не только 5 500 ф. ст. при равных капиталах в 5 тыс. ф. ст., затраченных на труд, но ещё и 550 ф. ст. как прибыль на 5 500 ф. ст., которые они вложили в машины. Следовательно, их товары должны быть проданы за 6 050 ф. ст. Здесь, значит, мы имеем перед собою капиталистов, которые применяют ежегодно совершенно одинаковое количество труда в производстве своих товаров, и, однако, стоимость товаров, которые они производят, будет неодинакова ввиду того, что различны количества основного капитала или накопленного труда, соответственно применяемые каждым из них. Сукно и ситец имеют одинаковую стоимость, потому что они - продукты одинаковых количеств труда и одинаковых количеств основного капитала; но хлеб не будет иметь одинаковую стоимость с этими товарами, потому что, поскольку дело касается основного капитала, он производится при иных условиях. Но как отразится на их относительной стоимости повышение стоимости труда? Очевидно, что относительная стоимость сукна и ситца не подвергается никаким изменениям, ибо при предположенных нами условиях всякое воздействие на один из этих товаров должно иметь место и по отношению к другому. Не испытывают никакой перемены и относительные стоимости пшеницы и ячменя, потому что, поскольку дело касается основного и оборотного капиталов, они производятся при одинаковых условиях; но стоимость хлеба относительно сукна или хлопчатобумажных товаров должна измениться вследствие повышения стоимости труда. Повышение стоимости труда невозможно без соответствующего падения прибыли. Если хлеб подлежит разделу между фермером и рабочим, то, чем больше доля последнего, тем меньше остаётся первому. Точно так же если сукно или хлопчатобумажные ткани делятся между рабочими и их хозяевами, то, чем большая доля даётся первым, тем меньше остаётся последним. Предположим, что благодаря повышению заработной платы прибыль понизится с 10 до 9%. Тогда вместо прибавки в 550 ф. ст. к общей цене их товаров (5 500 ф. ст.) в качестве прибыли на их основной капитал фабриканты прибавят только 9 % этой суммы, или 495 ф. ст., и, следовательно, цена товаров будет 5 995 ф. ст. вместо 6 050. Так как хлеб будет попрежнему продаваться за 5 500 ф. ст., то стоимость промышленных товаров, на которые затрачено больше основного капитала, упадёт в сравнении со стоимостью хлеба или каких-либо других товаров, в которые входит меньшая доля основного капитала. Степень изменения относительной стоимости товаров вследствие повышения или падения стоимости труда будет зависеть от того, какую долю всего затраченного капитала составляет основной капитал. Упадёт относительная стоимость всех товаров, в производстве которых применяются очень дорогие машины или очень дорогие здания или которые требуют большего промежутка времени, прежде чем они могут поступить на рынок, тогда как относительная стоимость тех товаров, которые производятся главным образом трудом или которые быстро поступают на рынок, повысится. Читатель должен, однако, заметить, что эта причина изменения стоимости товаров действует сравнительно слабо. При таком повышении заработной платы, которое вызовет падение прибыли на 1%, относительная стоимость товаров, произведённых при предположенных мною условиях, упала бы только на 1 %; а при таком падении прибыли стоимость их понизится с 6 050 до 5 995 ф. ст. Наибольшее действие, какое могло бы оказать на относительные цены этих товаров повышение заработной платы, не превысило бы 6-7%, потому что прибыль не выдержала бы, вероятно, ни при каких обстоятельствах более значительного общего и постоянного понижения. Иначе обстоит дело с другой важной причиной изменения стоимости товаров, а именно - с увеличением или уменьшением необходимого для их производства количества труда. Если для производства хлеба требуется 80 человек вместо 100, то стоимость хлеба упадёт на 20 %, или с 5 500 до 4 400 ф. ст. Если для производства сукна достаточно труда 80 рабочих вместо 100, то стоимость сукна упадёт с 6 050 до 4 950 ф. ст. Сколько-нибудь значительное изменение в постоянной норме прибыли является следствием причин, действующих только в течение ряда лет, между тем как изменения в количестве труда, необходимого для производства товаров, совершаются повседневно. Каждое улучшение в машинах, в инструментах, в зданиях, в добывании сырого материала сберегает труд и в значительной степени облегчает для нас производство соответствующего товара, вследствие чего изменяется и его стоимость. Итак, хотя при исследовании причин изменения стоимости товаров было бы неправильно совершенно упускать из виду действие повышения или падения стоимости труда, было бы, однако, также неправильно приписывать ему большое значение. Поэтому, хотя в следующих частях этого труда мне придётся иногда ссылаться на эти причины, я всё же буду рассматривать все крупные изменения, происходящие в относительной стоимости товаров, как определяющиеся большим или меньшим количеством труда, которое в различное время могло потребоваться для их производства. Едва ли нужно оговаривать, что меновая стоимость товаров, на производство которых затрачено одинаковое количество труда, будет неодинакова, если они не могут быть доставлены на рынок в одно и то же время. Предположим, что я занимаю в производстве товара 20 рабочих с расходом в 1 тыс. ф. ст. в год и по прошествии года занимаю снова 20 человек с дальнейшим расходом в 1 тыс. ф. ст. для отделки или более совершенной обработки того же товара и что я доставляю его на рынок через 2 года; тогда при норме прибыли в 10% мой товар должен быть продан за 2 310 ф. ст., потому что в первый год я истратил капитал в 1 тыс. ф. ст., а во второй в 2 100 ф. ст. Другой человек использует точно такое же количество труда, но затрачивает его полностью в течение первого года, когда у него работает 40 рабочих с расходом в 2 тыс. ф. ст. В конце первого года он продаёт товар с прибылью в 10%, или за 2 200 ф. ст. Итак, два товара, на производство которых пошло одинаковое количество труда, продаются один за 2 310 ф. ст., другой - за 2 200 ф. ст. Этот случай, повидимому, отличается от предыдущего, но в действительности одинаков с ним. В обоих случаях увеличение цены товара вызвано большей продолжительностью времени, которое должно пройти, прежде чем он поступит на рынок. В первом случае машины и сукно имели стоимость, превышающую более чем вдвое стоимость хлеба, хотя на них ушло вдвое больше труда. Во втором случае один товар имеет большую стоимость, чем другой, хотя на производство его ушло не больше труда. Различие в стоимости в обоих случаях происходит оттого, что прибыль накопляется как капитал и является лишь справедливой компенсацией за время, в течение которого она не могла быть использована. Итак, разделение капитала на основной и оборотный в различных пропорциях в разных отраслях производства вводит, оказывается, значительное видоизменение в правило, которое имеет всеобщее применение, когда в производстве используется почти исключительно труд, и которое состоит в том, что стоимость товаров никогда не изменяется, если на их производство не затрачивается больше или меньше труда. А в этом отделе было показано, что при отсутствии каких-либо изменений в количестве труда одно повышение его стоимости вызовет падение меновой стоимости тех товаров, в производстве которых употребляется основной капитал, и, чем большую долю составляет основной капитал, тем больше будет это падение. ОТДЕЛ VПринцип, в силу которого стоимость не изменяется вследствие повышения или падения заработной платы и видоизменяется вследствие неодинаковой долговечности капитала и неодинаковой скорости, с которой он возвращается к предпринимателю В последнем отделе мы предполагали, что в двух равных капиталах двух разных отраслей промышленности доля основного и доля оборотного капитала не равны; теперь предположим, что они одинаковы, но срок службы их неодинаков. Чем менее долговечен основной капитал, тем более он приближается по своему характеру к оборотному капиталу. Он будет потребляться, а его стоимость воспроизводиться в более короткий срок, для того чтобы капитал фабриканта сохранялся. Мы только что видели, что при повышении заработной платы стоимость товаров, произведённых на фабрике, где преобладает основной капитал, будет относительно ниже, чем стоимость товаров, произведённых на фабрике, где преобладает оборотный капитал. Те же причины вызовут те же следствия по море уменьшения срока службы основного капитала и приближения его к типу оборотного. Если основной капитал изнашивается быстро, то ежегодно требуется большее количество труда, чтобы сохранить первоначальный уровень его полезного действия, но затраченный таким образом труд может считаться в действительности затраченным на изготовленный товар, на который должна поэтому переходить пропорциональная ему стоимость. Если я имею машину стоимостью в 20 тыс. ф. ст., при использовании которой для производства товаров требуется очень небольшое количество труда, и если изнашивание такой машины ничтожно, а общая норма прибыли равняется 10 %, то к цене моих товаров мне надо прибавить немногим больше 2 тыс. ф. ст. за использование моей машины. Но если изнашивание машины велико, если для поддержания её в соответствующем состоянии требуется труд 50 человек в течение года, то я должен требовать за свои товары добавочную цену, равную той, какую получил бы всякий другой фабрикант, который занимал бы 50 человек в производстве других товаров и вовсе не применял машин. Но повышение заработной платы рабочих неодинаково отразится на товарах, производимых с помощью быстро изнашивающихся машин, и на товарах, производимых с помощью медленно изнашивающихся машин. В производстве первых на производимый товар постоянно переносится значительное количество труда, в производстве других - очень малое количество. Поэтому всякое повышение заработной платы, или, что одно и то же, всякое падение прибыли, понизит относительную стоимость товаров, которые производятся с помощью более долговечного капитала, и соответствующим образом повысит стоимость тех, которые производятся с помощью капитала, более быстро изнашивающегося. Падение заработной платы будет иметь в этих двух случаях диаметрально противоположное действие. Я уже сказал, что основной капитал имеет различные степени долговечности. Предположим теперь, что перед нами машина, которая может применяться в какой-либо особой отрасли промышленности и выполнять работу 100 человек в год, и что она может продержаться только один год. Предположим также, что эта машина стоит 5 тыс. ф. ст. и что заработная плата 100 рабочих составляет в год 5 тыс. ф. ст. Очевидно, что для фабриканта всё равно, купить ли машину или нанять рабочих. Но пусть стоимость труда повысится; тогда годовая заработная плата 100 человек составит 5 500 ф. ст. Очевидно, что теперь фабриканту нечего колебаться: в его интересах купить машину, которая выполнит ему ту же работу за 5 тыс. ф. ст. Но не повысится ли также и цена машины, не будет ли и она тоже стоить 5 500 ф.ст. вследствие повышения стоимости труда? Её цена поднялась бы, если бы при её сооружении не применялось никакого капитала и если бы владелец машиностроительного предприятия не получал никакой прибыли. Если бы, например, машина была продуктом труда 100 человек, работавших над ней год и получавших заработную плату в 50 ф. ст. каждый, и цена её была, следовательно, 5 тыс. ф. ст., то в случае повышения заработной платы до 55 ф. ст. её цена была бы 5500 ф. ст. Но это невозможно: или занято менее 100 рабочих, или машина не может быть продана за 5 тыс. ф. ст., так как из этой суммы должна быть уплачена прибыль на капитал, затраченный на рабочих. Итак, предположим, что было занято только 85 человек с расходом в 50 ф. ст. на каждого, или 4 250 ф. ст. в год, и что 750 ф. ст., которые доставила продажа машины сверх заработной платы, уплаченной рабочим, составляли прибыль на капитал владельца машиностроительного предприятия. При повышении заработной платы на 10% он будет вынужден затратить добавочный капитал в 425 ф. ст. и поэтому вместо 4 250 ф. ст. вложит всего 4 675 ф. ст.- капитал, на который он получит только 325 ф. ст. прибыли, если попрежнему продаст свою машину за 5 тыс. ф. ст. Но точно в таком же положении находятся все фабриканты и капиталисты: повышение заработной платы отражается на всех одинаково. Поэтому если бы владелец машиностроительного предприятия поднял цену машины вследствие повышения заработной платы, то капитал стал бы притекать к производству таких машин в необычных размерах <Нам ясно теперь, почему старые страны постоянно побуждаются употреблять машины, а новые - труд. С каждым затруднением в получении продуктов, нужных для пропитания рабочих, стоимость труда необходимо повышается, а с каждым повышением цены труда налицо новое побуждение к применению машин. Эта трудность обеспечить содержание рабочих постоянно проявляется в старых странах, в новых же может иметь место очень большое увеличение населения без малейшего повышения заработной платы. Там бывает так же легко снабдить пищей 7-й, 8-й и 9-й миллион людей, как и 2-й, 3-й и 4-й> до тех пор, пока цены машин не вернули бы прибыль к обычному уровню. Мы видим, следовательно, что цены машин не повысятся вследствие повышения заработной платы. Однако фабрикант, который при общем повышении заработной платы располагает машиной, не увеличивающей издержек производства его товара, был бы в особо выгодном положении, если бы мог брать прежнюю цену за свои товары; но он, как мы уже видели, будет вынужден понизить цену своих товаров, так как в противном случае в его отрасль промышленности будет притекать капитал до тех пор, пока его прибыль не упадёт до общего уровня. Таким образом, в выигрыше от введения машин оказывается публика: эти немые агенты всегда являются продуктом гораздо меньшего труда, чем тот, который они вытесняют, хотя бы они имели ту же денежную стоимость. Благодаря их влиянию возрастание цен на средства питания, в свою очередь повышающее заработную плату, отражается на меньшом числе лиц. В вышеприведённом примере оно коснётся 85 человек вместо 100, и экономия, явившаяся результатом этого, скажется в уменьшенной цене изготовленных товаров; действительная стоимость машин и изготовленных с их помощью товаров не только не повысится, но, наоборот, стоимость товаров, изготовленных таким путём, упадёт, и притом пропорционально долговечности машин. Мы видим, таким образом, что на ранних ступенях общественного развития, до применения в больших размерах машин или долговечного капитала, товары, произведённые равными капиталами, будут иметь приблизительно равную стоимость, которая повышается или падает по отношению друг к другу только благодаря тому, что на производство их стало нужно больше или меньше труда. После же введения этих дорогих и долговечных орудий товары, производимые с применением одинаковых капиталов, будут иметь весьма неодинаковую стоимость. Хотя относительная стоимость их всегда будет повышаться или понижаться в зависимости от увеличения или уменьшения количества труда, необходимого для их производства, она, кроме того, будет подвергаться еще другим, хотя и меньшим, изменениям вследствие повышения или падения заработной платы и прибыли. А так как товары, продающиеся за 5 тыс. ф. ст., могут быть продуктом капитала, равного по величине тому, с помощью которого произведены другие товары, продающиеся за 10 тыс. ф. ст., то производство их должно давать одинаковую прибыль; но эти прибыли были бы не равны, если бы цены товаров не изменялись вместе с повышением или падением нормы прибыли. Таким образом, оказывается, что соразмерно с долговечностью применяемого в какой-либо отрасли производства капитала относительные цены товаров, произведённых с помощью такого долговечного капитала, будут изменяться в обратном отношении к заработной плате: они будут падать с повышением заработной платы и подниматься с падением её; [напротив, товары, которые производятся главным образом трудом с применением меньшего основного капитала или основного капитала менее долговечного характера, чем тот стандартный капитал, с помощью которого определяется цена, будут повышаться в цене вместе с повышением заработной платы и падать с её падением] <Вместо этих строк во втором издании сказано: "и что никакие товары не увеличиваются в своей меновой стоимости только потому, что повышается заработная плата; меновая стоимость их увеличивается, если тратится больше труда на их производство, если понижается заработная плата или если снижается стоимость стандартной меры, в которой они оцениваются">. ОТДЕЛ VI<Отдел VI вставлен только в третьем издании> О неизменной мере стоимости Если относительная стоимость товаров меняется, то желательно иметь способ, которым можно определить, для каких товаров повысилась и для каких упала их действительная стоимость. Это возможно сделать только путём последовательного сравнения их с какой-нибудь неизменной стандартной мерой стоимости, которая не подвергалась бы сама ни одному из тех колебаний, какие испытывают другие товары. Иметь такую меру невозможно, потому что нет товара, стоимость которого но подвергалась бы тем же изменениям, что и стоимость остальных предметов, которую мы хотим измерить. Другими словами, нет товара, производство которого не требовало бы то больше, то меньше труда. Но если бы даже эта причина изменения стоимости могла быть устранена для выбранной нами меры, если бы для производства наших денег в различные эпохи требовалось одно и то же количество труда, они всё же не были бы безупречным масштабом или неизменной мерой стоимости. Как я уже старался показать, относительная стоимость их подвергалась бы изменениям вследствие повышения или падения заработной платы, если бы доли основного капитала, необходимого для производства денег, а также других товаров, изменение стоимости которых мы желаем определить, были при этом различны. Она подвергалась бы изменениям, кроме того, ещё и потому, что долговечность основного капитала, употребляемого на производство денег и других товаров, подлежащих сравнению с ними, очень различна или что время, необходимое для доставки их на рынок, может быть длиннее или короче времени, необходимого для доставки туда товаров, изменение стоимости которых подлежит определению. Все эти обстоятельства мешают какому-либо товару стать совершенно точной мерой стоимости. Предположим, что мы остановились на золоте как на такой мере. Очевидно, что оно является таким же товаром, как и другие предметы, производимые при таких же условиях и требующие для своего производства затраты труда и основного капитала. Как и при производстве всяких других товаров, тут тоже возможны улучшения, сберегающие труд добывания золота, а следовательно, и его относительная стоимость может уменьшаться просто вследствие большей лёгкости его добывания. Если даже предположить, что эта причина изменений устранена, что для получения одного и того же количества золота всегда требуется одно и то же количество труда, то всё же золото не будет совершенной мерой стоимости, с помощью которой мы могли бы точно установить изменение стоимости всех других товаров. И вот почему. Во-первых, отношение между основным и оборотным капиталами в производстве золота и других вещей может быть совершенно различно; во-вторых, основной капитал может иметь в том и в другом случае различную степень долговечности; в-третьих, для доставки золота на рынок может требоваться иное количество времени, чем для доставки других товаров. Золото было бы совершенной мерой стоимости для всех предметов, производимых при точно таких же условиях, как и оно, но не для других. Если бы, например, золото производилось при тех же условиях, какие, по нашему предположению, необходимы для производства сукна и ситца, оно было бы совершенной мерой стоимости для этих вещей. Но оно не годилось бы для хлеба, каменного угля и других товаров, производимых при участии большей или меньшей доли основного капитала. Мы уже показали, что всякое изменение в постоянной норме прибыли имело бы некоторое влияние на относительную стоимость всех этих товаров независимо от всякого изменения в количестве труда, затраченного на их производство. Если бы золото производилось при тех же условиях, что и хлеб, то, даже если бы эти условия не изменялись, оно по указанным уже причинам не могло бы служить совершенной мерой стоимости сукна и ситца для разных эпох. Итак, ни золото, ни какой-либо другой товар никогда не могут служить совершенной мерой стоимости для всех вещей; но я уже заметил, что изменение в прибыли оказывает сравнительно слабое действие на относительные цены предметов и что изменение количества труда, необходимого для производства, оказывает на них гораздо более сильное действие. Поэтому, предполагая, что эта важная причина изменений устранена по отношению к производству золота, мы, вероятно, будем иметь в нём наибольшее теоретически мыслимое приближение к стандартной мере стоимости. Разве нельзя смотреть на золото, как на товар, производимый при таком соотношении двух родов капитала, которое всего ближе к среднему соотношению, взятому для производства большинства товаров? Разве мы не можем рассматривать это соотношение как одинаково далёкое от обеих крайностей, когда в одном случае используется мало основного капитала, а в другом употребляется мало труда, и не занимает ли оно среднее место между ними? Таким образом, предполагая, что я обладаю мерой, настолько приближающейся к неизменной, я буду обладать и преимуществом, позволяющим говорить об изменениях стоимости других вещей, не заботясь каждый раз о рассмотрении возможного изменения в стоимости меры, которой определяются цена и стоимость. Поэтому, хотя я вполне признаю, что золотые деньги подвергаются (в своей стоимости) большинству изменений, которым подвергаются и другие предметы, я всё-таки, чтобы облегчить предмет настоящего исследования, буду считать их неизменными (в стоимости). Таким образом, всякие изменения в ценах товаров я буду рассматривать как следствия изменения стоимости того товара, о котором будет идти речь. Прежде чем расстаться с этой темой, будет уместно заметить, что Адам Смит и все последующие экономисты без единого исключения утверждали, что за повышением цены труда последовало бы однообразное повышение цены всех товаров. Надеюсь, мне удалось показать, что этот взгляд совершенно не обоснован. Поднялись бы только цены тех товаров, при производстве которых употребляется меньше основного капитала, чем при производстве товара, служащего мерой для определения цены; цены же тех товаров, на производство которых основного капитала идёт больше, непременно упали бы при повышении заработной платы. Напротив, если бы заработная плата упала, то упали бы цены только тех товаров, производство которых ведётся с меньшей долей основного капитала, чем производство товара, служащего мерой для определения цен, а цены всех товаров, в производстве которых участвует большая доля основного капитала, непременно поднялись бы. Считаю также нужным отметить: я не сказал, что раз на один товар пошло труда на 1 тыс. ф. ст., а на другой - на 2 тыс. ф. ст., то стоимость первого будет поэтому равна 1 тыс. ф. ст., а стоимость второго - 2 тыс. Я сказал только, что их стоимости будут относиться как 1 : 2 и что в этой пропорции они и будут обмениваться. Моя теория остаётся одинаково верной, будет ли первый товар продан за 1 100 ф. ст., а второй - за 2 200 или первый - за 1 500, а второй - за З тыс. ф. ст. Я в настоящее время не исследую этого вопроса, а утверждаю только, что относительные стоимости товаров определяются относительными количествами труда, затраченного на их производство <Г-н Мальтус замечает по поводу этой теории: "Мы, конечно, можем произвольно называть труд, затраченный на товар, действительной стоимостью его, но, делая так, мы употребляем слова не в том смысле, в каком они обыкновенно употребляются; мы при этом забываем весьма важную разницу между издержками и стоимостью, а в таком случае почти невозможно сделать ясным главное побуждение к производству богатства, которое фактически зависит от этой разницы". ("Principles of Political Economy", 1820, р. 61.) Г-н Мальтус думает, повидимому, что согласно моей теории издержки производства какой-либо вещи и стоимость её тождественны; это так, если он под издержками понимает "издержки производства", включающие прибыль. В вышеприведённом отрывке он имеет в виду не это, следовательно, он не вполне понял меня>. ОТДЕЛ VIIРазличные следствия, вызываемые изменением стоимости денег - меры, в которой всегда выражается цена, или изменением стоимости товаров, которые покупаются за деньги Я уже объяснил, что с целью более отчётливого выяснения причин относительных изменений в стоимости других товаров я буду считать стоимость денег неизменной. Но я считаю всё же полезным указать на различные следствия изменения товарных цен, происходящего в силу уже указанных мною причин, а именно вследствие различия в количестве труда, требующегося для производства товаров, и вследствие изменения стоимости самих денег. Так как деньги - изменяющийся (в стоимости) товар, то повышение денежной заработной платы часто вызывается падением стоимости денег <Во втором издании этот отдел - V; он имеет другое начало; Рикардо перенёс из отдела IV первого издания в отдел V второго следующий абзац: "Вышеприведённое положение, доказывающее совместимость повышения заработной платы с понижением цен, имеет - мне это известно - невыгоду новизны и должно опираться на собственную состоятельность, чтобы найти защитников; пока же оно имеет своими противниками экономистов выдающейся и заслуженной репутации. Следует, однако, всегда помнить, что во всей этой аргументации я исхожу из того, что деньги имеют неизменную стоимость, другими словами, являются всегда продуктами одного и того же количества труда вне зависимости от сторонних воздействий. Так как деньги представляют изменяющийся (в стоимости) товар, то повышение заработной платы, а равно и цены товаров часто вызываются падением стоимости денег". Дальше во всех трёх изданиях, за незначительными исключениями, изложение тождественно. - Прим. ред.>. Действительно, повышение заработной платы вследствие этой причины неизменно сопровождается повышением цены товаров; но в таких случаях оказывается, что изменение произошло не в относительной стоимости труда и других товаров, а что изменилась только стоимость денег. Деньги являются товаром, получаемым из-за границы; они служат всеобщим средством обмена между всеми цивилизованными странами и распределяются между ними в пропорциях, которые изменяются с каждым усовершенствованием в торговле и машинах, с каждым увеличением трудности добывания пищи и других предметов жизненной необходимости для растущего населения. В силу всего этого они подвергаются непрерывным изменениям. Устанавливая принципы, регулирующие меновую стоимость и цены, мы должны тщательно отличать изменения, причины коих лежат в самом товаре, от изменений, вызываемых переменами в самой мере, которой определяется стоимость или выражается цена. Повышение заработной платы вследствие изменения в стоимости денег оказывает общее воздействие на все цены и по этой причине не оказывает никакого реального действия на прибыль. Напротив, повышение заработной платы в силу того обстоятельства, что рабочий получает более щедрое вознаграждение, или вследствие затруднений в добывании предметов жизненной необходимости, на которые расходуется заработная плата, не влечёт за собой, за исключением некоторых случаев, повышения цены, но оказывает большое влияние на понижение прибыли. В одном случае на содержание рабочих не уделяется более значительная доля годового труда страны, во втором - уделяется. Судить о повышении или падении ренты, прибыли и заработной платы можно лишь в соответствии с разделением всего продукта земли [какой-либо фермы] <В первом и во втором изданиях: "продукта земли и труда страны". - Прим. ред.> между тремя классами - землевладельцев, капиталистов и рабочих, а не в соответствии со стоимостью этого продукта, определяемого в заведомо изменчивой мере. Не по абсолютному количеству продукта, получаемому каждым классом, можно правильно судить о норме прибыли, ренты и заработной платы, но по количеству труда, требующегося для получения этого продукта. Благодаря улучшению машин и прогрессу в земледелии весь продукт может удвоиться; но если заработная плата, рента и прибыль тоже удвоятся, то соотношение между ними останется без изменения и ни об одной из них нельзя будет сказать, что она относительно изменилась. Но если бы заработная плата не участвовала в полной мере в этом увеличении, если бы она, вместо того чтобы удвоиться, увеличилась лишь наполовину, если бы рента, вместо того чтобы удвоиться, возросла только на три четверти, а остальное увеличение досталось на долю прибыли, то, мне кажется, я был бы вправе сказать, что рента и заработная плата упали, а прибыль повысилась. Если бы мы имели неизменный масштаб для измерения стоимости этого продукта, мы нашли бы, что классу рабочих и землевладельцев досталась меньшая стоимость, чем прежде, а классу капиталистов большая, чем прежде. Мы могли бы найти, например, что, хотя абсолютное количество товаров удвоилось, они всё-таки являются продуктом точно такого же количества труда, как и прежде. Если из каждой сотни произведенных шляп, сюртуков и квартеров хлеба
и если, после того как количество этих товаров удвоилось, из каждой сотни их
то я сказал бы в этом случае, что заработная плата и рента упали, а прибыль повысилась, хотя вследствие обилия товаров количество продуктов, уплачиваемых рабочему и землевладельцу, увеличилось в отношении 25 : 44. Заработную плату следует измерять её действительной стоимостью, т. е. количеством труда и капитала, употреблённым на её производство, а не номинальной стоимостью её в сюртуках ли, шляпах, деньгах или хлебе. При обстоятельствах, только что предположенных мною, стоимость товаров упала бы наполовину, а если бы стоимость денег не изменилась, то и цена их тоже упала бы наполовину. Если бы оказалось, что заработная плата, выраженная в этой не изменившейся в своей стоимости мере, упала, то это еще не означает действительного падения её, так как рабочий на теперешний заработок может купить большее количество дешёвых товаров, чем на прежний. Как бы велико ни было изменение в стоимости денег, оно не влияет на норму прибыли. Положим, что цена товаров фабриканта поднялась с 1 тыс. до 2 тыс. ф. ст., или на 100%, если его капитал, на который изменения в стоимости денег влияют так же, как и на стоимость продукта, т. е. его машины, здания и склады тоже поднялись в цене на 100 %, тогда норма его прибыли не изменится, и он будет располагать таким же количеством продуктов труда данной страны, но не большим. Если с помощью капитала данной стоимости фабрикант может путём экономии на труде удвоить количество продуктов и понизить их цены наполовину, то отношение между стоимостью капитала и произведённого продукта останется таким же, а следовательно, не изменится и норма прибыли. Если в то самое время, как фабрикант удвоил количество продукта, применяя тот же капитал, стоимость денег в силу какой-либо причины понизится наполовину, то продукт будет продан за вдвое большую денежную стоимость, чем раньше; но капитал, затраченный на его производство, будет также представлять вдвое большую денежную стоимость в сравнении с прежней. Значит, и в этом случае отношение стоимости продукта к стоимости капитала останется тем же, что и прежде. Хотя количество продукта удвоилось, рента, заработная плата и прибыль изменятся лишь постольку, поскольку изменится отношение, в котором этот удвоенный продукт делится между тремя классами, разделу между которыми он подлежит. <В первом издании глава о стоимости заканчивалась следующим текстом: "Таким образом, оказывается, что накопление капитала, вместе с которым изменяется отношение между основным и оборотным капиталом, применяющимся в различных отраслях промышленности, а также степень долговечности основного капитала вводят значительное изменение в правило, которое имеет всеобщее применение на ранних ступенях общественного развития. Хотя стоимость товаров повышается или падает пропорционально большему или меньшему количеству труда, необходимого для их производства, их относительная стоимость изменяется вследствие повышения или снижения прибыли; одинаковые прибыли могут быть получены с товаров, которые продаются за 2 тыс. ф. ст., и с товаров, которые продаются за 10 тыс. ф. ст., а потому изменения этих прибылей должны влиять на их цены в различных отношениях независимо от увеличения или уменьшения количества труда, требующегося для производства данных товаров. Оказывается также, что стоимость товаров может понижаться вследствие действительного повышения заработной платы, но никогда не может повыситься в силу этой причины. С другой стороны, она может повышаться вследствие снижения заработной платы, так как данные товары теряют те особые преимущества производства, которые обусловливались высокой заработной платой".> Глава 2. О ренте
Остаётся, однако, рассмотреть, не вызывает ли обращение земли в собственность и следующее за этим создание ренты какого-либо изменения в относительной стоимости товаров независимо от количества труда, необходимого для их производства. Чтобы выяснить эту сторону вопроса, мы должны исследовать природу ренты и законы, регулирующие её повышение или падение. Рента - это та доля продукта земли, которая уплачивается землевладельцу за пользование первоначальными и неразрушимыми силами почвы. Её, однако, часто смешивают с процентом и прибылью на капитал, и в обыденной речи этот термин прилагается ко всем ежегодным платежам фермера землевладельцу. Положим, что из двух смежных ферм одинаковой величины и одинакового естественного плодородия одна располагает всеми полезными хозяйственными строениями и, кроме того, хорошо осушена и удобрена и как следует разделена на участки плетнями, изгородями и стенами, тогда как другая не имеет ни одного из этих преимуществ. Естественно, что за пользование первою будет платиться большее вознаграждение, чем за пользование второю, а между тем в обоих случаях это вознаграждение называется рентой. Очевидно, однако, что только часть денег, ежегодно уплачиваемых за улучшенную ферму, даётся за первоначальные и неразрушимые силы почвы, другая же часть платится за пользование капиталом, который был употреблён на улучшение качества почвы и на сооружение зданий, необходимых для хранения продукта и предохранения его от порчи. Адам Смит говорит о ренте иногда в том строгом смысле, какой я хочу придавать ей, но чаще в том смысле, в каком этот термин обычно употребляется в обыденной речи. Он рассказывает нам, что спрос на строевой лес и вследствие этого высокая цена его в более южных странах Европы были причиной того, что в Норвегии стали платить ренту за леса, которые раньше не давали её <См. Адам Смит, Исследование о природе и причинах богатства народов, т. I, стр. 147. - Прим. ред.>. Не ясно ли, однако, что лицо, платившее так называемую ренту, платило её за ценный товар, находившийся на данном участке, чтобы посредством продажи строевого леса выручить свои деньги с прибылью? Правда, если бы после того, как лес был вырублен, землевладельцу платилось какое-либо вознаграждение за то, что он использовал землю для разведения леса или какого-либо другого продукта в расчёте на будущий спрос, то такое вознаграждение справедливо было бы называть рентой, потому что оно уплачивалось бы за производительные силы земли. Но в том случае, о каком говорит Адам Смит, вознаграждение платилось за право вырубки и продажи леса, а не за право разведения его. Он говорит также о ренте, получаемой с каменноугольных копей и с каменоломен <См. там же. - Прим. ред.>, но к ней приложимо то же замечание, а именно: вознаграждение, даваемое за копи или каменоломни, уплачивается за стоимость каменного угля или камня, которые могут быть извлечены из них, и не находится ни в какой связи с первоначальными и неразрушимыми силами почвы. Это различие имеет большую важность при исследовании ренты и прибыли. Ибо, как мы после увидим, законы, регулирующие движение ренты, сильно отличаются от законов, регулирующих движение прибыли, и редко действуют в одном и том же направлении. Во всех культурных странах ежегодная плата землевладельцу, которая носит смешанный характер ренты и прибыли, остаётся иногда неподвижной в силу действия противоположных причин, а иногда повышается или понижается в зависимости от преобладания той или другой из них. Вот почему каждый раз, когда я говорю о земельной ренте на следующих страницах этого труда, я говорю только о том вознаграждении, которое уплачивается собственнику земли за пользование её первоначальными и неразрушимыми силами. При первом заселении страны, где имеется в изобилии богатая и плодородная земля, лишь незначительную долю которой нужно обрабатывать для снабжения пищей наличного населения или же можно на деле обработать при капитале, которым располагает это население, ренты не существует. Ведь никто не станет платить за пользование землёй, раз есть налицо масса ещё не обращённой в собственность земли, которою поэтому может располагать всякий, кто захочет обрабатывать её. Согласно общим законам предложения и спроса никто не будет платить ренту за такую землю, точно так же как никто не платит ренты за пользование воздухом и водой или каким-либо другим даром природы, существующим в неограниченном количестве. При данном количестве материалов машины выполняют известную работу, используя давление атмосферы и упругость пара, и сокращают таким образом в очень значительной степени человеческий труд. Но никто не взимает платы за пользование этими силами природы, потому что они неистощимы и могут быть использованы всяким. Точно так же пивовар, водочный заводчик, красильщик постоянно пользуются воздухом и водой при производстве своих товаров; но так как запасы их безграничны, то они и не имеют никакой цены <"Земля, как мы видели, не единственный элемент природы, который обладает производительной силой, но она единственный, или почти единственный, естественный элемент, который одна группа людей присваивает себе, отстраняя других, и благодеяния которого она, следовательно, может присваивать. Воды рек и морей, обладающие силой приводить в движение наши машины и наши суда, питать нашу рыбу, тоже имеют производительную силу; ветер, который движет наши мельницы, и даже солнечная теплота работают на нас; но, к счастью, ещё никто не мог сказать: "ветер и солнце мои, и за услуги, которые они оказывают, надо платить"". ("Economie politique", par J. В. Say, v. II, p. 124.)>. Если бы вся земля имела одинаковые свойства, если бы она имелась в неограниченном количестве и была однородна по качеству, то за пользование ею нельзя было бы брать плату, за исключением тех случаев, когда она отличается особенно выгодным положением. Следовательно, рента всегда платится за пользование землёй только потому, что количество земли не беспредельно, а качество её неодинаково, с ростом же населения в обработку поступает земля низшего качества или расположенная менее удобно. Когда с развитием общества поступает в обработку земля второго разряда по плодородию, на земле первого разряда тотчас возникает рента, и величина этой ренты будет зависеть от различия в качестве этих двух участков. Когда поступает в обработку земля третьего разряда по качеству, тотчас начинает давать ренту земля второго разряда. Как и раньше, рента регулируется различием в их производительной силе. В то же время поднимается рента с земли первого разряда, потому что она всегда должна быть выше ренты с земли второго разряда на величину разницы в продукте, который они дают при данном количестве капитала и труда. С каждым приростом населения, который заставляет страну прибегать к земле худшего качества, чтобы иметь возможность увеличить свой запас пищи, будет подниматься рента со всех более плодородных земель. Предположим, что участки N 1, 2 и 3 дают при равных затратах капитала и труда чистый продукт в 100, 90 и 80 квартеров хлеба. В новой стране, где плодородная земля имеется в изобилии сравнительно с населением и где поэтому необходимо возделывать только N 1, весь чистый продукт будет принадлежать земледельцу и составит прибыль на вкладываемый им капитал. Когда население увеличится настолько, что необходимо будет возделывать N 2, с которого, за вычетом содержания рабочих, получается только 90 квартеров, то N 1 начнёт давать ренту. Иначе существовали бы две нормы прибыли на земледельческий капитал или же 10 квартеров (или стоимость 10 квартеров) должны были быть вычтены из продукта N 1 для какой-нибудь иной цели. Возделывал ли землевладелец или же какое-либо другое лицо участок N 1 или нет, эти 10 квартеров всё равно составят ренту, потому что тот, кто обрабатывал N 2, получит одинаковый результат от своего капитала, обрабатывая N 1 и платя 10 квартеров ренты или же обрабатывая попрежнему N 2, не платя никакой ренты. Точно таким же образом можно показать, что, когда приступают к обработке N 3, рента с N 2 должна равняться 10 квартерам, или стоимости 10 квартеров, а рента с N 1 поднимется до 20 квартеров, потому что тот, кто обрабатывал N 3, будет иметь одинаковую прибыль, уплачивает ли он 20 квартеров ренты за N 1, 10 квартеров ренты за N 2 или же возделывает N 3, не платя никакой ренты. Случается часто - в действительности это обычное явление,- что ещё до перехода к обработке N 2, 3, 4 или 5 или худших земель капитал может быть более производительно затрачен на тех участках, которые уже обрабатываются. Может, например, оказаться, что при удвоении первоначального капитала, затраченного на N 1, продукт хотя и не удвоится, не увеличится на 100 квартеров, но всё же возрастёт на 85 квартеров, это количество будет превышать то, которое было бы получено при приложении такого же капитала к земле N 3. В подобных случаях капитал будет предпочтительно прилагаться к старой земле и также доставит ренту, потому что рента всегда является разницей в продукте, полученном посредством приложения двух одинаковых количеств капитала и труда. Если при помощи капитала в 1 тыс. ф. ст. арендатор получает 100 квартеров пшеницы с арендуемой им земли и если, употребив второй капитал в 1 тыс. ф. ст., он получит ещё 85, то владелец земли сможет по истечении срока аренды обязать его платить добавочную ренту в 15 квартеров или эквивалент их стоимости, ибо существование двух различных норм прибыли невозможно. Если арендатор помирится с уменьшением на 15 квартеров дохода со своей второй тысячи, то это потому, что для неё нельзя отыскать более прибыльного помещения. Такова была бы общая норма прибыли, и если бы первый арендатор отказался, то нашёлся бы кто-нибудь другой, согласный отдать весь излишек прибыли сверх этой нормы владельцу земли, с которой он получит его. В этом примере, как и в предыдущем, последний приложенный к земле капитал не даёт никакой ренты. За большую производительную силу первой тысячи фунтов стерлингов платится 15 квартеров в качестве ренты, за приложение второй тысячи фунтов стерлингов не платится никакой ренты. Если к той же земле будет приложена третья тысяча фунтов стерлингов с выручкой в 75 квартеров, то со второй тысячи фунтов стерлингов будет взиматься рента, равная разности между продуктом второй и третьей тысячи, т. е. 10 квартерам, и в то же самое время рента с первой тысячи фунтов стерлингов поднимется с 15 до 25 квартеров; последняя же тысяча не будет вовсе давать никакой ренты. Если бы, следовательно, хорошей земли было гораздо, больше, чем требуется для снабжения пищей растущего населения, или если бы капитал можно было беспредельно прилагать к старой земле без уменьшения выручки, то рента не могла бы повышаться, потому что рента неизменно происходит от того, что приложение добавочного количества труда даёт пропорционально меньший доход. Наиболее плодородная и наиболее удобно расположенная земля поступит в обработку раньше других, и меновая стоимость её продукта будет определяться точно также, как и меновая стоимость всех других товаров, т. е. всем количеством труда, необходимого - в различных его формах от начала до конца процесса производства - для изготовления и доставки продукта на рынок. Когда поступит в обработку земля низшего качества, меновая стоимость сырых материалов повысится, потому что на производство их потребуется больше труда. Меновая стоимость всех товаров - будут ли то промышленные изделия или продукты рудников, или земледельческие продукты - никогда не регулируется наименьшим количеством труда, достаточным для их производства при особо благоприятных условиях, составляющих исключительный удел тех, кто пользуется особенными возможностями. Напротив, она регулируется наибольшим количеством труда, по необходимости затрачиваемым на производство товаров теми, кто не пользуется такими условиями и продолжает производить при самых неблагоприятных условиях; под последними понимаются такие, при каких необходимо вести производство, чтобы было произведено требуемое количество продукта. Так, в благотворительных учреждениях, где бедняки работают на средства благотворителей, общие цены произведённых ими товаров определяются не особенными удобствами, предоставленными этим рабочим, а общими обычными и естественными трудностями, с которыми приходится считаться всякому другому фабриканту. Правда, фабрикант, не пользующийся особыми удобствами, может быть совершенно вытеснен с рынка, если количество товаров, доставляемое рабочими, поставленными в благоприятное положение, будет покрывать весь спрос общества. И если он продолжает свой промысел, то только при том условии, что он будет получать от него обычную и общую норму прибыли на капитал, а это возможно только в том случае, когда он выручает за свой товар цену, соразмерную с количеством труда, затраченным на его производство. <Не забыл ли г-н Сэй в следующем отрывке, что цена в конце концов регулируется издержками производства? "Продукт труда, приложенного к земле, имеет ту особенность, что не дорожает, становясь более редким, потому что одновременно с уменьшением пищи уменьшается и население, и, следовательно, спрос на эти продукты уменьшается вместе с уменьшением предложения. Кроме того, мы не видим, чтобы там, где необработанная земля имеется в изобилии, хлеб был дороже, чем в странах, где возделывается вся земля. В Англии и Франции в средние века земля возделывалась гораздо хуже, чем теперь, и добывалось гораздо меньше сырых материалов; однако, судя по всему, хлеб продавался не дороже сравнительно со стоимостью других вещей. Если продукта добывалось меньше, то и населения было меньше; слабость спроса уравновешивала слабость предложения" (т. II, стр. 338). Убеждённый, что цена товаров регулируется ценой труда, и справедливо полагая, что всякого рода благотворительные учреждения имеют тенденцию увеличивать население свыше цифры, на какой оно иначе стояло бы, и понижать таким образом заработную плату, г-н Сэй говорит: "Я подозреваю, что дешевизна товаров, получаемых из Англии, отчасти обусловлена существованием в этой стране множества благотворительных учреждений" (т. II, стр. 277). Для того, кто утверждает, что заработная плата регулирует цену, это - последовательное заключение>. Правда, на самой лучшей земле тот же продукт будет всё ещё получаться при прежней затрате труда, но стоимость его повысится вследствие того, что те, кто применяет новый труд и капитал на менее плодородной земле, добывают меньше продукта. Конечно, преимущества более плодородных земель перед менее плодородными не утрачиваются ни в каком случае, а только переходят от возделывателя или потребителя к землевладельцу. Однако, раз для обработки худших земель потребовалось бы больше труда и раз мы можем получить необходимое добавочное количество сырых материалов только с последних участков, сравнительная стоимость этих материалов будет держаться постоянно выше прежнего уровня, и они будут обмениваться на большее количество шляп, платья, обуви и пр. и пр., в производстве которых не требуется такого добавочного количества труда. Итак, сравнительная стоимость сырых материалов повышается потому, что на производство последней добытой доли их затрачивается больше труда, а не потому, что землевладельцу уплачивается рента. Стоимость хлеба регулируется количеством труда, затраченного на производство его на земле того качества или с той долей капитала, при которых не платят ренты. Не потому хлеб дорог, что платится рента, а рента платится потому, что хлеб дорог. Справедливо поэтому было замечено, что цена хлеба нисколько не понизилась бы, если бы даже землевладельцы отказались от всей своей ренты. Такая мера только позволила бы некоторым фермерам жить по-барски, но не уменьшила бы количества труда, необходимого для получения сырых материалов с наименее производительной земли, находящейся под обработкой. Нам часто говорят о преимуществах земли перед всеми другими источниками полезных продуктов ввиду того избытка, который она даёт в форме ренты. Но, когда земля имеется в особенном изобилии, когда она наиболее производительна и наиболее плодородна, она не даёт вовсе ренты, и только тогда, когда её производительная сила падает и труд на ней приносит меньше, часть первоначального продукта более плодородных участков обособляется в качестве ренты. Замечательно, что особенным преимуществом земли выставляется как раз то свойство её, которое должно было бы считаться её недостатком сравнительно с естественными факторами, которыми пользуются фабриканты. Если бы воздух, вода, упругость пара и давление атмосферы были неоднородны по своим качествам, если бы они могли быть обращены в собственность и каждый разряд имелся бы только в ограниченном количестве, то и они, подобно земле, давали бы ренту по мере использования низших разрядов. С каждым переходом к низшему разряду стоимость товаров в той отрасли, где он применяется, повышалась бы потому, что то же самое количество труда давало бы менее продукта. Человек трудился бы больше в поте лица своего, природа выполняла бы меньше, и земля не славилась бы больше ограниченностью своей производительной силы. Если прибавочный продукт, который земля даёт в форме ренты, есть преимущество, то желательно, чтобы с каждым годом вновь сооружённые машины были менее производительны, чем старые. Ведь это, несомненно, сообщило бы большую меновую стоимость товарам, производимым не только с помощью этих машин, но и всех других машин в стране, и всем владельцам более производительных машин платилась бы рента. <"Помимо того, в сельском хозяйстве,- говорит Адам Смит,- природа также работает вместе с человеком; и, хотя её работа не требует никаких издержек, её продукт обладает своей стоимостью точно так же, как и продукт наиболее дорого стоящих рабочих". Труд природы оплачивается не потому, что она делает много, а потому, что она делает мало. Чем скупее становится она на свои дары, тем большую цену она требует за свою работу. Там, где она щедро расточает свои дары, она всегда работает даром. "Поэтому рабочие и рабочий скот, занятые в сельском хозяйстве, воспроизводят не только стоимость, равную стоимости их потребления или стоимости капитала, дающего им занятие, вместе с прибылью его владельца, как это мы видели у мануфактурных рабочих, но и гораздо большую стоимость. Сверх капитала фермера и всей его прибыли они регулярно воспроизводят ренту землевладельца. Эту ренту можно рассматривать как продукт тех сил природы, пользование которыми землевладелец предоставляет фермеру. Она выше или ниже в зависимости от предполагаемой величины этих сил или, другими словами, от предполагаемого естественного или искусственно созданного плодородия земли. Ведь после вычета или оплаты всего того, что можно признать делом рук человеческих, остаётся только продукт деятельности самой природы. Этот остаток редко бывает меньше четвёртой части, а часто превышает третью часть всего продукта. Такое же количество производительного труда, затраченного в мануфактурах, никогда не даст такого большого воспроизводства. В мануфактурах природа не делает ничего, - всё делается человеком, и полученный продукт всегда должен быть пропорционален размерам действующих сил, создающих его. Таким образом, капитал, вкладываемый в земледелие, не только приводит в движение большее количество производительного труда, чем таких же размеров капитал, вложенный в мануфактуру, но и добавляет, в отношении к количеству применяемого им производительного труда, гораздо большую стоимость к годовому продукту земли и труда страны, действительному богатству и доходу её жителей. Это самый выгодный для общества из всех существующих способов приложения капитала". (Адам Смит, Исследоваяие о природе и причинах богатства народов, т. I, стр. 307-308.) Разве природа не делает ничего для человека в обрабатывающей промышленности? Разве силы ветра и воды, которые приводят в движение наши машины и корабли, равняются нулю? Разве давление атмосферы и упругость пара, которые позволяют нам приводить в движение самые изумительные машины,-не дары природы? Я уже не говорю о действии тепла при размягчении и плавлении металлов, о действии атмосферы в процессах окрашивания и брожения. Нельзя назвать ни одной отрасли промышленности, в которой природа не оказывала бы помощи человеку, и притом помощи щедрой и даровой. Комментируя приведённый мною отрывок из Адама Смита, г-н Бьюкенен замечает: "Я старался показать в замечаниях о производительном и непроизводительном труде, содержащихся в четвёртом томе, что земледелие прибавляет к национальному богатству не больше, чем всякая иная отрасль производства. Настаивая на том, что воспроизведение ренты есть весьма большая выгода для общества, д-р Смит забывает, что рента есть результат высоких цен и что то, что землевладелец получает таким путём, он получает за счёт всего общества. Общество ничего не выигрывает от воспроизводства ренты; всё дело сводится к тому, что один класс получает выгоды за счёт другого. Представление, что земледелие даёт продукт и - как его последствие - ренту потому, что в процессе земледелия природа участвует наравне с человеческим трудом, - просто фантазия. Рента берётся не из продукта, а является результатом цены, за которую этот продукт продаётся. А эта цена выручается не потому, что природа помогает производству, а потому, что как раз цена приспособляет потребление к предложению">. Повышение ренты всегда является результатом роста богатства страны и трудности снабжения пищей её возросшего населения. Это симптом, но отнюдь не причина богатства, потому что богатство часто возрастает всего быстрее, когда рента остаётся неподвижной или даже падает. Рента увеличивается всего быстрее, когда уменьшаются производительные силы земли, имеющейся в нашем распоряжении. Богатство всего быстрее возрастает в тех странах, где имеющаяся в нашем распоряжении земля всего плодороднее, где ввоз наименее ограничен и где благодаря усовершенствованиям в земледелии количество продуктов может быть умножено без соответствующего увеличения количества труда и где, следовательно, рента растёт медленно. Если бы высокая цена хлеба была следствием, а не причиной ренты, то цена его изменялась бы пропорционально повышению или понижению ренты и рента была бы составной частью цены. Но так как регулятором цены хлеба является хлеб, производящийся при наибольшей затрате труда, то и рента не входит и не может ни в малейшей степени входить в качестве составной части в его цену <Ясное понимание этого принципа имеет, по моему убеждению, величайшую важность для науки политической экономии. [Это примечание сделано только во втором издании.]>. Адам Смит поэтому безусловно ошибается, предполагая, что первоначальное правило, регулировавшее меновую стоимость товаров, - а именно сравнительное количество труда, которым они произведены, - может вообще быть изменено вследствие обращения земли в частную собственность и уплаты ренты. Сырой материал входит в состав большинства товаров, но стоимость его, так же как и стоимость хлеба, регулируется производительностью той доли капитала, которая, будучи приложена к земле последней, не платит никакой ренты. Поэтому рента не есть составная часть цены товаров. До сих пор мы исследовали влияние естественного развития богатства и населения на ренту в стране, в которой земля имеет различную производительность, и мы видели, что каждый раз, когда становится необходимым прилагать добавочный капитал к земле, дающей меньшее количество продукта, рента повышается. Из тех же самых положений следует, что все те условия жизни общества, которые делают ненужным приложение прежнего количества капитала к земле и которые поэтому делают последнюю приложенную долю его более производительной, будут понижать ренту. Всякое значительное уменьшение капитала страны, которое существенно уменьшило бы фонд, предназначенный для содержания труда, естественно, будет иметь такое действие. Население регулируется фондом, назначенным на доставление ему занятий, и, следовательно, всегда увеличивается пли уменьшается с увеличением или уменьшением капитала. Поэтому за всяким уменьшением капитала необходимо следуют уменьшение платёжеспособного спроса на хлеб, падение цен и сокращение обрабатываемой площади. Уменьшение капитала будет понижать ренту в порядке, обратном тому, в каком накопление капитала повышает её. Будут последовательно покидать земли менее производительные, меновая стоимость продукта будет падать, пока под обработкой останется только земля высшего качества, которая тогда уже не будет приносить ренты. Однако такие же результаты может дать увеличение богатства и населения страны, если оно будет сопровождаться столь значительными усовершенствованиями в земледелии, что необходимость возделывать более плохие земли уменьшится или то же количество капитала будет затрачиваться на возделывание плодородных участков. Если на прокормление данного населения нужен миллион квартеров хлеба, который получается с участков N 1, 2 и 3, если в дальнейшем будет введено усовершенствование, благодаря которому он может быть получен с N 1 и 2, не прибегая к N 3, то очевидно, что непосредственным результатом этого должно быть падение ренты, потому что тогда без уплаты ренты будет возделываться N 2 вместо N 3, и рента с N 1, вместо того чтобы равняться разности в продукте N 3 и N 1, будет равняться только разности между продуктами N2 и N1. Раз население не увеличилось, то спроса на какое-либо добавочное количество хлеба не может быть; капитал и труд, прежде затрачиваемые на N 3, будут употреблены на производство других товаров, в которых нуждается общество; но это повлекло бы за собой повышение ренты только в том случае, если сырой материал, из которого они делаются, не мог бы быть получен без менее производительного приложения капитала к земле, ибо тогда снова должен обрабатываться N 3. Несомненно, что падение относительной цены сырья вследствие улучшений в земледелии или, вернее, вследствие того что меньше труда будет затрачиваться на его производство, приведёт, естественно, к увеличению накопления, так как прибыль на капитал значительно увеличится. Это накопление приведёт к увеличению спроса на труд, повышению заработной платы, увеличению населения, дальнейшему спросу на сырьё и расширению обрабатываемой площади. Однако рента достигнет своей прежней высоты лишь после увеличения населения, т. е. после того, как пойдёт под обработку N 3. До этого пройдёт значительный период, связанный с положительным уменьшением ренты. Но земледельческие улучшения бывают двух родов: одни увеличивают производительные силы земли, другие позволяют нам путём усовершенствования наших машин получать её продукты с помощью меньшего труда. И те и другие ведут к падению цены сырых продуктов; и те и другие оказывают влияние на ренту, но не в одинаковой степени. Если бы они не вызывали падения цены сырых продуктов, они не были бы улучшениями, потому что существенное свойство улучшения - уменьшать количество труда, требовавшегося прежде для производства товара, а такое уменьшение не может иметь места, не вызывая падения его цены или относительной стоимости. К улучшениям, увеличивающим производительные силы земли, относятся более рациональный севооборот или лучшее удобрение. Эти улучшения безусловно позволят нам получать тот же продукт с меньшей площади земли. Если, введя в севооборот турнепс, я могу получать помимо хлеба ещё и корм для своих овец, то земля, на которой паслись раньше овцы, становится ненужной, и то же самое количество сырого продукта будет получено с меньшей площади земли. Если я открою удобрение, которое позволит мне повысить урожай хлеба на данной площади на 20%, то я могу извлечь по крайней мере ту долю своего капитала, которую я затрачивал на самую непроизводительную часть моей фермы. Но, как я уже заметил раньше, нет необходимости оставлять землю без обработки, чтобы рента понизилась. Для этого достаточно, чтобы из последовательных долей капитала, прилагаемых к одной и той же земле с неодинаковыми результатами, была извлечена обратно та, которая даёт наименьший результат. Если, введя в севооборот турнепс или же пользуясь более укрепляющим удобрением, я могу получить тот же продукт, затратив меньший капитал и не нарушая разницы между производительностью последовательных долей капитала, то я понижу ренту, потому что теперь норма, положенная в основу расчёта, будет определяться иной, более производительной долей капитала. Если бы, например, последовательные доли капитала давали 100, 90, 80, 70, то, пока я затрачивал бы эти четыре доли, моя рента равнялась бы 60, или сумме разностей между
Пока я затрачиваю эти доли, рента останется прежней, даже если бы продукт каждой доли дал одинаковое увеличение. Если от 100, 90, 80, 70 продукт возрастёт до 125, 115, 105, 95, то рента всё же будет равна 60, или сумме разностей между
Но при таком возрастании продукта без возрастания спроса <Надеюсь, меня не поймут в том смысле, что я недооцениваю важности всякого рода улучшений в земледелии для землевладельцев, - их непосредственное действие состоит в понижении ренты, но так как они дают большой толчок размножению населения и в то же время позволяют нам возделывать худшие земли с меньшим трудом, то в конце концов они приносят громадные выгоды землевладельцам. Однако должен пройти известный период, в течение которого они приносят им положительный ущерб. [Это примечание сделано только в третьем издании.]> не было бы побуждения прилагать такой большой капитал к земле; одна доля его была бы извлечена, и, следовательно, последней долей была бы та, которая даёт 105, а не 95; тогда рента упала бы до 30, т. е. до суммы разностей между
в то время как спрос равнялся бы только 340 квартерам. Но есть улучшения, которые могут понизить относительную стоимость продукта, не понижая хлебной ренты, хотя они и понижают денежную земельную ренту. Они не увеличивают производительных сил земли, но позволяют нам получать продукт с помощью меньшего количества труда. Такие улучшения относятся скорее к капиталу, прилагаемому к земле, чем к обработке самой земли. Такой характер носят улучшения в земледельческих орудиях, как плуг и молотилка, экономия в использовании лошадей в сельском хозяйстве, лучшее знакомство с ветеринарным искусством. К земле благодаря им прилагается меньше капитала, или - что то же - меньше труда, но для получения того же продукта нужно возделывать не меньшее количество земли. Отразятся ли, однако, улучшения этого рода на ренте, выраженной в хлебе, будет зависеть от того, возрастает ли, остаётся ли без перемены или же уменьшается разница в продукте, получаемом от применения различных долей капитала. Если к земле прилагаются четыре доли капитала - 50, 60, 70 и 80, дающие все одинаковые результаты, и если какое-нибудь улучшение в составе такого капитала позволит мне уменьшить каждую из них на 5, так что они будут составлять теперь 45, 55, 65 и 75, то в хлебной ренте не произойдёт никакого изменения. Но если улучшения были таковы, что позволили мне сберечь только ту долю капитала, которая прилагается наименее производительно, то хлебная рента непосредственно упадёт, потому что уменьшится разница между капиталом наиболее производительным и капиталом наименее производительным, а эта-то разница и составляет ренту. Я не буду увеличивать числа примеров. Надеюсь, я уже достаточно показал, что всё, что уменьшает разницу в продукте, получаемом от последовательных долей капитала, прилагаемых к той же или к новой земле, имеет тенденцию понижать ренту, а всё, что увеличивает эту разницу, необходимо производит противоположное действие и имеет тенденцию повышать её. Говоря о ренте землевладельца, мы рассматривали её скорее как долю продукта, полученного с помощью данного капитала на данной ферме, и вовсе не касались её меновой стоимости; но так как та же причина - трудность производства - повышает и меновую стоимость сырья и долю сырого продукта, уплачиваемую землевладельцу в качестве ренты, то очевидно, что увеличение трудности производства даёт землевладельцу двойную выгоду. Во-первых, он получает более значительную долю и, во-вторых, товар, которым она ему уплачивается, имеет более значительную стоимость. <Чтобы сделать это очевидным и показать, в какой степени будут изменяться хлебная и денежная ренты, предположим, что труд 10 рабочих на земле известного качества даёт 180 квартеров пшеницы стоимостью в 4 ф. ст. квартер, или 720 ф. ст., и что труд 10 добавочных рабочих на той же или другой земле произведёт только 170 квартеров добавочного продукта. Цена пшеницы поднимается тогда с 4 ф. ст. до 4 ф. ст. 4 шилл. 8 пенс., так как 170 : 180 = 4 ф. ст.: 4 ф. ст. 4 шилл. 8 пенс.; или, поскольку для производства 170 квартеров в одном случае нужен труд 10 рабочих, а в другом - только 9,44, то повышение произойдёт в отношении 9,44 : 10, или 4 ф. ст. : 4 ф. ст. 4 шилл. 8 пенс. Если будет занято ещё 10 рабочих и продукт будет равняться 160, то цена повысится до 4 ф. ст. 10 шилл. Так вот, если не платилось никакой ренты за землю, которая давала 180 квартеров при цене квартера хлеба в 4 ф. ст., то, раз земля даёт только 170, в виде ренты будет уплачиваться стоимость 10 квартеров, что при цене квартера в 4 ф. ст. 4 шилл. 8 пенс. составит 42 ф. ст. 7 шилл. 6 пенс. Рента будет равна: 20 квартерам, когда их производится 160, что при цене в 4 ф. ст. 10 шилл. составит 90 ф. ст. 30 квартерам, когда их производится 150, что при цене в 4 ф. ст. 16 шилл. составит 144 ф. ст. 40 квартерам, когда их производится 140, что при цене в 5 ф. ст. 2 шилл. 10 пенс. составит 205 ф. ст. 13 шилл. 4 пенса.
Глава 3. О ренте с рудников
Металлы, как и все другие предметы, добываются трудом. Правда, производит их природа, но извлекает их из недр земли и приспособляет к нашим нуждам труд человека. Рудники, как и земля, обыкновенно дают их владельцу ренту, и эта рента, подобно земельной ренте, есть следствие, а никак не причина высокой стоимости их продукта. Если бы имелись в изобилии одинаково богатые рудники, которыми каждый мог бы завладеть, они не могли бы давать никакой ренты; стоимость их продукта зависела бы от количества труда, необходимого для извлечения металла из земли и доставки его на рынок. Но рудники бывают разного качества, и затрата на их разработку одинаковых количеств труда даёт весьма неодинаковые результаты. Металл, добываемый из самого бедного рудника, находящегося в разработке, должен по меньшей мере иметь такую меновую стоимость, которая покрыла бы не только все издержки по снабжению платьем, пищей и другими предметами жизненной необходимости всех, занятых его добыванием и доставкой на рынок, но, кроме того, давала бы обычную установившуюся прибыль тому, кто вкладывает капитал, необходимый для ведения предприятия. Доход, доставляемый беднейшим рудником, не платящим никакой ренты, будет регулировать ренту всех других более производительных рудников. Предполагается, что этот рудник даёт обычную прибыль на капитал. Всё, что другие рудники дают сверх неё, будет, разумеется, уплачиваться их владельцам в качестве ренты. Так как принцип этот совершенно одинаков с тем, который мы уже установили относительно земли, то нет надобности дальше распространяться о нём. Достаточно будет заметить, что общее правило, регулирующее стоимость сырья и промышленных товаров, применимо и к металлам; их стоимость зависит не от нормы прибыли, не от нормы заработной платы и не от ренты, уплачиваемой за рудник, а от всего количества труда, необходимого для получения металла и для доставки его на рынок. Стоимость металлов, как и всякого другого товара, подвержена изменениям. В орудиях и машинах, используемых в горном деле, могут быть сделаны усовершенствования, значительно сокращающие труд; могут быть открыты новые и более производительные рудники, из которых при том же количестве труда можно добыть больше металла; может облегчиться также доставка продукта на рынок. В каждом из этих случаев стоимость металлов упадет, и они поэтому будут обмениваться на меньшее количество других предметов. С другой стороны, если возрастает трудность добывания металла, - вследствие литого, что металл приходится добывать из большей глубины, или необходимости выкачивать из рудников воду, или по какой-либо другой причине, - стоимость его может значительно увеличиться сравнительно со стоимостью других вещей. Справедливо было поэтому замечено, что, как бы верно ни соответствовала монета данной страны установленному стандарту, стоимость золотых и серебряных денег всё же подвержена наравне с другими товарами не только случайным и временным колебаниям, но и постоянным и естественным изменениям. Открытие Америки с её многочисленными богатыми рудниками очень сильно повлияло на естественную цену драгоценных металлов. Многие предполагают, что действие его ещё и до сих пор не кончилось. Однако влияние, произведённое открытием Америки на стоимость металлов, вероятно, давно прекратилось, и если в последние годы в их стоимости произошло какое-либо падение, то его следует приписать улучшенным способам разработки рудников. Но действие это, от какой бы причины оно ни происходило, было медленно и постепенно; мы поэтому испытываем очень мало практических неудобств оттого, что общей мерой, в которой исчисляется стоимость всех других вещей, служат золото и серебро. Хотя и они, несомненно, представляют изменчивую меру стоимости, но нет, вероятно, ни одного товара, подверженного меньшим изменениям. Это и другие преимущества, которыми обладают драгоценные металлы, как-то: их твёрдость, ковкость, делимость и многие другие, по праву обеспечили за ними повсюду предпочтительное употребление в качестве денежных материалов цивилизованных стран. [Если бы с помощью равных количеств труда, при равных количествах основного капитала, всегда добывались из рудника, не платящего никакой ренты, равные количеств а золота, оно представляло бы наиболее неизменную меру стоимости, какую мы могли бы иметь по природе вещей.] <В первом и втором изданиях вместо указанного текста приводится другой: "Признав все несовершенства, которые свойственны золотым и серебряным деньгам как мере стоимости в зависимости от большего или меньшего количества труда, которое при изменяющихся условиях может быть необходимо для добывания этих металлов, мы считаем себя вправе сделать предположение, что все эти несовершенства были устранены и что одинаковые количества труда могут всегда добыть из рудника, не платившего ренты, одинаковые количества золота. Золото было бы тогда неизменной мерой стоимости"> Правда, количество золота увеличилось бы вместе со спросом, но стоимость его была бы неизменна, и оно превосходнейшим образом служило бы для измерения изменений в стоимости всех других вещей. В предыдущей части этого труда я уже допустил, что золото одарено таким постоянством, и я буду держаться этого предположения и в следующей главе. Итак, говоря об изменении цен, мы всегда будем считать, что изменение происходит в товаре, а не в мере, которой измеряется его стоимость. Глава 4. О естественной и рыночной цене.
Но если мы принимаем труд за основу стоимости товаров, а сравнительное количество труда, необходимого для их производства, за регулятор, определяющий соответственные количества товаров, которые должны обмениваться друг на друга, то из этого ещё не следует, что мы отрицаем случайные и временные отклонения действительной или рыночной цены товаров от этой их первичной и естественной цены. При обычных условиях нет ни одного товара, который в течение сколько-нибудь долгого времени всегда поставлялся бы как раз в том количестве, какого требуют нужды и желания людей. Нет поэтому ни одного товара, цена которого не подвергалась бы случайным и временным изменениям. Только вследствие таких изменений на производство различных товаров, на которые существует спрос, и уделяется ровно столько капитала, сколько требуется, а не больше. С повышением или падением цен прибыль поднимается выше или опускается ниже общего уровня, и прилив и отлив капитала к известной отрасли промышленности, в которой произошло такое изменение, то поощряется, то задерживается. Если каждый волен употреблять свой капитал, как ему угодно, то он, конечно, будет искать для него наиболее выгодного применения; он, естественно, не будет удовлетворён прибылью в 10 %, если, вложив свой капитал в другое дело, он может получить прибыль в 15%. Это неугомонное стремление всех капиталистов оставлять менее прибыльное дело для более прибыльного создаёт сильную тенденцию приводить прибыль всех к одной норме или устанавливать между ними такую пропорцию, какая по расчёту заинтересованных сторон уравновешивает действительные или кажущиеся преимущества одних перед другими. Может быть, очень трудно проследить последовательные фазы этого процесса. Для его осуществления, вероятно, вовсе и не требуется, чтобы фабрикант совершенно менял своё дело. Достаточно, чтобы он только уменьшил количество капитала, вложенного в него. Во всех богатых странах есть известное число людей, составляющих так называемый денежный класс. Эти люди сами не связаны с какой-либо отраслью промышленности, но живут на проценты со своих денег, употребляя их на учёт векселей или на ссуды их более предприимчивой части общества. Банкиры также употребляют большой капитал на подобного рода операции. Капитал, употребляемый таким образом, составляет оборотный капитал значительного размера, и им пользуются в большей или меньшей пропорции все различные отрасли промышленности страны. Нет, пожалуй, фабриканта, который, как бы богат он ни был, ограничивал бы своё дело теми размерами, какие допускают одни его собственные средства. У него всегда находится некоторая доля этого текучего капитала, которая возрастает или уменьшается в соответствии с интенсивностью спроса на его товары. Когда увеличивается спрос на шёлк и уменьшается спрос на сукно, суконщик не переводит своего капитала в шёлковую промышленность, а рассчитывает часть своих рабочих и сокращает свой спрос на займы у банкиров и денежных людей. С фабрикантом шёлка дело обстоит обратно: он хочет иметь больше рабочих, и потому его стремление к займам возрастает; он занимает больше, и капитал, таким образом, перемещается из одной отрасли в другую без необходимости для фабриканта прекращать своё обычное дело. Когда мы посмотрим на рынки большого города, мы увидим, как регулярно снабжаются они отечественными и иностранными товарами в требуемом количестве при всех условиях меняющегося спроса, зависящего от прихотей вкуса или изменения в величине населения, и как редко происходит переполнение от слишком изобильного предложения или возникает непомерная дороговизна от несоответствия между спросом и предложением, и мы должны будем признать, что принцип, регулирующий распределение капитала между всеми отраслями промышленности в требуемых размерах, проявляет своё действие гораздо сильнее, чем это обыкновенно полагают. Капиталист, ищущий прибыльного применения для своих средств, естественно, будет принимать в соображение все преимущества одного занятия перед другим. Поэтому он может поступиться частью своей денежной прибыли ради верности помещения, опрятности, лёгкости или какой-либо другой действительной или воображаемой выгоды, которыми одно занятие отличается от другого. Если, принимая во внимание все эти обстоятельства, прибыль на капитал установилась так, что в одной отрасли она составляет 20, в другой - 25, в третьей - 30%, то, вероятно, такая относительная разница между ними, и только эта разница будет сохраняться всё время. Ибо если в силу какой-нибудь причины прибыль в одной из этих отраслей повысилась бы на 10 %, то или это увеличение было бы временным и прибыль скоро вернулась бы к своей обычной норме, или же прибыль в прочих отраслях повысилась бы в той же пропорции. [Настоящее время является, повидимому, одним из исключений по отношению к правильности этого замечания. Окончание войны настолько нарушило прежде существовавшее разделение занятий в Европе, что не каждый ещё капиталист отыскал своё место при новом разделении, ставшем теперь необходимым.] <Этот абзац имеется только в третьем издании. - Прим. ред.> Предположим, что все товары продаются по своей естественной цене и что, следовательно, нормы прибыли на капитал во всех занятиях одинаковы или же различаются лишь постольку, поскольку разница, по мнению заинтересованных сторон, компенсируется какой-либо действительной или воображаемой выгодой, которой они обладают или от которой отказываются. Предположим теперь, что перемена моды увеличит спрос на шёлковые и уменьшит спрос на шерстяные изделия; их естественная цена, количество труда, необходимого для их производства, останутся без изменения, но рыночная цена шёлковых изделий поднимется, а шерстяных - упадёт. Вследствие этого прибыль фабриканта шёлка будет выше, а фабриканта шерсти - ниже общей и сложившейся нормы. Это отразится не только на прибыли, но и на заработной плате рабочих в этих отраслях. Однако этот возросший спрос на шёлковые изделия скоро будет покрыт предложением благодаря перемещению капитала и труда из шерстяного производства в шёлковое; тогда рыночные цены шёлковых и шерстяных изделий снова приблизятся к их естественным ценам, и фабриканты этих товаров будут получать каждый свою обычную прибыль. Таким образом, стремление каждого капиталиста извлекать свои фонды из менее прибыльного и помещать в более прибыльное дело не позволяет рыночной цене товаров надолго оставаться или много выше, или много ниже их естественной цены. Именно конкуренция устанавливает меновую стоимость товаров на таком уровне, при котором после выдачи заработной платы за труд, необходимый для их производства, и покрытия всех прочих расходов, требующихся для того, чтобы применяемый капитал сохранял состояние своей первоначальной пригодности, остаток стоимости, или избыток её, будет в каждой отрасли пропорционален стоимости затраченного капитала. В седьмой главе "Богатства народов" <См. Адам Смит, Исследование о природе и причинах богатства народов, т. I, кн. I, гл. VII "О естественной и рыночной цене товаров". - Прим. ред.> весь этот вопрос прекрасно исследован. Мы вполне признаём временное влияние, которое случайные причины могут оказывать на цены товаров, а также на заработную плату и прибыль на капитал в отдельных отраслях промышленности. Но так как это влияние не затрагивает общего уровня цен товаров, заработной платы или прибыли и одинаково действует на всех стадиях общественного развития, то мы совершенно не будем принимать его во внимание при изучении законов, управляющих естественными ценами, естественной заработной платой и естественной прибылью - явлениями, совершенно не зависящими от этих случайных причин. Итак, говоря о меновой стоимости или покупательной силе того или другого товара, я всегда разумею ту покупательную силу, которой он обладал бы, если бы она не нарушалась временными или случайными причинами, и которая представляет его естественную цену. Глава 5. О заработной плате
Как и все другие предметы, которые покупаются и продаются и количество которых может увеличиваться или уменьшаться, труд имеет свою естественную и свою рыночную цену. Естественной ценой труда является та, которая необходима, чтобы рабочие имели возможность существовать и продолжать свой род без увеличения или уменьшения их числа. Способность рабочего содержать себя и семью так, чтобы число рабочих не уменьшалось, зависит не от количества денег, которое он получает в виде заработной платы, а от количества пищи, предметов жизненной необходимости и комфорта, ставшего для него насущным в силу привычки, которые можно купить за эти деньги. Поэтому естественная цена труда зависит от цены пищи, предметов насущной необходимости и удобств, требующихся для содержания рабочего и его семьи. С повышением цены пищи и предметов жизненной необходимости естественная цена труда поднимется, с падением их цены - упадёт. С прогрессом общества естественная цена труда всегда имеет тенденцию повышаться, потому что один из главных товаров, которым регулируется его естественная цена, имеет тенденцию становиться дороже, в зависимости от возрастающей трудности его производства. Однако, поскольку усовершенствования в земледелии и открытие новых рынков, откуда можно получать жизненные припасы, могут временно ослаблять тенденцию к повышению цены предметов насущной необходимости и даже вызвать падение их естественной цены, эти же самые причины будут оказывать соответствующее действие и на естественную цену труда. Естественная цена всех товаров, кроме сырья и труда, имеет тенденцию падать с прогрессом богатства и населения. Ибо, хотя, с одной стороны, их действительная стоимость повышается вследствие повышения естественной цены сырого материала, из которого они сделаны, с другой - это повышение более чем уравновешивается усовершенствованиями в машинах, лучшим разделением и распределением труда и мастерством производителей, растущим вместе с прогрессом науки и техники. Рыночная цена труда есть та цена, которая действительно платится за него в силу естественного действия отношения между предложением и спросом: труд дорог, когда он редок, и дёшев, когда имеется в изобилии. Но как бы рыночная цена труда ни отклонялась от естественной цены его, она подобно цене товаров имеет тенденцию сообразоваться с нею. Когда рыночная цена труда превышает его естественную цену, рабочий достигает цветущего и счастливого положения, он располагает большим количеством предметов необходимости и жизненных удобств и может поэтому вскормить здоровое и многочисленное потомство. Но когда вследствие поощрения к размножению, которое даёт высокая заработная плата, число рабочих возрастает, заработная плата опять падает до своей естественной цены. Она может даже иногда в силу реакции упасть ниже последней. Когда рыночная цена труда ниже его естественной цены, положение рабочих в высшей степени печально: бедность лишает их тогда тех предметов комфорта, которые привычка делает абсолютно необходимыми. Лишь после того, как лишения сократят их число или спрос на труд увеличится, рыночная цена труда поднимается до его естественной цены, и рабочий будет пользоваться умеренным комфортом, который доставляет ему естественная норма заработной платы. Несмотря на тенденцию заработной платы сообразоваться с её естественной нормой, рыночная норма заработной платы может быть в прогрессирующем обществе выше естественной в течение неопределённого периода: едва только скажется действие импульса, который увеличение капитала даёт новому спросу на труд, дальнейшее увеличение капитала может произвести такое же действие. Таким образом, если капитал будет постепенно и постоянно расти, то спрос на труд может давать непрерывный стимул к росту населения. Капитал есть та часть богатства страны, которая употребляется в производстве и состоит из пищи, одежды, инструментов, сырых материалов, машин и пр., необходимых, чтобы привести в движение труд. Количество капитала может возрастать одновременно с повышением его стоимости. Может увеличиться количество пищи и одежды в стране, в то самое время как для производства добавочного количества их требуется больше труда, чем прежде; в таком случае увеличится не только количество капитала, но и его стоимость. Или же количество капитала может возрастать без увеличения его стоимости или даже при фактическом уменьшении её; может даже увеличиться количество пищи и одежды в стране, но благодаря машинам это добавочное количество может быть получено без всякого увеличения и даже при абсолютном уменьшении соответственного количества труда, необходимого для его производства. Количество капитала может возрасти, и в то же время стоимость его в целом или отдельных его частей не станет большей, чем прежде [или даже фактически уменьшится] <Вставка во втором и третьем изданиях. - Прим. ред.>. В первом случае естественная цена [труда] <В первом издании - "заработной платы". - Прим. ред.>, которая всегда зависит от цены пищи, одежды и других предметов насущной необходимости, повысится, во втором-она или останется без изменения, или упадёт, но в обоих случаях рыночная норма заработной платы повысится, потому что пропорционально возрастанию капитала возрастёт и спрос на труд. Пропорционально работе, которую надо выполнить, будет расти и спрос на тех, кто должен выполнять её. Сверх того в обоих случаях рыночная цена труда поднимется выше его естественной цены, и в обоих случаях она будет иметь тенденцию сообразоваться с его естественной ценой, но в особенности быстро это приспособление совершится в первом случае. Положение рабочего улучшится, но не намного, потому что возросшая цена пищи и предметов жизненной необходимости поглотит значительную долю его возросшей заработной платы. Поэтому небольшое предложение труда или незначительное увеличение населения скоро сведёт рыночную цену труда к его естественной цене, которая в этом случае возрастает. Во втором случае положение рабочего улучшится весьма значительно; он будет получать увеличенную денежную плату, не будучи вынужден платить повышенную цену за товары, которые потребляют он и его семья, а, пожалуй, будет даже платить за них меньшую цену. И только после того, как население значительно увеличится, рыночная цена [труда] <То же. - Прим. ред.> опять будет сведена к [его] <В первом издании - "их". - Прим. ред.> естественной низкой цене, которая в этом случае уменьшается. Таким образом, с поступательным движением общества, с каждым возрастанием его капитала рыночная заработная плата будет повышаться, но длительность этого повышения будет зависеть от того, повысилась ли также и естественная цена [труда] <В первом издании - "заработной платы". - Прим. ред.>. А это опять-таки будет зависеть от повышения естественной цены тех предметов жизненной необходимости, на которые расходуется заработная плата труда. Не следует думать, что естественная цена [труда] <То же. - Прим. ред.>, даже поскольку она измеряется в пище и предметах насущной необходимости, абсолютно неподвижна и постоянна. Она изменяется в разные времена в одной и той же стране и очень существенно различается в разных странах <"Жилище и одежда, необходимые в одной стране, могут быть вовсе не нужны в другой. В Индостане рабочий может постоянно работать и сохранять всю свою работоспособность, получая в качестве естественной заработной платы такие жилища и одежду, каких в России было бы недостаточно для предохранения рабочего от гибели. Даже в странах с одинаковым климатом различия в образе жизни часто вызывают различия в естественной цене труда, столь же значительные, как и различия, вызванные естественными причинами". ("An Essay on the External Corn Trade" by R. Torrens, London, Hatchard 1815, p. 68.) Вся проблема весьма умело освещена полковником Торренсом. [Это примечание сделано только во втором и третьем изданиях.]>. Она зависит главным образом от нравов и обычаев народа. Английский рабочий считал бы, что его заработная плата стоит ниже её естественной нормы и слишком скудна для содержания семьи, если она не позволяет ему покупать иной пищи, кроме картофеля, и жить в лучшем жилище, чем мазанка, но эти скромные естественные потребности часто считаются достаточными в странах, где "жизнь человека дешева" и его нужды легко удовлетворяются. Многие из удобств, которые теперь имеются в английском коттедже, считались бы роскошью в более ранний период нашей истории. Вместе с развитием общества цена промышленных товаров постоянно падает, а сырого продукта - постоянно повышается; в конце концов создаётся такое несоответствие между относительной стоимостью этих товаров, что в богатых странах рабочий, пожертвовав лишь небольшим количеством своей пищи, может с избытком покрыть все свои прочие нужды. Независимо от изменений в стоимости денег, которые необходимо отражаются на [денежной] <Вставка в третьем издании. - Прим. ред.> заработной плате, но на действие которых мы до сих пор не обращали внимания, так как принимали, что деньги постоянно имеют одинаковую стоимость, заработная плата, [повидимому] <Вставка во втором и третьем изданиях. - Прим. ред.>, подвержена повышению или падению в силу двух причин: 1) предложения и спроса на рабочие руки; 2) цены товаров, на которые расходуется заработная плата. На разных стадиях общественного развития накопление капитала, или средств применения труда, идёт с большей или меньшей быстротой и должно во всех случаях зависеть от производительных сил труда. Производительные силы труда, как правило, выше всего тогда, когда имеется в изобилии плодородная земля: в такие периоды накопление часто идёт так быстро, что рост предложения рабочих отстаёт от роста предложения капитала. Было вычислено, что при благоприятных условиях население может удвоиться в 25 лет, но при таких же благоприятных условиях весь капитал страны может, пожалуй, удвоиться в более короткий период. В таком случае заработная плата в течение всего этого периода будет иметь тенденцию повышаться, потому что спрос на труд будет возрастать ещё быстрее, чем предложение. В новых поселениях, в которых вводятся ремёсла и знания более цивилизованных стран, капитал, вероятно, имеет тенденцию возрастать быстрее, чем размножаются люди. И если недобор рабочих не будет покрыт приливом их из более населённых стран, то эта тенденция будет сильно повышать цену труда. По мере того как такие страны заселяются и поступает в обработку земля худшего качества, тенденция капитала к возрастанию уменьшается; это объясняется тем, что избыточный продукт, остающийся после покрытия нужд существующего населения, должен быть по необходимости пропорционален лёгкости производства, т. е. меньшему числу лиц, занятых в производстве. Следовательно, хотя при самых благоприятных обстоятельствах возможность роста производительных сил, вероятно, превосходит способность населения к размножению, долго такое состояние продолжаться не может, потому что при ограниченности количества земли и неодинаковом качестве производительность её с каждым новым увеличением капитала, прилагаемого к ней, будет понижаться, тогда как способность населения к размножению продолжает оставаться прежней. В тех странах, где плодородная земля имеется в изобилии, но где в силу невежества, беспечности и варварства население подвергается всем бедствиям нужды и голода, где, как говорится, население давит на средства существования, нужны совсем другие средства исцеления, чем в давно заселённых странах, которые испытывают все бедствия перенаселения вследствие уменьшения нормы предложения сырых продуктов. [В одном случае зло происходит от дурного управления, от неуверенности в положении собственности и от недостатка образования во всех слоях народа. Чтобы народ стал счастливее, надо только улучшить систему управления и обучения, и тогда капитал неизбежно будет увеличиваться быстрее, чем население. Никакое увеличение населения не может быть слишком большим, так как производительные силы увеличиваются ещё больше. В другом случае население растёт быстрее средств, требующихся для его содержания. Всякое напряжение трудолюбия, поскольку оно не сопровождается уменьшением нормы прироста населения, только увеличит зло, ибо производство не может поспевать за населением. Когда население давит на средства существования, единственными средствами исцеления являются или уменьшение населения, или более быстрое накопление капитала. В богатых странах, где вся плодородная земля уже поступила в обработку, последнее средство и не очень практично, и не весьма желательно, потому что результатом его при слишком усердном применении будет одинаковое обнищание всех классов. Но в бедных странах, где средства производства имеются в изобилии, потому что ещё не вся плодородная земля возделывается, - это единственно верное и действительное средство для искоренения зла, тем более что результатом его явится улучшение положения всех классов населения. Друзья человечества могут только желать, чтобы во всех странах рабочие классы развивали в себе потребность в комфорте и развлечениях и чтобы усилия добиться их были поощряемы всеми законными средствами. Нет лучшей гарантии против перенаселения] <В первом издании Рикардо стоял на несколько иной точке зрения. Вместо приведённого здесь текста он писал: "Нищета происходит от лени народа. Чтобы последний стал счастливее, он нуждается только в стимуле к трудолюбию. При таком трудолюбии никакое увеличение населения не может быть слишком большим, так как производительные силы увеличиваются еще больше. В другом случае население растёт быстрее средств, требующихся для его содержания. Всякое напряжение трудолюбия, поскольку оно не сопровождается уменьшением нормы прироста населения, только увеличит зло, ибо производство не может поспевать за населением. В некоторых странах Европы и во многих странах Азии, а также на южноокеанских островах народ бедствует от плохого управления или от привычки к беспечности, заставляющих его предпочитать имеющиеся удобства и бездеятельность, хотя и без гарантии против нужды, умеренному трудолюбию с изобилием пищи и предметов жизненной необходимости. Уменьшая население этих стран, мы им не окажем никакой помощи, ибо производство будет уменьшаться в такой же, если ещё не в большей пропорции. Средство против зла, от которого страдают Польша и Ирландия, так же как и средство против зла, испытываемого на южноокеанских островах, заключается в том, чтобы стимулировать трудолюбие, создать новые потребности и развить новые вкусы; ибо эти страны должны накоплять гораздо большее количество капитала до тех пор, пока уменьшенная норма производства сделает рост капитала необходимо менее быстрым, чем рост населения. Лёгкость, с которой удовлетворяются нужды ирландцев, дозволяет этому народу проводить большую часть своего времени в лености; если бы население уменьшилось, это зло возросло бы, потому что повысилась бы заработная плата, и вследствие этого рабочий имел бы возможность получить в обмен на ещё меньшую часть своего труда всё, что требуется для удовлетворения его умеренных потребностей. Создайте у ирландского рабочего вкус к комфорту и удовольствиям, которые привычка сделала существенно необходимыми для английского рабочего, и он будет тогда согласен посвятить ещё какую-то часть своего времени производству, чтобы иметь возможность получить их. Тогда будут добываться не только все добываемые теперь средства пропитания, но и большая добавочная стоимость при производстве тех товаров, на которое может быть направлен не занятый теперь труд страны". - Прим. ред.>. В тех странах, где рабочие классы имеют самые малые нужды и довольствуются самой дешёвой пищей, население подвержено величайшим превратностям и нищете. Ему негде укрыться от беды; оно не может искать убежища в более низком состоянии, ибо его состояние уже настолько низко, что ниже оно опуститься не может. При всяком недостатке в главном средстве его пропитания население может прибегнуть лишь к очень немногим суррогатам, и дороговизна сопровождается для него почти всеми бедствиями голода. При естественном поступательном движении общества заработная плата труда имеет тенденцию к падению, поскольку она регулируется предложением и спросом, потому что приток рабочих будет постоянно возрастать в одной и той же степени, тогда как спрос на них будет увеличиваться медленнее. Если, например, заработная плата регулируется ежегодным возрастанием капитала, составляющим 2%, то она упадёт, когда процент его накопления будет составлять только 1 1/2. Она упадёт ещё ниже, когда капитал будет увеличиваться только на 1 или на 1/2 %. Так будет продолжаться до тех пор, пока капитал, а вместе с ним и заработная плата не сделаются стационарными, причём заработная плата будет достаточна только для сохранения численности существующего населения. Я утверждаю, что при таких обстоятельствах заработная плата, поскольку она регулировалась бы исключительно предложением и спросом рабочих, будет падать, но мы не должны забывать, что заработная плата регулируется также ценами товаров, на которые она расходуется. С ростом населения цены на предметы насущной необходимости будут постоянно повышаться, потому что для их производства будет требоваться больше труда. Если бы, значит, денежная заработная плата труда падала и в то же время каждый товар, на который она расходуется, становился дороже, рабочий страдал бы вдвойне и скоро совершенно лишился бы возможности существовать. На деле денежная заработная плата труда будет не падать, а повышаться, но не в достаточной мере для того, чтобы рабочий имел возможность покупать столь же много предметов комфорта и необходимости, сколько он покупал до повышения цены этих товаров. Если раньше его заработная плата составляла 24 ф. ст. в год, или 6 квартеров хлеба, при цене квартера в 4 ф. ст., то он, вероятно, будет получать только стоимость 5 квартеров, когда цена хлеба поднимется до 5 ф. ст. за квартер. Но 5 квартеров будут стоить 25 ф. ст.; следовательно, он получит прибавку к своей денежной заработной плате, хотя и при этой прибавке он не сможет иметь столько же хлеба и других товаров, сколько он и его семья потребляли прежде. Таким образом, несмотря на то, что рабочий будет в действительности оплачиваться хуже, возрастание его заработной платы необходимо уменьшит прибыль фабриканта, ибо товары его будут продаваться не по более высокой цене, тогда как издержки производства их увеличатся. Но это явление мы рассмотрим после, при исследовании законов, регулирующих прибыль. Итак, оказывается, что та же причина, которая повышает ренту, а именно возрастающая трудность получения добавочного количества пищи с помощью пропорционального добавочного количества труда, будет повышать и заработную плату. А потому, если стоимость денег останется без изменения, как рента, так и заработная плата будут иметь тенденцию расти вместе с ростом богатства и населения. Но между ростом ренты и ростом заработной платы имеется существенная разница. Повышение денежной стоимости ренты сопровождается увеличением её доли в продукте; не только денежная рента землевладельца становится больше, но и его хлебная рента; он получает больше хлеба, и каждая определённая мера этого хлеба будет обмениваться на большее количество всех других товаров, стоимость которых не повысилась. Судьба рабочего будет менее счастливой; правда, он будет получать большую денежную заработную плату, но его хлебная заработная плата сократится. И он не только будет распоряжаться теперь меньшим количеством хлеба. Ухудшится также и его общее положение, потому что ему труднее будет поддерживать рыночную норму заработной платы выше её естественной нормы. Когда цена хлеба повысится на 10%, заработная плата всегда повысится менее чем на 10 %, рента же всегда повысится в большем отношении; положение рабочего будет вообще ухудшаться, а землевладельца - становиться всё лучше и лучше. Предположим, что заработная плата рабочего составляла 24 ф. ст. в год, при цене квартера пшеницы в 4 ф. ст., или равнялась по стоимости 6 квартерам пшеницы, и предположим, что половину своей заработной платы он расходовал на пшеницу, а другую половину, или 12 ф. ст., - на прочие вещи. Он получал бы:
Получая такую заработную плату, рабочий имел бы возможность жить так же хорошо, как и прежде, но не лучше. Потому что, когда хлеб стоил 4 ф. ст. за квартер, он тратил бы:
Пропорционально вздорожанию хлеба рабочий получал бы меньшую хлебную заработную плату; денежная же заработная плата его всё время возрастала бы, тогда как его жизненные удобства оставались бы, согласно сделанному выше предположению, точно такими же. Но так как цены других товаров повышаются пропорционально количеству входящего в них сырого продукта, то за некоторые из них он должен был бы платить больше. Хотя его чай, сахар, мыло, свечи и квартирная плата, вероятно, будут не дороже, ему придётся платить больше за ветчину, сыр, масло, бельё, обувь и платье. Поэтому даже при принятом выше увеличении заработной платы его положение сравнительно ухудшится. Но могут сказать, что, рассматривая влияние заработной платы на цены, я предполагал, что золото или металл, из которого изготовляются деньги, есть продукт страны, в которой заработная плата изменялась и что положения, которые я установил, мало согласуются с действительным положением вещей, поскольку золото - металл, добываемый за границей. Однако то обстоятельство, что золото - иностранный продукт, не ослабляет силы аргументации: можно показать, что, добывается ли золото в своей стране или же ввозится из-за границы, результаты в конечном счёте и даже непосредственно будут одни и те же. Когда заработная плата повышается, это происходит вообще потому, что увеличение богатства и капитала вызывает новый спрос на труд, который будет неминуемо сопровождаться увеличением производства товаров. Для обращения этих добавочных товаров, хотя бы по тем же ценам, что и раньше, потребуется больше денег, большее количество того иностранного товара, из которого делаются деньги и который может быть получен только путём ввоза. Всякий раз, как товар требуется в большем количестве, чем прежде, его относительная стоимость повышается в сравнении со стоимостью тех товаров, за которые он покупается. Если бы потребовалось больше шляп, их цена повысилась бы, и за них давали бы больше золота. Если бы понадобилось больше золота, то повысилась бы его цена, а цена шляп упала бы, так как для покупки прежнего количества золота теперь было бы необходимо большее количество шляп и всех других вещей. Но сказать в данном случае, что цены товаров повысились, потому что повысилась заработная плата, значит допускать явное противоречие: сначала мы говорим, что вследствие спроса поднимается относительная стоимость золота, а затем, что его относительная стоимость падает, потому что цены поднимаются, - две вещи, совершенно несовместимые друг с другом. Сказать, что повысились цены товаров, - то же сам ое, что сказать, что понизилась относительная стоимость денег, потому что относительная стоимость золота вычисляется в товарах. Значит, если бы повысились цены всех товаров, то золото не могло бы притекать из-за границы для покупки этих дорогих товаров. Оно, наоборот, уходило бы из страны и употреблялось бы с выгодой для покупки сравнительно более дешёвых иностранных товаров. Таким образом, видно, что повышение заработной платы не поднимет товарных цен, всё равно, производится ли металл, из которого делаются деньги, дома или за границей. Цены всех товаров не могут подняться в одно и то же время без добавочного количества денег. Это последнее не может быть ни получено в своей стране, как мы уже показали, ни ввезено из-за границы. Для покупки какого-либо добавочного количества золота за границей наши товары должны быть дёшевы, а не дороги. Ввоз золота и повышение цен всех отечественных товаров, на которые покупается золото, - абсолютно несовместимые вещи. Широкое употребление бумажных денег не изменяет дела, потому что бумажные деньги соответствуют или должны соответствовать стоимости золота, и потому на их стоимость влияют только те причины, которые влияют и на стоимость этого металла. Таковы, следовательно, законы, которые регулируют заработную плату и управляют благосостоянием наиболее значительной части всякого общества. Так же как и при всяких других соглашениях, размеры заработной платы должны быть предоставлены частной и свободной рыночной конкуренции и никогда не должны контролироваться вмешательством законодательства. Явная и прямая тенденция законов о бедных прямо противоречит этим очевидным принципам; эти законы ведут не к улучшению положения бедных, что имели в виду благодушные законодатели, а к ухудшению положения и богатых и бедных. Вместо того, чтобы делать бедных богатыми, они как бы рассчитаны на то, чтобы сделать богатых бедными. Пока эти законы остаются в силе, вполне естественно, что суммы на содержание бедных будут прогрессивно расти до тех пор, пока они не поглотят весь чистый доход страны или по крайней мере ту часть его, которую государство оставит нам за покрытием своих собственных всегда существующих потребностей по государственным расходам <Если г-н Бьюкенен говорит в следующей цитате только о временном состоянии нищеты, то я согласен с ним, что "великое зло в судьбе рабочего есть бедность, происходящая от недостатка или пищи, или работы, и во всех странах издано было бесчисленное множество законов, чтобы помочь ему. Но в нашем общественном устройстве существуют бедствия, которых законодательство не может облегчить, и потому полезно знать пределы его мощи, чтобы мы в погоне за неосуществимым не упустили того хорошего, что действительно в нашей власти". (Buchanan, p. 61.)>. Эта пагубная тенденция законов о бедных уже не является тайной, после того как она была вполне выяснена компетентным пером Мальтуса, и всякий друг бедных должен горячо желать полной отмены этих законов. К несчастью, однако, они изданы так давно и бедняки настолько свыклись с ними, что радикальное устранение их из нашей политической системы требует величайшей осторожности и уменья. Даже самые ревностные сторонники отмены признают, что, если желательно оградить от самой гнетущей нищеты тех, для блага которых такие законы были ошибочно изданы, их отмена должка быть проведена с величайшей постепенностью. Не подлежит никакому сомнению, что комфорт и благосостояние бедных не могут быть постоянно обеспечены, если вследствие их собственных стараний или некоторых усилий со стороны законодательства не будет урегулировано возрастание их численности и ранние и непредусмотрительные браки не станут менее частыми в их среде. Действие системы законов о бедных было прямо противоположно. Они делали воздержание излишним и поощряли неблагоразумных, предлагая им часть заработной платы благоразумных и трудолюбивых <К счастью, прогресс в понимании этого вопроса, который обнаружила палата общин с 1796 г., довольно велик, как это можно видеть, сравнив последний доклад комитета по рассмотрению законов о бедных со следующими заявлениями г-на Питта, сделанными в названном году. "Пусть, - сказал он, - получение помощи в тех случаях, когда есть много детей, будет делом права и чести, а не предметом позора и презрения. Это сделает большое семейство благословением, а не проклятием и проведёт надлежащую разграничительную линию между теми, кто может пропитать себя собственным трудом, и теми, кто, обогатив страну большим числом детей, имеет право на помощь с её стороны в деле их пропитания". (Hansard's Parliamentary History, v. XXXII, p. 710.) [Это примечание имеется только во втором и третьем изданиях.]>. Природа этого бедствия сама указывает на лекарство. Суживая постепенно сферу применения законов о бедных, разъясняя беднякам ценность независимости, приучая их рассчитывать в деле пропитания не на систематическую или случайную благотворительность, а на свои собственные усилия, внушая им, что благоразумие и предусмотрительность - не лишние и не безвыгодные добродетели, мы постепенно приблизимся к более нормальному и здоровому состоянию. Всякий план реформы законов о бедных, который не ставит себе конечной целью их отмену, не заслуживает ни малейшего внимания. И лучшим другом бедняков и дела всего человечества мы признаём того, кто может указать самые верные и в то же время наименее принудительные меры для достижения этой цели. Если бы каким-нибудь новым способом, отличным от настоящего, мы увеличили фонд для содержания бедных, мы нисколько не смягчили бы это зло. Наоборот, если бы мы увеличили этот фонд или, как некоторые предлагали в последнее время, собирали его как общий фонд со всей страны, мы не только не облегчили бы зло, которое желаем устранить, но ещё более увеличили бы его. Настоящий способ его собирания и расходования способствовал смягчению его пагубных действий. Каждый приход собирает отдельный фонд для содержания своих собственных бедных. Поэтому люди более заинтересованы в том, чтобы держать местные сборы на бедных на низком уровне, и это более осуществимо, чем если бы собирался один общий фонд для помощи бедным всего королевства. Приход гораздо более заинтересован в экономном взимании налога и в бережливом распределении пособий, когда вся экономия пойдёт в его собственную пользу, чем если сотни других приходов будут участвовать в ней. Только этой причиной мы можем объяснить, что законы о бедных не поглотили ещё всего чистого дохода страны; строгости, с которой они применяются, мы обязаны тем, что гнёт их не возрос до невыносимых размеров. Если бы всякое человеческое существо, нуждающееся в поддержке, было уверено, что получит её в силу закона и получит в размере, вполне достаточном для сносной жизни, то теоретически можно было бы ожидать, что все другие налоги, взятые вместе, были бы безделицей в сравнении с одним налогом на бедных. Законы о бедных имеют тенденцию - и эта тенденция не менее достоверна, чем закон тяготения, - превращать богатство и силу в нищету и бессилие; они отвлекают усилия труда от всех иных целей, кроме одной - добывания пропитания; они уничтожают всякие умственные различия и занимают ум одной мыслью об удовлетворении физических потребностей, пока, наконец, все классы не будут поражены чумой всеобщей бедности. К счастью, эти законы действовали в период возрастающего благосостояния, когда фонд заработной платы возрастал регулярно и размножение населения не стимулировалось искусственным путём. Но если бы наш прогресс замедлился, если бы мы пришли к стационарному состоянию, от которого, я уверен, мы ещё весьма далеки, то пагубная природа этих законов стала бы более явственной и угрожающей, и тогда отмена их встретила бы, кроме того, много новых затруднений. Глава 6. О прибыли
Мы уже показали, что прибыли на капиталы, помещённые в разных отраслях, находятся в определённом отношении друг к другу и имеют тенденцию изменяться в одинаковой степени и в одинаковом направлении. Теперь мы должны рассмотреть, какова причина постоянных изменений в норме прибыли и связанных с ними постоянных перемен в норме процента. Мы видели, что цена <Прошу читателя помнить, что для большей ясности я принимаю, что стоимость денег неизменна и потому всякое изменение в цене должно быть отнесено на счёт перемены в стоимости товара> хлеба регулируется количеством труда, необходимого для его производства, с помощью той части капитала, которая не платит никакой ренты. Мы видели далее, что цены всех промышленных товаров повышаются или падают соразмерно тому, больше или меньше труда необходимо для их производства. Ни фермер, обрабатывающий землю того разряда, который регулирует цену, ни фабрикант, который изготовляет промышленные товары, не поступаются никакой долей продукта ради ренты. Вся стоимость их товаров делится только на две части: одна составляет прибыль на капитал, другая - заработную плату. Если предположить, что хлеб и промышленные изделия всегда продаются по одной и той же цене, то прибыль будет высока или низка в соответствии с тем, низка или высока заработная плата. Но предположим, что цена хлеба поднялась потому, что требуется больше труда для его производства; эта причина не повысит цены промышленных товаров, в производстве которых не требуется добавочного количества труда. Если бы, следовательно, заработная плата осталась прежней, то и прибыль фабриканта осталась бы прежней; но если - а это безусловно произойдёт - вместе с повышением цены хлеба повысится и заработная плата, то прибыль необходимо упадёт. Если фабрикант всегда продаёт свои товары за одни и те же деньги, например за 1 тыс. ф. ст., то его прибыль зависит от цены труда, необходимого для изготовления этих товаров. Она будет меньше, когда заработная плата составляет 800 ф. ст., чем когда она составляет только 600. Следовательно, прибыль будет падать соразмерно повышению заработной платы. Но мне могут задать вопрос: если цена сырых материалов увеличится, то не будет ли в конце концов прибыль фермера оставаться на прежнем уровне, хотя он и должен платить добавочную сумму в качестве заработной платы? Наверное, нет; ведь ему придётся наравне с фабрикантом не только платить возросшую заработную плату каждому рабочему, которого он нанимает, но и платить ренту или же употреблять добавочное число рабочих для получения того же продукта. А повышение цены сырых материалов будет соразмерно только этой ренте или же этому добавочному числу рабочих и не вознаградит его за повышение заработной платы. Если и фабрикант и фермер имели по 10 рабочих, причём заработная плата их повысилась с 24 ф. ст. в год на человека до 25 ф. ст., то вся сумма, уплачиваемая каждым из них, будет составлять 250 ф. ст. вместо 240. Фабриканту придётся нести только этот добавочный расход, чтобы получить то же количество товаров; но фермер, ведущий хозяйство на новой земле, будет, пожалуй, вынужден нанять добавочного рабочего и платить поэтому добавочную сумму в 25 ф. ст. в качестве заработной платы, а фермер на старой земле вынужден будет платить точно такую же добавочную сумму в 25 ф. ст. в качестве ренты: не будь нужен добавочный труд, ни цена хлеба не могла бы подняться, ни рента увеличиться. Итак, одному фермеру придётся платить 275 ф. ст. в качестве одной только заработной платы, а другому в качестве заработной платы и ренты вместе, и каждому из них на 25 ф. ст. больше, чем фабриканту; за последние 25 ф. ст. фермер вознаграждается прибавкой к цене сырых материалов, и потому его прибыль всё ещё будет соответствовать прибыли фабриканта. Ввиду важности этого положения я постараюсь сделать его ещё яснее. Мы показали, что на ранних стадиях общественного развития как доля землевладельца, так и доля рабочего в стоимости продукта земли весьма невелики и что они возрастают пропорционально возрастанию богатства и трудности добывания пищи. Мы показали, кроме того, что, хотя стоимость доли рабочего возрастает вследствие высокой стоимости пищи, его действительная доля уменьшается. Что же касается доли землевладельца, то возрастает не только её стоимость, но и её количество. Часть продукта земли, остающаяся после уплаты землевладельцу и рабочим, безусловно принадлежит фермеру и составляет прибыль на его капитал. Но мне могут возразить, что, хотя с поступательным движением общества доля фермера во всём продукте уменьшается, он, несмотря на это, может получать более значительную стоимость, так же как землевладелец и рабочий, ибо повысится стоимость всего продукта. Могут сказать, например, что когда цена хлеба поднимается с 4 до 10 ф. ст., то 180 квартеров, полученных с наилучшей земли, будут продаваться за 1 800 ф. ст. вместо 720. Поэтому, хотя бы и было доказано, что землевладелец и рабочий будут получать в виде ренты и заработной платы большую стоимость, всё же стоимость прибыли фермера может также увеличиться. Это, однако, невозможно, как я сейчас постараюсь показать. Во-первых, цена хлеба поднимается только пропорционально увеличению трудности возделывания его на земле худшего качества. Уже было замечено, что если труд 10 рабочих на земле известного качества даёт 180 квартеров пшеницы стоимостью в 4 ф. ст. квартер, или всего 720 ф. ст., а труд 10 добавочных рабочих произведёт на той же или другой земле только 170 добавочных квартеров, то цена пшеницы поднимется с 4 ф. ст. до 4 ф. ст. 4 шилл. 8 пенс., так как 107 : 180 == 4 ф. ст. : 4 ф. ст. 4 шилл. 8 пенс. Другими словами, так как для производства 170 квартеров пшеницы во втором случае нужен труд 10 человек, а в первом - только 9,44, то цена повысится в отношении 9,44 к 10, или 4 ф. ст. к 4 ф. ст. 4 шилл. 8 пенс. Точно таким же образом можно показать, что если труд 10 добавочных рабочих произведёт только 160 квартеров, то цена поднимается далее до 4 ф. ст. 10 шилл., если 150 квартеров - то до 4 ф. ст. 16 шилл., и т. д. и т. д. Но когда на земле, не платящей ренты, производилось 180 квартеров и цена была 4 ф. ст. за квартер, они продавались за 720 ф. ст. А когда на земле, не приносящей ренты, производилось 170 квартеров и цена поднималась до 4 ф. ст. 4 шилл. 8 пенс., они продавались всё ещё за 720 ф. ст. Точно так же 160 квартеров по 4 ф. ст. 10 шилл. дадут 720 ф. ст. И 150 квартеров по 4 ф. ст. 16 шилл. дадут ту же сумму в 720 ф. ст. Очевидно теперь, что если из этих равных стоимостей фермер вынужден сегодня платить заработную плату, регулируемую ценой пшеницы в 4 ф. ст., а завтра заработную плату, регулируемую более высокими ценами, то норма его прибыли будет уменьшаться соразмерно повышению цены хлеба. Итак, мне кажется, в этом случае ясно доказано, что повышение цены хлеба, которое увеличивает денежную заработную плату рабочего, уменьшает денежную стоимость прибыли фермера. Но и фермер, обрабатывающий старую, лучшую землю, будет в том же положении; он также будет платить возросшую заработную плату и, как бы ни была высока цена его продукта, никогда не будет удерживать из стоимости его более 720 ф. ст. Эта сумма должна быть поделена между ним и его рабочими, число которых остаётся всё время одинаковым; и, чем больше будут получать они, тем меньше будет оставаться ему. Когда цена хлеба была равна 4 ф. ст., все 180 квартеров принадлежали земледельцу, и он продавал их за 720 ф. ст. Когда цена хлеба поднялась до 4 ф. ст. 4 шилл. 8 пенс., он вынужден был платить стоимость 10 квартеров в качестве ренты, следовательно, остальные 170 квартеров давали ему не более 720 ф. ст. Когда цена хлеба поднялась далее до 4 ф. ст. 10 шилл., он платил 20 квартеров - или их стоимость - в качестве ренты и, следовательно, удерживал в свою пользу только 160 квартеров, которые давали ту же сумму в 720 ф. ст. Мы видим таким образом, что, как бы ни повышалась цена хлеба вследствие необходимости употреблять больше труда и капитала для получения добавочного количества продукта, такое повышение всегда будет выравниваться стоимостью добавочной ренты или употреблённого добавочного труда, так что, продаётся ли хлеб по 4 ф. ст. 10 шилл. или по 5 ф. ст. 2 шилл. 10 пенс., фермер всегда будет получать за часть продукта, которая останется ему после уплаты ренты, одну и ту же действительную стоимость. Итак, мы видим, что, составляет ли продукт, принадлежащий фермеру, 180, 170, 160 или 150 квартеров, он всегда будет выручать за него одну и ту же сумму - 720 ф. ст., так как цена хлеба возрастает обратно пропорционально количеству его. Таким образом, рента, как оказывается, всегда падает на потребителя и никогда на фермера. Ибо если продукт его фермы будет постоянно составлять 180 квартеров, то с повышением цены он будет удерживать в свою пользу стоимость меньшего количества и отдавать стоимость большего количества землевладельцу. Но вычет этот будет таков, чтобы у него оставалась всегда одна и та же сумма в 720 ф. ст. Мы видим, кроме того, что во всех случаях одна и та же сумма в 720 ф. ст. должна быть разделена между заработной платой и прибылью. Если стоимость сырых материалов, доставляемых землёй, превышает эту стоимость, то излишек, какова бы ни была его величина, присоединяется к ренте. Если бы излишка не было, то и ренты не было бы. Поднимается ли заработная плата или прибыль или же падает, всё равно и та и другая должны быть выплачены из этой суммы в 720 ф. ст. С одной стороны, прибыль никогда не может подняться так высоко, чтобы поглощённая ею часть в 720 ф. ст. сделала остаток недостаточным для снабжения рабочих предметами абсолютной необходимости, с другой - заработная плата никогда не может подняться так высоко, чтобы от 720 ф. ст. ничего не осталось для прибыли. Таким образом, во всех случаях прибыль как в земледелии, так и в промышленности понижается при повышении цены сырых материалов, если оно сопровождается повышением заработной платы <Читатель знает, что мы оставляем без рассмотрения случайные изменения, зависящие от плохих и хороших урожаев или от увеличения или уменьшения спроса вследствие каких-либо внезапных перемен в состоянии населения. Мы говорим о естественной и постоянной, а не о случайной и колеблющейся цене хлеба>. Если фермер не выручает добавочной стоимости за хлеб, остающийся ему после уплаты ренты, если фабрикант не выручает добавочной стоимости за производимые товары и если оба они вынуждены платить более значительную стоимость в виде заработной платы, то можно ли яснее показать, что прибыль должна падать с повышением заработной платы? Итак, фермер, хотя он и не платит ни одной части ренты землевладельца, ибо она всегда регулируется ценой продукта и неизменно падает на потребителей, всё-таки решительно заинтересован в том, чтобы рента или, скорее, естественная цена сырых материалов держалась на низком уровне. Как потребитель сырых материалов и предметов, в состав которых они входят, он вместе с другими потребителями заинтересован в том, чтобы цена их оставалась на низком уровне. Но всего чувствительнее затрагивает его высокая цена хлеба ввиду влияния её на заработную плату. С каждым повышением цены хлеба ему придётся платить из одной и той же неизменной суммы в 720 ф. ст. добавочную сумму к заработной плате 10 рабочих, которые, по нашему предположению, постоянно работают у него. Мы видели при рассмотрении заработной платы, что она неизменно повышается с повышением цены сырых материалов. Положив в основу нашего вычисления тот же самый расчёт, мы увидим, что если при цене пшеницы в 4 ф. ст. за квартер заработная плата равняется 24 ф. ст. в год, то
Тогда из неизменного фонда в 720 ф. ст., подлежащего распределению между рабочими и фермерами,
* Здесь, очевидно, у Рикардо вкралась ошибка. Должно быть 445. - Прим. ред. 180 квартеров пшеницы будут делиться при вышеуказанных изменениях в стоимости хлеба в следующих пропорциях между землевладельцами, фермерами и рабочими:
И при тех же обстоятельствах денежная рента, заработная плата и прибыль будут составлять:
При предположении, что первоначальный капитал фермера равнялся 3 тыс. ф. ст., прибыль на его капитал, будучи в первом случае равной 480 ф. ст., составит 16%. Когда его прибыль падает до 473 ф. ст., она составляет 15,7%, когда она падает до
Но норма прибыли упадёт ещё больше, потому что капитал фермера - следует это вспомнить - состоит в значительной мере из сырых материалов, как его хлеб и сено, невымолоченная пшеница и ячмень, лошади и коровы; и цена их повысится, как только повысится цена продуктов. Его абсолютная прибыль упадёт с 480 ф. ст. до 445 ф. ст. 15 шилл.; но если по только что указанной мною причине его капитал возрастёт с 3 тыс. до 3 200 ф. ст., то при цене хлеба в 5 ф. ст. 2 шилл. 10 пенс. его прибыль будет ниже 14%. Если фабрикант тоже вложил в своё дело 3 тыс. ф. ст., то он будет вынужден вследствие повышения заработной платы увеличить свой капитал, чтобы иметь возможность вести дело в прежнем размере. Если его товары продавались раньше за 720 ф. ст., то они будут и впредь продаваться по этой же цене, но заработная плата труда, которая раньше составляла 240 ф. ст., поднимается при цене хлеба в 5 ф. ст. 2 шилл. 10 пенс. до 274 ф. ст. 5 шилл. В первом случае у него оставалось в качестве прибыли с 3 тыс. ф. ст. 480 ф. ст., во втором - он получит всего 445 ф. ст. 15 шилл. прибыли на возросший капитал, и, следовательно, его прибыль должна соответствовать изменившейся норме прибыли фермера. Товары, на цене которых не отражалось бы в большей или меньшей степени повышение цены сырых материалов, встречаются очень редко, потому что получаемый от земли сырой материал входит в состав большинства товаров. Цены всех таких товаров, как ситец, холст и сукно, поднимутся вместе с повышением цены пшеницы, но они поднимутся потому, что на сырой материал, из которого они изготовляются, затрачивается больше труда, а не потому, что фабрикант больше платит рабочим, которых он нанимает для изготовления этих товаров. Во всех этих случаях цены товаров повысятся потому, что на них затрачивается больше труда, а не потому, что труд, который затрачивается на них, имеет более высокую стоимость. Цены драгоценных вещей, цены изделий из железа, жести и меди не поднимутся, потому что в состав их не входит никакой сырой материал, получаемый с поверхности земли. Могут сказать, что я принимал за доказанное то, что денежная заработная плата поднимается вместе с повышением цены сырых материалов, но что это вовсе не является необходимым следствием, поскольку рабочий может довольствоваться меньшими житейскими удобствами. Действительно, заработная плата труда могла раньше стоять на высоком уровне и может вынести некоторое понижение. Если так, то падение прибыли будет задержано. Но нельзя допустить, чтобы денежная цена заработной платы упала или оставалась неподвижной при постепенном возрастании цен предметов насущной необходимости. И потому можно считать доказанным, что при обычных обстоятельствах не может иметь места никакое длительное повышение цен предметов насущной необходимости, которое не вызвало бы или которому не предшествовало бы повышение заработной платы. Одинаковое, или почти одинаковое, действие на прибыль произвело бы и повышение цен других предметов жизненной необходимости, помимо пищи, на которые расходуется заработная плата труда. Необходимость платить возросшую цену за эти предметы заставит рабочего требовать большей заработной платы, а всё, что увеличивает заработную плату, необходимо уменьшает прибыль. Но предположим, что повысились цены шёлка, бархата, мебели и разных других товаров, которые рабочему не требуются, и что повышение это произошло вследствие того, что на них расходуется больше труда. Отразится ли это на прибыли? Конечно, нет: ведь на прибыли не может отразиться ничего, кроме повышения заработной платы; шёлк и бархат не потребляются рабочими, и потому повышение их цен не может повышать заработной платы. Следует помнить, что я говорю о прибыли вообще. Я уже заметил, что рыночная цена товара может превышать его естественную или необходимую цену, потому что он может быть произведён не в таких обильных размерах, каких требует новый спрос на него. Это, однако, лишь временное явление. Высокая прибыль на капитал, вложенный в производство такого товара, будет, естественно, привлекать капиталы в данную отрасль промышленности, а как только будут доставлены необходимые фонды и количество товара увеличится в надлежащей степени, цена его упадёт, и прибыль в данной отрасли придёт в соответствие с общим уровнем. Падение общей нормы прибыли вовсе не несовместимо с частичным повышением прибыли в отдельных отраслях. Именно благодаря неравенству прибыли капитал и перемещается из одного занятия в другое. Таким образом, в то время как общая прибыль падает и для неё постепенно устанавливается более низкий уровень вследствие повышения заработной платы и увеличивающейся трудности снабжения возрастающего населения предметами насущной необходимости, прибыль фермера может в течение короткого промежутка времени быть выше прежнего уровня. Точно так же какая-либо отрасль внешней и колониальной торговли может получить на некоторое время необычайный толчок для развития; но допущение этого факта ничуть не обесценивает теорию, в силу которой прибыль зависит от высокой или низкой заработной платы, а заработная плата - от цены предметов жизненной необходимости, цена же последних - главным образом от цен на пищу, потому что количество всех других потребных предметов может быть увеличено почти беспредельно. Следует также помнить, что цены на рынке постоянно изменяются и прежде всего в связи со сравнительным состоянием спроса и предложения. Хотя сукно может быть поставлено по 40 шилл. за ярд и дать обычную прибыль на капитал, цена его может подняться до 60 или 80 шилл. вследствие общей перемены моды или какой-либо другой причины, которая неожиданно и сразу усилит спрос на него или уменьшит предложение. Фабриканты сукна будут временно пользоваться необычной прибылью, но капитал, естественно, станет притекать в эту отрасль промышленности, пока спрос и предложение не уравновесятся снова, а тогда цена сукна опять упадёт до 40 шилл. - до его естественной или необходимой цены. Точно таким же образом с каждым возрастанием спроса на хлеб цена его может подняться так высоко, что будет давать фермеру прибыль выше средней. Если плодородная земля имеется в изобилии, то цена хлеба опять упадёт до прежнего уровня, после того как на производство его будет затрачено требуемое количество капитала и прибыль опять вернётся к своей прежней норме; но если плодородная земля не имеется в изобилии, если для производства добавочного количества требуется больше капитала и труда, чем прежде, то цена хлеба не упадёт до своего прежнего уровня. Его естественная цена поднимется, и фермер, вместо того чтобы постоянно получать большую прибыль, окажется вынужденным довольствоваться меньшей нормой её как неизбежным последствием повышения заработной платы, вызванного повышением цен на предметы насущной необходимости. Итак, прибыль имеет естественную тенденцию падать, потому что с прогрессом общества и богатства требующееся добавочное количество пищи получается при затрате всё большего и большего труда. К счастью, эта тенденция, это, так сказать, тяготение прибыли, приостанавливается через повторные промежутки времени благодаря усовершенствованиям в машинах, применяемых в производстве предметов жизненной необходимости, а также открытиям в агрономической науке, которые позволяют нам сберечь часть труда, требовавшегося раньше, и таким образом понизить цену предметов первой необходимости рабочего. Повышение цены предметов жизненной необходимости и заработной платы труда имеет, однако, свой предел: как только заработная плата будет равна (как в приведённом раньше случае) 720 ф. ст., т. е. всей выручке фермера, должен наступить конец накоплению; никакой капитал не может тогда давать какой-либо прибыли, и не может быть никакого спроса на добавочный труд, а следовательно, и численность населения достигнет своей наивысшей точки. В действительности задолго до этого периода весьма низкая норма прибыли остановит всякое накопление, и почти весь продукт страны, за вычетом платы рабочим, станет собственностью землевладельцев и сборщиков десятины и налогов. Таким образом, положив в основу вычисления прежний очень несовершенный расчёт, мы увидим, что, когда хлеб будет стоить 20 ф. ст. за квартер, весь чистый доход страны будет принадлежать землевладельцам, потому что тогда то же количество труда, которое первоначально было необходимо для производства 180 квартеров, будет необходимо для производства 36 (20 ф. ст. : 4 ф. ст. = 180 : 36) квартеров. Фермер, который произвёл 180 квартеров (если таковой отыщется, потому что старый и новый капитал, вложенные в землю, настолько перемешаются, что их никак нельзя будет различить), будет продавать
Итак, на прибыль не остаётся ничего.
Следовательно, 10 рабочих будут стоить в год 720 ф. ст. Всеми этими вычислениями я желал только сделать ясным основной принцип, и едва ли надо оговаривать, что всё моё вычисление построено на случайно взятых цифрах и может служить только для примера. Я мог бы самым точным образом определить разницу в числе рабочих, необходимом для получения последовательных количеств хлеба, требующихся для растущего населения, а также размеры потребления семьи рабочего, и пр. и пр., но результаты получились бы в сущности те же самые, несмотря на различие порядка цифр. Для большей ясности я старался упростить проблему и потому не принимал в расчёт возрастание цены других предметов жизненной необходимости, кроме пищи рабочего. А такое возрастание было бы следствием увеличения стоимости сырых материалов, из которых они сделаны; вздорожание их, конечно, ещё более увеличило бы заработную плату и понизило бы прибыль. Я уже сказал, что задолго до того, как такое состояние цен станет постоянным, исчезнет всякое побуждение к накоплению, потому что никто не накопляет иначе, как с целью применять производительно накопленный капитал; ведь только при таком употреблении последний влияет на прибыль. Без соответствующего побуждения не может быть накопления, и, следовательно, такое состояние цен никогда не может иметь места. Фермер и фабрикант так же мало могут жить без прибыли, как рабочий без заработной платы. Их побуждение к накоплению будет уменьшаться с каждым уменьшением прибыли. Оно совершенно прекратится, когда их прибыль будет так низка, что не будет давать им надлежащего вознаграждения за хлопоты и риск, которому они необходимо должны подвергаться при производительном применении своего капитала. Я должен опять оговорить, что норма прибыли будет падать гораздо быстрее, чем я это принимал в своём вычислении. Ибо при той стоимости продукта, какую я принимал при предположенных обстоятельствах, стоимость капитала фермера значительно возросла бы: ведь этот капитал на деле состоит из многих таких товаров, стоимость которых увеличилась бы. Прежде чем цена хлеба поднялась бы с 4 ф. ст. до 12, меновая стоимость капитала фермера, вероятно, удвоилась бы и равнялась бы 6 тыс. ф. ст. вместо 3 тыс. И если его прибыль составляла 180 ф. ст., или 6%, на его первоначальный капитал, то норма прибыли в действительности была бы теперь не выше 3 %, потому что при 3 % 6 тыс. ф. ст. дают 180 ф. ст.; и только на этих условиях мог бы новый фермер, имеющий в кармане 6 тыс. ф. ст., заняться сельским хозяйством. Многие отрасли промышленности извлекли бы некоторую большую или меньшую выгоду из того же источника. Пивовар, водочный заводчик, фабрикант сукон, фабрикант холста были бы отчасти вознаграждены за уменьшение их прибыли повышением стоимости их запасов сырых ii обработанных материалов, но норма прибыли фабрикантов металлических изделий, драгоценных вещей и многих других товаров, а также тех, чей капитал состоит только из денег, полностью подверглась бы падению без какого-либо вознаграждения. Мы могли бы также ожидать, что, как бы ни уменьшилась норма прибыли на капитал вследствие накопления капитала в земледелии и повышения заработной платы, общая сумма прибыли всё же возросла бы. Так, предполагая, что с накоплением каждых новых 100 тыс. ф. ст. норма прибыли будет падать с 20 % до 19, 18, 17, постоянно уменьшаясь, можно всё же ожидать, что общая сумма прибыли, полученной всеми последовательными владельцами капитала, будет всегда прогрессировать; она будет больше, когда капитал равняется 200 тыс. ф. ст., чем когда он достигает всего 100 тыс., ещё больше, когда он составляет 300 тыс. и т. д., возрастая, хотя и в уменьшающемся отношении, с каждым возрастанием капитала. Однако эта прогрессия верна только для известного периода; так, 19% с 200 тыс. составляют больше, чем 20% со 100 тыс., 18% с 300 тыс.- больше, чем 19 % с 200 тыс., но, когда накопленный капитал достигнет очень большой суммы и прибыль опять упадёт, дальнейшее накопление будет уменьшать сумму прибыли. Предположим, что накопление достигло 1 млн., а прибыль равна 7%, тогда сумма прибыли составит 70 тыс.; если теперь к 1 млн. прибавится ещё 100 тыс., а прибыль понизится до 6 %, то собственники капитала получат 66 тыс., или на 4 тыс. меньше, хотя вся сумма капитала возросла с 1 млн. до 1 100 тыс. Однако, пока капитал даёт вообще какую-либо прибыль, немыслимо такое накопление капитала, которое не сопровождалось бы возрастанием как количества, так и стоимости продукта. Затрата добавочных 100 тыс. ф. ст. не сделает ни одну из частей прежнего капитала менее производительной. Продукт земли и труда страны должен возрасти, и стоимость его увеличится не только на стоимость, добавленную к прежнему количеству продуктов, но и на новую стоимость, которая прибавляется ко всему продукту земли вследствие увеличения трудности производства последней доли его <В первом издании сказано было: "каковая новая стоимость всегда прибавляется к ренте". - Прим. ред.>. Однако, когда накопление капитала станет очень большим, то, несмотря на это возрастание стоимости, продукт будет распределяться таким образом, что на долю прибыли будет доставаться меньшая стоимость, чем прежде, а на долю ренты и заработной платы большая. Так, при последовательных прибавках к капиталу, совершаемых каждый раз в размере 100 тыс. ф. ст., и при падении нормы прибыли с 20% до 19, 18 и 17 возрастает количество годичного продукта, а стоимость его увеличится на сумму более значительную, чем добавочная стоимость, которая должна быть произведена добавочным капиталом. Стоимость продукта повысится с 20 тыс. ф. ст. до 39 тыс. с лишним, затем до 57 тыс. с лишним. А когда затраченный капитал будет, как мы предположили раньше, равен миллиону, то, хотя при прибавке новых 100 тыс. ф. ст. общая сумма прибыли будет в действительности меньше, чем прежде, доход страны увеличится всё же больше, чем на 6 тыс. ф. ст. Но это увеличение достанется землевладельцам и рабочим. Они получат больше, чем добавочный продукт, и будут даже по своему положению в состоянии захватить часть прежнего барыша капиталиста. Предположим, что цена хлеба - 4 ф. ст. за квартер и что поэтому, как мы рассчитали раньше, из каждых 720 ф. ст., остающихся фермеру после уплаты ренты, 480 удерживаются им, а 240 уплачиваются его рабочим. Когда цена поднимется до 6 ф. ст. за квартер, он будет вынужден платить своим рабочим 300 ф. ст. и будет удерживать себе в виде прибыли только 420 ф. ст.; [он будет вынужден платить им 300 ф. ст., чтобы они имели возможность потреблять то же количество предметов жизненной необходимости, что и прежде, но не более] <Слова текста в прямых скобках представляют вставку, сделанную во втором и третьем изданиях. - Прим. ред.>. Если теперь затраченный капитал так велик, что даёт 100 тыс. раз по 720 ф. ст., или 72 млн. ф. ст., то вся сумма прибыли составит 48 млн. ф. ст. при цене пшеницы в 4 ф. ст. за квартер; если же вследствие затраты более значительного капитала будет получено 105 тыс. раз по 720 ф. ст., или 75 600 тыс. ф. ст., то при цене пшеницы в 6 ф. ст. прибыль фактически упадёт с 48 млн. до 44 100 тыс., или 105 тыс. раз по 420 ф. ст., а заработная плата повысится с 24 млн. ф. ст. до 31 500 тыс. Заработная плата повысится, потому что по отношению к капиталу будет занято больше рабочих и каждый рабочий будет получать более значительную денежную заработную плату; но положение рабочего, как мы уже показали, будет хуже, потому что он будет располагать меньшим количеством продукта страны. В действительности выиграют одни только землевладельцы; они будут получать более высокую ренту, во-первых, потому, что продукт будет иметь более высокую стоимость, и, во-вторых, потому, что они будут получать значительно возросшую долю [этого продукта] <Эти слова прибавлены только в третьем издании. - Прим. ред.>. Хотя производится более значительная стоимость, но зато и более значительная часть того, что остаётся после уплаты ренты, потребляется производителями, а именно это, и только это, регулирует прибыль. Пока земля даёт обильные урожаи, заработная плата может временно повыситься, и производители могут потреблять больше, чем свою обычную долю, но стимул, который таким образом будет дан росту населения, скоро вернёт рабочих к их обычному потреблению. Но когда в обработку поступают плохие земли или когда больше капитала и труда затрачивается на старой земле, а количество продукта уменьшается, тогда результат должен быть более постоянным. Более значительная доля той части продукта, которая остаётся после уплаты ренты и подлежит разделу между собственниками капитала и рабочими, будет уделяться последним. Каждый рабочий может и, вероятно, будет получать абсолютно меньше, но так как будет занято больше рабочих по отношению к величине всего продукта, удерживаемого фермером, то стоимость значительно большей доли всего продукта будет поглощена заработной платой, и, следовательно, на долю прибыли достанется меньшая стоимость меньшей доли. Это будет по необходимости постоянным явлением в силу законов природы, которые ограничили производительные силы земли. Таким образом, мы снова приходим к тому же заключению, какое пытались установить раньше, а именно, что во всех странах и во все времена прибыль зависит от количества труда, требующегося для снабжения рабочих предметами первой необходимости, на той земле или с тем капиталом, которые не приносят никакой ренты. Значит, результаты накопления будут различны в разных странах в зависимости главным образом от плодородия земли. Как бы обширна ни была страна, земля которой недостаточно плодородна и куда ввоз жизненных припасов запрещён, самое умеренное накопление капитала будет сопровождаться там значительным понижением нормы прибыли и быстрым повышением ренты. И, наоборот, небольшая, но плодородная страна, особенно если она разрешает свободный ввоз пищевых продуктов, может накоплять капитал в изобилии без значительного уменьшения нормы прибыли или значительного возрастания земельной ренты. В главе о заработной плате мы старались показать, что денежная цена товаров не поднимется вследствие повышения заработной платы, будет ли золото, служащее денежным эталоном, продуктом данной страны или же оно ввозится из-за границы. Но если бы это было иначе, если бы высокая заработная плата влекла за собою постоянное повышение цен товаров, было бы всё же вполне правильно утверждать, что высокая заработная плата неизменно отражается на тех, кто нанимает труд, лишая их части их действительной прибыли. Предположим, что шляпочник, чулочник и сапожник платят каждый на 10 ф. ст. больше заработной платы при изготовлении данного количества своих товаров и что цена шляп, чулок и башмаков поднялась на сумму, окупающую эти 10 ф. ст., - положение фабрикантов будет не лучше, чем если бы не было этого повышения. Если чулочник продал свои чулки за 110 ф. ст. вместо 100, то его прибыль будет равняться точно такой же сумме денег, как и раньше, однако так как в обмен за эту равную сумму он получит на одну десятую меньше шляп, башмаков и всякого другого товара и так как при прежнем размере своих сбережений он вследствие повышения заработной платы может нанимать меньше рабочих, а вследствие повышения цен покупать меньше сырых материалов, то он будет не в лучшем положении, чем если бы его денежная прибыль действительно уменьшилась, но цены всех предметов не изменились. Итак, я старался показать, во-первых, что повышение заработной платы не повышает цены товаров, но неизменно понижает прибыль, и, во-вторых, что если бы цены всех товаров и повысились, то действие такого повышения на прибыль оставило бы её размеры прежними, и фактически понизилась бы только стоимость меры, в которой исчисляются цены и прибыль. Глава 7. О внешней торговле
Никакое расширение внешней торговли не может увеличить непосредственно сумму стоимостей в стране, хотя оно и будет очень сильно способствовать увеличению массы товаров и, следовательно, количества жизненных удобств. Так как стоимость всех иностранных товаров измеряется количеством продуктов нашей земли и труда, которое отдаётся в обмен на них, то мы не будем иметь больше стоимостей, если вследствие открытия новых рынков будем получать вдвое большее количество иностранных товаров в обмен на данное количество наших. Если, купив английских товаров на 1 тыс. ф. ст., купец может получить за них такое количество иностранных товаров, которое он может продать на английском рынке за 1 200 ф. ст., то посредством такого применения своего капитала он получит 20 % прибыли, но ни его барыш, ни стоимость ввозимых товаров не увеличатся и не уменьшатся вследствие увеличения или уменьшения количества полученных им иностранных товаров. Ввозит ли он, например, 25 или же 50 бочек вина, на его барышах это нисколько не отражается, раз он продаёт в первом случае 25, а во втором - 50 бочек за одну и ту же сумму в 1 200 ф. ст. В обоих случаях прибыль его составляет 200 ф. ст., или 20% на его капитал, и в обоих случаях в Англию ввозится одинаковая стоимость. Если 50 бочек будут проданы больше чем за 1 200 ф. ст., прибыль данного купца будет превышать общую норму прибыли, и, естественно, капитал будет притекать в эту выгодную отрасль торговли, пока падение цены вина не восстановит прежнее положение вещей. Правда, некоторые утверждали, что значительная прибыль, которую получают отдельные купцы от внешней торговли, повысит общую норму прибыли в стране и что перемещение капитала из других отраслей в более доходную внешнюю торговлю повысит вообще цены, а вместе с тем и прибыль. Один высокий авторитет <Рикардо имеет в виду Адама Смита. - Прим. ред.> утверждал, что если на возделывание хлеба, изготовление сукна, шляп, обуви и пр. уделяется по необходимости меньше капитала, а спрос остаётся прежним, то цены этих товаров повысятся настолько, что фермер, шляпочник, суконщик и сапожник будут получать возросшую прибыль наравне с торговцем иностранными товарами. Те, кто выдвигает этот довод, признают вместе со мною, что прибыли в различных занятиях имеют тенденцию выравниваться, вместе повышаясь и вместе понижаясь. Разногласие наше состоит в следующем: они утверждают, что равенство прибылей явится следствием общего повышения прибылей, я же держусь того мнения, что прибыль, получаемая в благоприятствуемой отрасли торговли, быстро опустится до общего уровня. Я, во-первых, отрицаю, что на выращивание хлеба, на производство сукна, шляп, обуви и пр. будет необходимо уделяться меньше капитала, если спрос на эти товары не уменьшился, а если так, то цена их не поднимется. На покупку иностранных товаров будет употребляться или та же самая, или большая, или меньшая доля продукта земли и труда Англии. Если же эта доля не изменится, то на сукно, обувь, хлеб и шляпы будет существовать такой же спрос, как и прежде, и на их производство будет уделяться прежняя доля капитала. Если вследствие удешевления цены иностранных товаров на покупку их будет употребляться меньшая доля ежегодного продукта земли и труда Англии, то больше останется на покупку других вещей. Если спрос на шляпы, обувь, хлеб и пр. будет более значителен, чем прежде, - а это вполне возможно, так как потребители иностранных товаров имеют теперь в своём распоряжении добавочную долю своего дохода, - то имеется к услугам и капитал, который раньше шёл на покупку иностранных товаров, когда стоимость их была больше. Таким образом, наравне с возрастанием спроса на хлеб, обувь и пр. существуют и средства для доставления возросшего количества их, и потому ни цены, ни прибыль не могут повыситься надолго. Если на покупку иностранных товаров будет употребляться больше продукта земли и труда Англии, то меньше может быть употреблено на покупку других вещей, и, следовательно, меньше потребуется шляп, обуви и пр. По мере того как капитал освобождается из производства обуви, шляп и пр., большее количество его должно употребляться на изготовление тех товаров, за которые покупаются иностранные товары. Следовательно, во всех случаях спрос на иностранные и отечественные товары вместе, поскольку дело касается стоимости, ограничивается доходом и капиталом страны. Если увеличивается спрос на один товар, то должен уменьшиться спрос на другие товары. Если в обмен на одно и то же количество английских товаров ввозится вдвое больше вина, чем прежде, то английский народ может или потреблять вдвое больше вина, чем прежде, или прежнее количество вина, но гораздо больше английских товаров. Если мой доход равнялся 1 тыс. ф. ст., из которых 100 ф. ст. я тратил ежегодно на покупку бочки вина и 900 ф. ст. на известное количество английских товаров, то при падении цены вина до 50 ф. ст. за бочку я могу затратить сбережённые 50 ф. ст. или на покупку лишней бочки вина, или на покупку большего количества английских товаров. Если я буду покупать больше вина и каждый потребитель вина поступит так же, то внешняя торговля не испытает никакого ущерба; в обмен на вино будет вывозиться прежнее количество английских товаров, и мы будем получать вдвое больше вина, но не вдвое большую стоимость. Но если я и другие будем довольствоваться прежним количеством вина, то будет вывозиться меньше английских товаров, и потребители вина будут потреблять или товары, которые раньше вывозились, или какие-нибудь другие, к которым они имеют склонность. Капитал, требующийся для их производства, будет заменён капиталом, освободившимся из внешней торговли. Капитал может быть накопляем двояким способом: он сберегается или путём увеличения дохода, или путём уменьшения потребления. Если моя прибыль повысится с 1 тыс. ф. ст. до 1 200, а расходы останутся прежними, то я буду накоплять ежегодно на 200 ф. ст. больше, чем раньше. Если я сберегу 200 ф. ст. на своих расходах, а прибыль моя останется прежней, то получится такой же результат: к моему капиталу будет прибавляться по 200 ф. ст. в год. Купец, который ввёз вино, после того как прибыль поднялась с 20 до 40%, купит свои английские товары не за 1 тыс. ф. ст., а за 857 ф. ст. 2 шилл. 10 пенс., продавая вино, которое он ввозит взамен их, попрежнему за 1 200 ф. ст.; если же он продолжает покупать свои английские товары за 1 тыс. ф. ст., то он должен повысить цену своего вина до 1 400 ф. ст. Таким образом, он получил бы 40% прибыли на свой капитал вместо 20%. Но если вследствие дешевизны всех товаров, на которые расходовался его доход, он и все другие потребители могут сберечь стоимость в 200 ф. ст. из каждой тысячи фунтов стерлингов, которую они тратили раньше, то они увеличат реальное богатство страны более действительным способом: в одном случае сбережение было бы сделано вследствие возрастания дохода, в другом - вследствие уменьшения расхода. Если вследствие введения машин стоимость большинства товаров, на которые тратился мой доход, упадёт на 20%, я буду в состоянии сберегать так же успешно, как если бы мой доход повысился на 20%; но в одном случае норма прибыли остаётся без изменения, в другом она повышается на 20%. Если благодаря ввозу дешёвых иностранных товаров я могу сберечь 20% на своих расходах, результат будет совершенно такой же, как если бы машины понизили издержки их производства, но прибыль не повысилась бы. Итак, норма прибыли повышается не вследствие расширения рынка, хотя такое расширение может оказать влияние на увеличение массы товаров и тем дать нам возможность увеличить фонды, предназначенные для содержания труда и приобретения материалов, к которым может быть приложен труд. Для счастья человечества не имеет значения, происходит ли увеличение наших жизненных удобств благодаря лучшему распределению труда, т. е. вследствие того, что каждая страна производит те товары, к производству которых она приспособлена в силу своего положения, климата и других естественных или искусственных преимуществ, и обменивает их на товары других стран, или оно является результатом повышения нормы прибыли. Я старался показать на протяжении всего этого труда, что норма прибыли может повыситься только вследствие падения заработной платы и что последняя может упасть надолго только вследствие падения стоимости предметов насущной необходимости, на которые она расходуется. Если, следовательно, благодаря расширению внешней торговли или усовершенствованиям в машинах пища и предметы насущной необходимости рабочего могут быть доставлены на рынок по пониженной цене, то прибыль поднимется. Если, вместо того чтобы возделывать свой собственный хлеб или изготовлять платье и другие предметы потребления рабочего, мы откроем новый рынок, откуда можно получать эти товары по более дешёвой цене, то заработная плата упадёт и прибыль повысится; но если товары, получаемые по более дешёвой цене благодаря расширению внешней торговли или усовершенствованиям в машинах, потребляются исключительно богатыми, в норме прибыли не произойдёт никакого изменения. Норма заработной платы не изменится, если вино, бархат, шёлк и другие дорогие товары упадут в цене на 50% и, следовательно, прибыль останется без перемены. Таким образом, внешняя торговля весьма полезна для страны тем, что увеличивает массу и разнообразие предметов, на которые может расходоваться доход, и создаёт благодаря обилию и дешевизне товаров побуждение к сбережению и к накоплению капитала; однако она не имеет тенденции повышать прибыль с капитала, если только ввозимые товары не принадлежат к разряду тех, на которые расходуется заработная плата труда. Замечания, сделанные относительно внешней торговли, одинаково приложимы и к внутренней. Норма прибыли никогда не повышается вследствие лучшего распределения труда, изобретения машин, проведения дорог и каналов или каких-либо других способов сокращения труда в производстве или перевозке товаров. Эти причины влияют на цены и приносят всегда большую пользу потребителям, так как позволяют им за тот же труд или за стоимость продукта того же труда получать в обмен большее количество товара, в производстве которого применяются усовершенствованные способы, но на прибыль они не оказывают никакого действия. С другой стороны, всякое уменьшение заработной платы труда повышает прибыль, но не оказывает никакого действия на цену товаров. Одно выгодно всем классам, потому что все классы являются потребителями; другое приносит пользу только предпринимателям; они получают больше барыша, в то время как цены всех товаров остаются без изменения. В первом же случае они получают столько же, сколько и прежде, но меновая стоимость всех предметов, на которые они расходуют свои барыши, уменьшается. Правило, регулирующее относительную стоимость товаров в одной стране, не регулирует относительную стоимость товаров, обмениваемых между двумя или несколькими странами. При системе полной свободы торговли каждая страна, естественно, затрачивает свой капитал и труд на такие отрасли промышленности, которые доставляют ей наибольшие выгоды. Это преследование индивидуальной выгоды самым удивительным образом связано с общим благом всех. Стимулируя трудолюбие, вознаграждая изобретательность, утилизируя наиболее действительным образом все те силы, которые даёт нам природа, этот принцип приводит к самому эффективному и наиболее экономному разделению труда между разными нациями. И в то же время, увеличивая общую массу продуктов, он увеличивает всеобщее благополучие и связывает узами общей выгоды и постоянных сношений все цивилизованные нации в одну всемирную общину. Именно этот принцип определяет, что вино должно производиться во Франции и Португалии, что хлеб должен возделываться в Америке и Польше, а различные металлические изделия и другие товары должны изготовляться в Англии. В одной и той же стране уровень прибыли, вообще говоря, всегда одинаков. Различия происходят только потому, что одно помещение капитала более или менее безопасно и привлекательно, чем другое. Если прибыль на капитал, занятый в Йоркшире, превышает прибыль на капитал, занятый в Лондоне, то капитал быстро переместится из Лондона в Йоркшир, и равенство прибыли восстановится. Но если вследствие уменьшения производительности земледельческого труда в Англии или вследствие возрастания капитала и населения заработная плата повысится, а прибыль упадёт, то из этого не следует, что капитал и население необходимо переместятся из Англии в Голландию или Испанию, или Россию, где прибыль может быть выше. Если бы Португалия не находилась в торговых сношениях с другими странами, она была бы вынуждена извлечь значительную часть своего капитала и труда из производства вин, за которые она покупает необходимые для неё металлические изделия и сукна из других стран; она должна была бы затратить эту часть на изготовление данных товаров, причём получала бы их, вероятно, меньше, и они были бы ниже по качеству. Количество вина, которое она отдаёт в обмен на английское сукно, не определяется соответственными количествами труда, затрачиваемого на производство того или другого, как это имело бы место, если бы оба товара изготовлялись или в Англии, или в Португалии. В Англии условия могут быть таковы, что производство сукна требует труда 100 рабочих в течение года, а на производство вина, если бы она вздумала выделывать его, потребовался бы труд 120 человек в течение того же времени. Поэтому Англия найдёт более выгодным ввозить вино и покупать его посредством вывоза сукна. Производство вина в Португалии может требовать труда только 80 человек в течение года, а производство сукна потребовало бы труда 90 человек в течение того же времени. Поэтому для неё будет выгодно вывозить вино в обмен на сукно. Этот обмен может иметь место даже в том случае, если ввозимый Португалией товар мог быть произведён там с меньшим количеством труда, чем в Англии. Хотя бы она могла изготовить сукно трудом 90 человек, она будет ввозить его из страны, где на производство его требуется труд 100 человек. Для неё будет выгоднее употреблять свой капитал предпочтительно на производство вина, за которое она получит больше сукна из Англии, чем она произвела бы сама, если бы она переместила часть своего капитала из виноделия в производство сукон. Таким образом, Англия отдавала бы продукт труда 100 человек за продукт труда 80. Такой обмен не мог бы иметь места между индивидами одной и той же страны. Труд 100 англичан не может быть отдан за труд 80 англичан, но продукт труда 100 англичан может быть отдан за продукт труда 80 португальцев, 60 русских или 120 индусов. Разница в этом отношении между одной страной и многими легко объясняется, если мы примем во внимание трудность перемещения капитала из одной страны в другую в поисках более прибыльного занятия и подвижность, с какою он неизменно перемещается из одной области в другую в пределах одной и тон же страны <Оказывается, таким образом, что страна, обладающая очень значительными преимуществами по части машин и мастерства и изготовляющая поэтому товары с помощью гораздо меньшего количества труда, чем её соседи, может ввозить в обмен на такие товары часть хлеба, требующегося для её потребления, даже в том случае, если её земля плодороднее и возделывание хлеба требует в ней меньше труда, чем в стране, откуда ее ввозится. Два человека выделывают обувь и шляпы, и один превосходит другого в обоих занятиях, но, изготовляя шляпы, он может превзойти своего соперника на одну пятую, или на 20%, а изготовляя обувь, - на одну треть, или на 33%; не будет ли для них выгоднее, чтобы более искусный занялся исключительно изготовлением обуви, а менее искусный - производством шляп?>. Несомненно, как для английских капиталистов, так и для потребителей обеих стран было бы выгодно, чтобы при таких обстоятельствах и вино и сукно изготовлялись в Португалии и, следовательно, чтобы английский капитал и труд, занятые в производстве сукна, переместились для той же цели в Португалию. В таком случае относительная стоимость этих товаров регулировалась бы тем же самым принципом, как если бы один из них производился в Йоркшире, а другой в Лондоне; и во всех других случаях при свободном перемещении капитала в те страны, где он мог бы быть применён наиболее прибыльно, не было бы никакой разницы в норме прибыли и никакой другой разницы в реальной или трудовой цене товаров, кроме той, которая определяется добавочным количеством труда, требующимся для перевозки их на разные рынки, где они должны быть проданы. Опыт, однако, показывает, что воображаемое или действительно неуверенное положение капитала, который уже не находится под непосредственным контролем своего владельца, естественное нерасположение всех людей покидать свою родину, рвать старые связи и вверять себя со всеми своими установившимися привычками чужестранному правительству и новым законам задерживают эмиграцию капитала. Эти чувства, ослабление которых мне было бы печально видеть, побуждают большинство лиц со средствами скорее довольствоваться низкой нормой прибыли у себя на родине, чем искать более выгодного помещения для своего богатства в чужих странах. Так как золото и серебро были выбраны всеобщим средством обращения, то торговая конкуренция распределяет их между различными странами мира в пропорциях, соответствующих естественному обмену, который имел бы место, если бы не существовало таких металлов и международная торговля была чисто меновой торговлей. Так, сукно не может ввозиться в Португалию, если не продаётся там за большее количество золота, чем то, которого оно стоит в стране, откуда оно ввозится, и вино не может ввозиться в Англию, если оно не продаётся выше своей стоимости в Португалии. Если бы торговля была чисто меновой торговлей, то она могла бы продолжаться лишь до тех пор, пока Англия могла бы выделывать сукно так дёшево, чтобы получать с помощью данного количества труда, затраченного на сукно, больше вина, чем если бы она занималась виноделием, и пока в Португалии промышленность даёт противоположные результаты. Предположим теперь, что Англия открыла такой способ выделки вина, при котором ей выгоднее самой производить его, чем ввозить; естественно, часть своего капитала она перенесёт из внешней торговли во внутреннюю: она перестанет изготовлять сукно для вывоза и станет возделывать для себя виноград. В соответствии с этим будет регулироваться и денежная цена этих товаров: в Англии цена вина упадёт, а цена сукна останется без изменения, в Португалии же не произойдёт никакого изменения в цене ни того, ни другого товара. Сукно будет в течение некоторого времени попрежнему вывозиться от нас, потому что цена его в Португалии будет попрежнему выше, чем здесь; но вместо вина за него будут расплачиваться деньгами, до тех пор пока накопление денег здесь и уменьшение их количества за границей не повлияют на относительную стоимость сукна в обеих странах так, что вывоз его перестанет быть прибыльным. Если усовершенствование в выделке вин будет весьма значительно, то для обеих стран может оказаться выгодным поменяться занятиями так, чтобы Англия производила всё вино, а Португалия всё сукно, потребляемые ими; но это может произойти только при посредстве нового распределения драгоценных металлов, которое подняло бы цену сукна в Англии и понизило её в Португалии. Относительная цена вина упала бы в Англии вследствие действительной выгоды, полученной благодаря усовершенствованию его выделки, иначе говоря, оттого, что его естественная цена упала бы; относительная же цена сукна поднялась бы тут вследствие накопления денег. Так, предположим, что до введения улучшений в выделке вина в Англии цена его равнялась здесь 50 ф. ст. бочка, а цена известного количества сукна - 45 ф. ст., тогда как в Португалии цена того же количества вина была 45 ф. ст., а того же количества сукна - 50 ф. ст.; вино вывозилось бы из Португалии с прибылью в 5 ф. ст., а сукно из Англии - с прибылью того же размера. Предположим, что после введения усовершенствований цена вина упадёт в Англии до 45 ф. ст., а цена сукна останется без изменения. Всякая сделка в торговле есть самостоятельная сделка. Пока купец может покупать сукно в Англии по 45 ф. ст. и продавать его с обычной прибылью в Португалии, он будет продолжать вывозить его из Англии. Его дело заключается просто в покупке английского сукна с уплатой за него векселем, который он покупает на португальские деньги. Для него совершенно безразлично, что станется с этими деньгами: он расплатится со своим долгом, переведя вексель. Его сделка, несомненно, регулируется условиями, на каких он может получить этот вексель, но они известны ему в данное время, а до причин, которые могут повлиять на рыночную цену векселей, или вексельный курс, ему нет дела. Если условия рынка будут благоприятны для вывоза вина из Португалии в Англию, то экспортёр вина будет продавцом векселя, который будет куплен или импортёром сукна, или лицом, которое продало ему свой вексель. Таким образом, экспортёрам в каждой стране будет уплачено за их товары без перемещения денег из одной страны в другую. Деньги, уплаченные в Португалии импортёром сукна, будут уплачены португальскому экспортёру вина, хотя между этими двумя лицами нет никаких прямых сделок, а в Англии путём учёта того же векселя экспортёр сукна приобретёт право получить его стоимость от импортёра вина. Но если цены на вино будут таковы, что вино не может вывозиться в Англию, импортёр сукна будет попрежнему покупать вексель, однако цена этого векселя будет выше, потому что продавец его знает, что на рынке нет обратного векселя, с помощью которого он мог бы в конечном итоге ликвидировать счёты между двумя странами. Он мог бы знать, что золотые или серебряные деньги, которые он получил в уплату за свой вексель, должны быть действительно пересланы его корреспонденту в Англию, чтобы дать последнему возможность уплатить по векселю, на предъявление которого даны соответствующие полномочия; он мог бы поэтому включить в цену своего векселя все могущие возникнуть издержки вместе со своей нормальной и обычной прибылью. Если, следовательно, эта премия за вексель на Англию будет равна прибыли от ввоза сукна, то ввоз, конечно, прекратится. Но если премия на вексель будет составлять только 2%, если, чтобы иметь возможность покрыть долг в 100 ф. ст. в Англии, надо уплатить в Португалии 102 ф. ст., тогда как сукно, обходящееся в 45 ф. ст., будет продано за 50 ф. ст., то сукно будет ввозиться. Векселя будут тогда покупать и деньги вывозить до тех пор, пока уменьшение количества денег в Португалии и накопление их в Англии не приведут к такому состоянию цен, при котором уже будет невыгодно продолжать дальше эти сделки. Но уменьшение количества денег в одной стране и увеличение количества их в другой влияют на цену не одного только товара, а на цены всех. Поэтому цена как вина, так и сукна повысится в Англии и понизится в Португалии. Цена сукна поднимется, вероятно, выше 45 ф. ст. в одной стране и упадёт ниже 50 ф. ст. в другой, т. е. до 49 или 48 ф. ст. в Португалии и до 46 или 47 ф. ст. в Англии; после уплаты премии за вексель такие цены не будут давать достаточной прибыли, чтобы какой-либо купец имел стимул ввозить этот товар. Таким именно образом деньги распределяются между отдельными странами только в таких количествах, какие необходимы для регулирования прибыльной меновой торговли. Англия вывозила сукно в обмен на вино, потому что при таком образе действий её труд становится для неё более производительным; она имела больше сукна и вина, чем если бы выделывала то и другое для себя самой, а Португалия ввозила сукно и вывозила вино, потому что труд Португалии мог с большей выгодой для обеих стран быть употреблён на выделку вина. Если в Англии станет труднее производить сукно или в Португалии вино или же в Англии станет легче производить вино, а в Португалии сукно, то торговля должна будет немедленно прекратиться. Если в Португалии условия нисколько не изменились, но Англия находит, что может более производительно применять свой труд в виноделии, то меновая торговля между двумя странами сейчас же изменяется. Не только останавливается вывоз вина из Португалии, но происходит и новое распределение драгоценных металлов, и ввоз сукна в неё тоже прекращается. Обе страны, вероятно, найдут более выгодным производить своё собственное вино и своё собственное сукно, но это приведёт к следующему своеобразному результату: хотя в Англии вино и подешевеет, но цена сукна повысится, и потребитель будет платить за него больше, между тем как в Португалии потребители и сукна и вина будут иметь возможность покупать эти товары дешевле. В стране, где имело место усовершенствование, цены повысятся, в стране, где не произошло никакого изменения, но которая лишилась прибыльной отрасли внешней торговли, цены упадут. Это, однако, будет для Португалии лишь кажущейся выгодой, потому что общее количество вина и сукна, производимого в ней, уменьшится, тогда как в Англии увеличится. В известной степени стоимость денег изменится в обеих странах: она понизится в Англии и повысится в Португалии. Выраженный в деньгах весь доход Португалии уменьшится; выраженный в той же мере весь доход Англии возрастёт. Таким образом, оказывается, что улучшение в том или другом производстве в какой-либо стране имеет тенденцию изменять распределение драгоценных металлов между нациями мира: оно создаёт тенденцию к умножению количества товаров и в то же время к повышению средних цен в той стране, где имеет место это улучшение. Для упрощения вопроса я предполагал, что торговля между двумя странами ограничивается двумя товарами - вином и сукном, но хорошо известно, что в списках вывоза и ввоза значится много разных товаров. Отлив денег из одной страны и накопление их в другой отражается на ценах всех товаров и, следовательно, поощряет вывоз многих других товаров сверх денег, а это в свою очередь ослабляет то резкое воздействие на стоимость денег в обеих странах, какого можно было бы ожидать при других условиях. Кроме улучшений в методах производства и машинах есть ещё много других причин, которые постоянно влияют на естественное течение торговли и нарушают равновесие и относительную стоимость денег. Вывозные или ввозные премии и новые налоги на товары нарушают иногда прямо, а иногда косвенно естественную меновую торговлю и вызывают, таким образом, необходимость ввоза или вывоза денег для приспособления цен к естественному течению торговли. И такой результат имеет место не только в стране, где возникла причина пертурбации, но и в большей или меньшей мере во всех странах торгового мира. Это до известной степени объясняет различную стоимость денег в разных странах и показывает также, почему цены отечественных товаров, а также громоздких товаров, хотя бы последние и имели сравнительно небольшую стоимость, будучи независимы от других причин, выше в тех странах, где процветает промышленность. Если мы возьмём две страны с совершенно одинаковым населением, с одним и тем же количеством одинаково плодородной земли под обработкой и одинаковым знанием сельского хозяйства, то цены сырых материалов будут наиболее высокими в той стране, которая искуснее в производстве товаров, предназначенных для вывоза, и пользуется лучшими машинами. Норма прибыли будет, вероятно, различаться очень мало, потому что заработная плата, или реальное вознаграждение рабочего, может быть одинакова в обеих странах; но заработная плата, как и сырые материалы, будет оцениваться в большей сумме денег в той стране, куда вследствие выгод, вытекающих из превосходства её мастеров и машин, деньги ввозятся в изобилии в обмен за её товары. Если одна из этих стран будет иметь преимущество в изготовлении товаров одного рода, а другая - в изготовлении товаров другого рода, то ни в той, ни в другой не будет наблюдаться очень резкого прилива драгоценных металлов; но если одна из них имеет решительный перевес над другой, то этот результат будет неизбежен. В предыдущей части настоящего труда мы для развития аргументации принимали, что деньги всегда сохраняют одинаковую стоимость; теперь же мы стараемся показать, что, кроме обычных изменений в стоимости денег и тех, которые общи всему торговому миру, бывают также частные изменения, которым деньги подвергаются в отдельных странах; стоимость денег никогда не бывает одинаковой в двух странах в силу различий в их системах налогов, в уровне промышленного мастерства, а также благодаря преимуществам климата, естественным богатствам и многим другим причинам. Но хотя стоимость денег непрерывно изменяется и вследствие этого цены товаров, которые производятся в большинстве стран, также значительно разнятся, ни прилив, ни отлив денег не оказывают никакого действия на норму прибыли. Капитал не возрастёт вследствие увеличения количества средств обращения. Если рента, уплачиваемая фермером землевладельцу, и заработная плата, уплачиваемая им рабочим, в одной стране на 20% выше, чем в другой, и если в то же время и номинальная стоимость капитала фермера на 20% выше, то норма его прибыли будет так же велика, как и прежде, хотя он и продаёт свой сырой продукт на 20% дороже. Прибыль - и это необходимо каждый раз повторять - зависит от заработной платы - не от номинальной, но от реальной заработной платы, не от числа фунтов стерлингов, уплачиваемых ежегодно рабочему, а от числа дней труда, необходимого для получения этих фунтов. Поэтому заработная плата может быть совершенно одинакова в двух странах, может находиться в одинаковом отношении к ренте и ко всему продукту, получаемому от земли, хотя бы в одной стране рабочий получал 10 шилл. в неделю, а в другой - 12. На ранних стадиях общественного развития, когда промышленность развита мало и все страны производят почти одни и те же товары, преимущественно громоздкие и наиболее полезные предметы, стоимость денег в различных странах регулируется главным образом расстоянием последних от рудников, доставляющих драгоценные металлы; но, по мере того как в обществе развиваются ремёсла и всё более применяются технические улучшения, различные нации приобретают особенный опыт в отдельных отраслях промышленности, и главным регулятором стоимости драгоценных металлов становится превосходство в количестве таких отраслей, хотя расстояние всё ещё входит в расчёт. Предположим, что все нации производят только хлеб, скот и грубое сукно и что страны, в которых эти товары производятся или которые ими распоряжаются, могут получить золото путём вывоза этих товаров. Естественно, что золото будет иметь большую меновую стоимость в Польше, чем в Англии, ввиду больших издержек на пересылку такого громоздкого товара, как хлеб, на более далёкое расстояние и большей стоимости доставки золота в Польшу. Эта разница в цене золота, или, что то же самое, в цене хлеба, в двух странах существовала бы, даже если бы лёгкость производства хлеба в Англии значительно превосходила лёгкость производства хлеба в Польше в силу большего плодородия почвы и превосходства в мастерстве и орудиях рабочего. Если, однако, Польша первая усовершенствует свою промышленность, если она будет успешно изготовлять товар, на который всюду имеется спрос и который в малом объёме заключает большую стоимость, или если природа благословит ее каким-нибудь продуктом, на который всюду имеется спрос и которым не обладает никакая другая страна, то в обмен на этот товар она будет получать добавочное количество золота, которое будет оказывать влияние на цену её хлеба, скота и грубого сукна. Невыгоды расстояния будут, вероятно, более чем уравновешены выгодами обладания экспортным товаром большей стоимости, и деньги будут постоянно иметь в Польше более низкую стоимость, чем в Англии. Если, напротив, превосходство мастерства и машин будет на стороне Англии, то прибавится ещё одно основание, в силу которого золото должно иметь меньшую стоимость в Англии, чем в Польше, а хлеб, скот и сукно должны быть дороже в первой стране. Вот, по моему мнению, те две причины, которые одни только регулируют сравнительную стоимость денег в разных странах мира; хотя налоги и вызывают нарушение равновесия в количестве денег, но это происходит оттого, что они лишают страну, в которой введены, некоторых из преимуществ, связанных с квалификацией труда, трудолюбием и климатом. Я старался тщательно установить различие между низкой стоимостью денег и высокой стоимостью хлеба или всякого другого товара, с которым могут быть сравниваемы деньги. Обыкновенно считают, что в данном случае мы имеем дело с одним и тем же явлением, но очевидно, что когда цена хлеба повышается с 5 до 10 шилл. за бушель, то это может быть вызвано или падением стоимости денег, или повышением стоимости хлеба. Так, мы видели, что в силу необходимости прибегать последовательно к обработке земли всё худшего и худшего качества, чтобы прокормить возрастающее население, стоимость хлеба должна повышаться в сравнении со стоимостью других предметов. Если поэтому стоимость денег остаётся постоянной, то хлеб будет обмениваться на большие количества таких денег, т. е. цена его будет повышаться. Такое же повышение цены хлеба может произойти вследствие усовершенствования машин в промышленности, благодаря которому мы будем в состоянии изготовлять товары особенно дёшево: ведь последствием этого будет прилив денег, стоимость их упадёт, и потому они будут обмениваться на меньшее количество хлеба. Но результаты высокой цены хлеба, вызванной повышением стоимости хлеба или падением стоимости денег, будут совершенно различны. В обоих случаях денежная цена заработной платы повысится, но если это происходит вследствие падения стоимости денег, то поднимается не только денежная заработная плата и цена хлеба, но и цена всех других товаров. Если фабриканту придётся платить больше в качестве заработной платы, то он будет и получать больше за изготовляемые им товары, и норма прибыли останется без изменения. Но, когда повышение цены хлеба является результатом трудности производства, прибыль падает, потому что фабрикант будет вынужден платить более высокую заработную плату и не будет в состоянии вознаградить себя за это повышением цены своих промышленных товаров. Всякое улучшение в горном деле, вследствие которого металлы могут быть добываемы с помощью меньшего количества труда, вообще понижает стоимость денег. Последние будут обмениваться тогда на меньшее количество товаров во всех странах; но если какая-либо отдельная страна отличается своей промышленностью, так что усиливается прилив денег к ней, то стоимость последних будет в такой стране ниже, а цены хлеба и труда относительно выше, чем в других странах. Эта более высокая стоимость денег не будет диктоваться вексельным курсом; векселя могут обмениваться попрежнему al pari, хотя цены хлеба и труда будут в одной стране на 10, 20 или 30% выше, чем в другой. При предположенных обстоятельствах такая разница в ценах будет в порядке вещей, и вексельный курс может стоять al pari, только когда в страну, отличающуюся своей промышленностью, ввезено количество денег, достаточное для того, чтобы цены хлеба и труда в ней повысились. Правда, если другие страны воспрепятствуют вывозу денег и сумеют заставить повиноваться такому закону, то они могут действительно помешать повышению цен на хлеб и труд в промышленной стране. Ибо такое повышение может иметь место только в случае прилива драгоценных металлов при условии, конечно, что бумажные деньги не употребляются. Но эти страны не могут помешать тому, чтобы вексельный курс был очень неблагоприятен для них. Если бы Англия была такой промышленной страной и если бы было возможно помешать ввозу денег, то вексельный курс с Францией, Голландией и Испанией мог бы быть на 5, 10 пли 20% против этих стран. Когда денежный поток насильственно задерживается и имеются препятствия для удержания денег на их нормальном уровне, то нет границ возможным изменениям вексельного курса. Результаты получаются точно такие же, как и результаты внедрения в обращение бумажных денег, не могущих быть размененными на металл по желанию их владельца. Обращение таких денег необходимо ограничивается страной, где они выпущены: они не могут при большом изобилии их разлиться по другим странам. Уровень обращения нарушен, и вексельный курс будет неизбежно неблагоприятен для страны, где количество средств обращения чрезмерно. Точно таким было бы действие металлического обращения, если бы при помощи насильственных мер, законов, которые нельзя обойти, деньги удерживались в стране, в то время как течение торговли толкает их в направлении к другим странам. Когда каждая страна имеет как раз такое количество денег, какое она должна иметь, деньги не будут в действительности иметь одинаковой стоимости во всех странах: по отношению ко многим товарам разница эта может составлять 5, 10 или даже 20%, но вексельный курс будет al pari. 100 ф. ст. в Англии или серебро, заключающееся в 100 ф. ст., купят вексель на 100 ф. ст. или равное количество серебра во Франции, Испании или Голландии. Говоря о вексельном курсе и сравнительной стоимости денег в разных странах, мы отнюдь не должны принимать во внимание стоимость денег, выраженную в товарах той или другой страны. Вексельный курс никогда не определяется путём оценки сравнительной стоимости денег в хлебе, сукне или каком-либо другом товаре, но посредством оценки стоимости средств обращения одной страны в средствах обращения другой. Его можно установить путём сравнения с каким-нибудь мерилом, общим для обеих стран. Если вексель на 100 ф. ст. на Англию купит то же количество товаров во Франции или Испании, что и вексель на ту же сумму на Гамбург, то вексельный курс между Гамбургом и Англией стоит al pari; но если вексель на 130 ф. ст. на Англию купит не больше, чем вексель на 100 ф. ст. на Гамбург, то вексельный курс на 30% против Англии. В Англии 100 ф. ст. могут купить вексель или право получить 101 ф. ст. в Голландии, 102 ф. ст. во Франции и 105 ф. ст. в Испании. В этом случае говорят, что вексельный курс между Англией и этими странами на 1 % против Голландии, на 2% против Франции и на 5% против Испании. Это показывает, что уровень денежного обращения в этих странах выше, чем следует, и сравнительная стоимость денег, находящихся в обращении у них и в Англии, немедленно возвратится к al pari при уменьшении их обращения или увеличении его в Англии. Те, которые утверждают, что наши деньги были обесценены в течение последних десяти лет, когда вексельный курс колебался от 20 до 30 % против Англии, никогда не оспаривали - хотя их в этом упрекали, - что стоимость денег относительно разных товаров не может быть в одной стране больше, чем в другой; но они настаивали, что 130 ф. ст. могли быть удержаны в Англии только в случае их обесценения, если, оцениваемые в деньгах Гамбурга или Голландии, они представляли не большую стоимость, чем слиток в 100 ф. ст. Послав 130 полноценных английских фунтов в Гамбург, я имел бы там 125 ф, ст. даже при расходе в 5 ф. ст. на пересылку; что же в таком случае заставляло меня давать 130 ф. ст. за вексель, который дал бы мне 100 ф. ст. в Гамбурге, если не то, что мои фунты не были полноценными фунтами стерлингов? Последние были бы испорчены, внутренняя стоимость их была бы ниже гамбургских фунтов, и, будь они действительно посланы туда, они были бы проданы только за 100 ф. ст. По отношению к металлическим фунтам стерлингов никто не отрицает, что за свои 130 ф. ст. я получил бы в Гамбурге 125 ф. ст., но за бумажные фунты стерлингов я могу получить только 100 ф. ст.; и, однако, утверждали, что 130 ф. ст. бумажных равнялись по стоимости 130 ф. ст. в серебре или золоте. Правда, некоторые утверждали с большим основанием, что 130 ф. ст. бумажных не равнялись по стоимости 130 ф. ст. металлическим, но они говорили, что изменилась стоимость не бумажных, а металлических денег. Они хотели ограничить смысл слова "обесценение" действительным падением стоимости, а не сравнительной разницей между стоимостью денег и того эталона, которым она по закону регулируется. 100 ф. ст. английских денег прежде имели такую же стоимость, как 100 ф. ст. гамбургских денег, и могли купить их: во всякой другой стране вексель в 100 ф. ст. на Англию или на Гамбург мог купить совершенно одинаковое количество товаров. Но чтобы получить те же самые вещи в данное время я должен был отдавать 130 ф. ст. английских денег, тогда как Гамбург мог получить их за 100 ф. ст. гамбургских денег. Если английские деньги имели ту же стоимость, что и прежде, то стоимость гамбургских должна была подняться. Но где доказательство этого? Как удостовериться, что упала стоимость английских денег или что поднялась стоимость гамбургских? Нет меры, с помощью которой можно было бы определить это. Это - довод, который не допускает никакого доказательства, его нельзя ни полностью утверждать, ни полностью отрицать. Нации всего мира давно уже должны были убедиться в том, что в природе нет эталона стоимости, к которому они могли бы безошибочно прибегать, и потому избрали меру, которая в общем итоге казалась им менее изменчивой, чем всякий другой товар. С этой мерой мы должны сообразоваться, пока не изменён закон и не найден какой-нибудь другой товар, пользуясь которым мы получим более совершенную меру, чем та, какую мы установили. Пока золото является в этой стране единственным эталоном, деньги обесцениваются, когда фунт стерлингов не равен но своей стоимости 5 драхмам и 3 гранам золота установленной пробы, независимо от того, поднимается или падает обычная стоимость золота. Глава 8. О налогах
Налоги составляют ту долю продукта земли и труда страны, которая поступает в распоряжение правительства; они всегда уплачиваются в конечном счёте или из капитала, или из дохода страны. Мы уже показали, что капитал страны является или основным, или оборотным в зависимости от степени своей долговечности. Трудно определить с точностью, где начинается разница между основным и оборотным капиталами, потому что число степеней долговечности капитала почти бесконечно. Пища страны потребляется и воспроизводится по крайней мере раз в год; платье рабочего потребляется и воспроизводится, вероятно, не чаще, чем каждые два года; дом его и обстановка рассчитаны на десяти-двадцатилетний период. Когда годовое производство данной страны значительно превышает её годовое потребление, говорят, что капитал её возрастает; когда её годовое потребление даже не покрывается её годовым производством, говорят, что её капитал уменьшается. Таким образом, капитал может увеличиться или вследствие увеличения производства, или вследствие уменьшения [непроизводительного] <Вставка в третьем издании. - Прим. ред.> потребления. Если потребление правительства возрастает вследствие взимания добавочных налогов и покрывается или увеличением производства, или уменьшением потребления со стороны народа, то налоги падают на доход, и национальный капитал остаётся нетронутым; но если производство не увеличится или [непроизводительное] <Вставка в третьем издании. - Прим. ред.> потребление всего народа не уменьшится, то налоги необходимо упадут на капитал [т. е. будет затронут фонд, предназначенный для производительного потребления <Не следует упускать из виду, что все продукты страны потребляются, но разница между потреблением их теми, кто воспроизводит их стоимость вновь, или же теми, кто не воспроизводит её, неизмеримо велика. Когда мы говорим, что доход сберегается и прибавляется к капиталу, мы подразумеваем, что та доля дохода, о которой говорится, как о прибавке к капиталу, потребляется производительными рабочими вместо непроизводительных. Не может быть большего заблуждения, чем предположение, что капитал увеличивается от непотребления. Если бы цена труда поднялась до такой высоты, что, несмотря на увеличение капитала, он не мог бы быть применён в большем количестве, то я сказал бы, что такое приращение капитала будет опять-таки потреблено непроизводительно>] <Вставка в третьем издании. - Прим. ред.>. Соразмерно уменьшению капитала страны необходимо уменьшится и её производство; поэтому если такие [непроизводительные] <Вставка в третьем издании. - Прим. ред.> расходы народа и правительства продолжаются и если годовое воспроизводство постоянно уменьшается, то ресурсы народа и государства будут падать с возрастающей быстротой, и результатом будут нищета и разорение. Несмотря на огромные расходы английского правительства за последние 20 лет, едва ли можно сомневаться в том, что возрастание национального производства более чем уравновешивало их. Национальный капитал не только не был затронут, но и значительно возрос, и годовой доход народа даже за вычетом налогов в настоящее время, вероятно, больше, чем в какой-нибудь прежний период нашей истории. В доказательство этого мы можем сослаться на увеличение населения, расширение земледелия, развитие судостроения и промышленности, сооружение доков, прорытие многочисленных каналов и на многие другие дорогостоящие предприятия; всё это указывает на умножение как капитала, так и годового производства. [Верно, однакоже, что, не будь налогов, это увеличение капитала было бы гораздо больше. Таких налогов, которые не имели бы тенденции уменьшать силу накопления, нет. Все налоги необходимо падают или на капитал, или на доход. Если они падают на капитал, то должен соответственно уменьшиться тот фонд, размером которого всегда регулируется производительная деятельность страны, а если они падают на доход, то они или уменьшают накопление, или заставляют налогоплательщиков уменьшать для покрытия их на соответствующую величину своё прежнее непроизводительное потребление предметов жизненной необходимости и комфорта. Одни налоги] <В первом издании сказано было: "Нет таких налогов, которые не имели бы тенденции уменьшать накопления, ибо нет таких, которые не могли бы быть рассматриваемы как задерживающие производство и причиняющие такие же последствия, как плохая почва или климат, снижение квалификации или трудолюбия, ухудшение системы разделения труда или утрата каких-нибудь полезных машин. И хотя некоторые налоги" и далее как в тексте> оказывают такое действие в большей степени, чем другие, но великое зло налогового обложения заключается не столько в том, что оно падает на те или другие объекты, сколько в его действии, взятом в целом. Налоги не необходимо падают на капитал, когда обложен капитал, или на доход, когда обложен доход. Если из дохода в 1 тыс. ф. ст. в год мне приходится уплачивать 100 ф. ст., то это действительно будет налог на доход в том случае, если я удовлетворюсь расходованием остальных 900 ф. ст., но если я расходую попрежнему 1 тыс. ф. ст., то это будет налог на капитал. Пусть капитал, приносящий мне доход в 1 тыс. ф. ст., равняется 10 тыс. ф. ст., а налог в 1 % на такой капитал составит 100 ф. ст., но если, уплатив этот налог, я буду тратить на себя только 900 ф. ст., то мой капитал не будет опять-таки затронут им. Свойственное каждому человеку желание сохранять своё общественное положение и удерживать своё богатство на раз достигнутой высоте ведёт к тому, что большинство налогов, будут ли то налоги на капитал или же на доход, уплачивается из дохода. Поэтому с ростом обложения или с умножением правительственных расходов то количество предметов комфорта, которым пользуется народ, должно уменьшаться, если только он не сможет соответственно увеличить свой капитал и свой доход. Задача политики правительства и должна состоять в том, чтобы поощрять это стремление к накоплению. Оно никогда не должно вводить такие налоги, которые неминуемо падают на капитал. Поступая так, оно затрагивает фонд, предназначенный для содержания труда, и тем самым уменьшает будущее производство страны. В Англии такой политикой пренебрегали. Так, были введены пошлины за утверждение завещаний, налоги на наследство и всякие налоги на переход собственности от умерших к живым. Если наследство в 1 тыс. ф. ст. обложено налогом в 100 ф. ст., то наследник считает его равным только 900 ф. ст. и не чувствует особенного побуждения покрыть налог в 100 ф. ст. посредством сбережений на своих расходах: капитал страны таким образом уменьшается. Между тем, если бы он получил действительно 1 тыс. ф. ст. и обязан был уплатить 100 ф. ст. в качестве налога на доход, на вино, на лошадей или на слуг, он, вероятно, сократил бы свои расходы на эту сумму или, скорее, не стал бы их умножать, и капитал страны остался бы нетронутым. "Налоги при переходе собственности от умершего к живущему, - говорит Адам Смит, - ложатся в конце концов, а также непосредственно, на лицо, которому передаётся собственность. Налоги при продаже земли ложатся целиком на продавца. Последний почти всегда продаёт по необходимости и должен поэтому соглашаться на такую цену, какую может получить; покупатель почти никогда не бывает вынужден купить и потому даёт только такую цену, какую считает нужным. Он подсчитывает, во сколько должна ему обойтись земля вместе с налогом; чем больше он обязан платить в виде налога, тем меньше согласится он заплатить за землю. Поэтому такие налоги ложатся почти всегда на лицо, испытывающее нужду, а следовательно, должны быть часто очень жестоки и притеснительны". "Гербовый и нотариальный сборы с обязательств и договоров в связи с займом денег ложатся целиком на занимающего и на деле всегда оплачиваются им. Такого же рода сборы с судебных бумаг ложатся на тяжущихся. Они уменьшают для обеих сторон капитальную стоимость спорного объекта. Чем дороже обходится приобретение собственности, тем меньше будет её чистая стоимость после приобретения. Все налоги при переходе из рук в руки собственности всех видов, поскольку они уменьшают капитальную стоимость этой собственности, ведут к уменьшению фонда, предназначенного для содержания производительного труда. Они все в большей или меньшей степени представляют собой невыгодные налоги, которые увеличивают доход государя, редко содержащего других работников, кроме непроизводительных, за счёт капитала народа, который содержит лишь производительный труд" <Адам Смит, Исследование о природе и причинах богатства народов, т. II, Соцэкгиз, 1935, стр. 374. - Прим. ред.>. Но это не единственное возражение против налогов на передачу имущества; они мешают распределению национального капитала наиболее благотворным для общества образом. В интересах общего благосостояния необходимо всячески облегчать переход и обмен всякого рода имущества, так как только благодаря этому капитал всякого рода скорее найдёт себе путь в руки тех, кто даст ему наилучшее применение, увеличивая производство страны. "Почему, - спрашивает Сэй, - человек хочет продать свою землю? Потому, что имеет в виду другое, более производительное помещение для своих средств. Зачем другой хочет купить эту самую землю? Чтобы дать приложение капиталу, который приносит ему слишком мало или остаётся без употребления, или же может быть использован, по его мнению, лучше. Этот обмен умножит общий доход посредством умножения дохода обеих сторон. Но если пошлины настолько обременительны, что мешают этой сделке, то они являются препятствием к увеличению общего дохода" <Say, Economie politique, 2nd ed., 1814, v. II, p. 312>. Но эти налоги легко собираются, и многие могут подумать, что это несколько искупает их вредное действие. Глава 9. Налоги на сырые материалы
В одной из предыдущих глав этого труда было, как мне кажется, вполне удовлетворительно доказано, что цена хлеба регулируется издержками его производства исключительно на той земле, или, лучше сказать, с тем капиталом, который не приносит никакой ренты. Следовательно, всё, что может увеличить издержки производства, будет увеличивать цену, а всё, что может понизить издержки производства, будет понижать цену. Необходимость прибегать к обработке худшей земли или же уменьшение выручки при приложении данного добавочного капитала к уже обрабатываемой земле будет неизбежно повышать меновую стоимость сырых материалов. Изобретение машин, которые позволяют земледельцу получать хлеб с меньшими издержками производства, будет необходимо понижать его меновую стоимость. Всякий налог, будь то земельный налог, десятина или же налог на уже полученный продукт, будет увеличивать издержки производства и, следовательно, повышать цену сырых материалов. Если цена сырых материалов не поднимается настолько, чтобы возместить земледельцу налог, то он, естественно, покинет занятие, в котором его прибыль упала ниже общего уровня прибыли; это вызовет уменьшение предложения, пока не уменьшающийся спрос не приведёт к такому повышению цены сырья, что производство его станет так же прибыльно, как и помещение капитала во всякую другую отрасль промышленности. Повышение цены есть единственное средство, с помощью которого земледелец может уплатить налог и получать попрежнему обычную среднюю прибыль от такого употребления своего капитала. Он не мог бы вычесть налог из ренты и заставить землевладельца платить его, потому что он не платит никакой ренты. Он не мог бы вычесть его из своей прибыли, потому что у него нет оснований продолжать дело, которое даёт малую прибыль, когда все другие занятия дают большую. Таким образом, не подлежит никакому сомнению, что он будет иметь возможность поднять цену сырых материалов на сумму, равную налогу. Налог на сырые материалы не будет уплачен ни землевладельцем, ни фермером; его уплатит в повышенной цене потребитель. Следует помнить, что рента есть разность между количествами продукта, получаемого от приложения равных долей труда и капитала к земле одного и того же или различного качества. Надо помнить, кроме того, что денежная и хлебная земельные ренты изменяются не в одинаковой пропорции. Налог на сырые материалы, земельный налог или десятина влияют на изменение хлебной ренты, но оставляют без изменения денежную ренту. Если, как мы предполагали раньше, обрабатывается земля трёх разрядов и при равных капиталах
то рента N 1 будет равна 20 квартерам - разности между N 1 и N 3, рента N 2 - 10 квартерам - разности между N 2 и N 3, а N 3 не будет давать ренты вовсе. При цене хлеба в 4 ф. ст. за квартер денежная рента N 1 составила бы 80 ф. ст., а N 2 - 40 ф. ст. Предположим теперь, что хлеб обложен налогом в 8 шилл. с квартера; в таком случае цена его повысится до 4 ф. ст. 8 шилл., и если бы землевладельцы получали прежнюю хлебную ренту, то рента N 1 равнялась бы 88 ф. ст., а N 2 - 44 ф. ст. Но они не получат прежней хлебной ренты: налог упадёт с большей силой на N 1, чем на N2, и на N 2, чем на N 3, потому что будет взиматься с большего количества хлеба. Цену регулирует трудность производства на N 3, и она повысится до 4 ф. ст. 8 шилл., чтобы прибыль на капитал, прилагаемый к N 3, могла быть на одном уровне с обычной прибылью на капитал. Продукт и налог, получаемые с земли трёх разрядов, будут таковы:
Денежная рента N 1 будет попрежнему равняться 80 ф. ст., или разности между 720 ф. ст. и 640 ф. ст., а денежная рента N 2 - 40 ф. ст., или разности между 680 ф. ст. и 640 ф. ст., т. е. такой же сумме, как и раньше, но хлебная рента N 1 понизится с 20 квартеров до 18,2 - разности между 163,7 и 145,5 квартера, а хлебная рента N 2 - с 10 квартеров до 9,1 [разности между 154,6 и 145,5 квартера] <Вставка во втором и третьем изданиях. - Прим. ред.>. Итак, налог на хлеб падёт на потребителей хлеба и повысит его стоимость сравнительно со стоимостью всех других товаров прямо пропорционально налогу. Поскольку сырые материалы входят в состав других товаров, стоимость последних тоже повысится, если действие налога не уравновесится действием других причин. Фактически они будут обложены косвенно, и стоимость их повысится в соответствии с налогом. Однако налог на сырые материалы и на предметы насущной необходимости для рабочего будет иметь и другое действие: он повысит заработную плату. В силу влияния закона населения на размножение человечества заработная плата самого низшего разряда никогда не может долго держаться значительно выше нормы, которая требуется для содержания рабочего как природой, так и обычаем. Этот класс никогда не может выносить сколько-нибудь значительной доли налогового обложения, и, следовательно, если рабочим приходится платить добавочные 8 шилл. за квартер пшеницы и несколько меньшую надбавку к цене других предметов насущной необходимости, они не будут в состоянии существовать на ту же заработную плату, что и раньше, и продолжать свой род. Заработная плата неизбежно и необходимо поднимется, и пропорционально её повышению упадёт прибыль. Правительство получит 8 шилл. налога с каждого квартера хлеба, потребляемого в стране; часть этого налога будет уплачена прямо потребителями хлеба, другая часть будет уплачена косвенно теми, кто пользуется наёмным трудом; это отразится на прибыли так, как если бы заработная плата поднялась в силу превышения спроса на труд над предложением его или в силу возросшей трудности добывания пищи и других предметов, в которых нуждаются рабочие. Поскольку налог касается потребителей, он будет равномерным налогом, но поскольку он касается прибыли, он будет налогом односторонним, потому что он не заденет ни землевладельца, ни денежного капиталиста, которые будут получать: один - прежнюю денежную ренту, другой - прежние денежные дивиденды. Следовательно, налог на продукты земли действует таким образом: во-первых, он повышает цену сырых материалов на равную ему сумму и поэтому падает на каждого потребителя пропорционально его потреблению; во-вторых, он повышает заработную плату и понижает прибыль. Против такого налога можно сделать следующие возражения: во-первых, что, повышая заработную плату и понижая прибыль, он является неравномерным налогом, так как он падает на доход фермера, купца и промышленника, оставляя необложенным доход землевладельца, денежного капиталиста и других лиц, пользующихся твёрдым доходом; во-вторых, что между повышением цены хлеба и повышением заработной платы пройдёт значительный промежуток времени, в течение которого рабочий будет испытывать большую нужду; в-третьих, что, повышая заработную плату и понижая прибыль, он уменьшает побуждение к накоплению и действует точно так же, как естественная бедность почвы; в-четвёртых, что вследствие повышения цены сырых материалов повышаются цены всех товаров, в которые входят сырые материалы, и потому мы встречаемся с иностранными промышленниками на общем рынке не в равных условиях. На первое возражение, что такой налог, повышая заработную плату и понижая прибыль, действует неравномерно, так как затрагивает доход фермера, купца и промышленника и оставляет нетронутым доход землевладельца, денежного капиталиста и других лиц, пользующихся твёрдым доходом, можно ответить так: если налог имеет неравномерное действие, то дело законодательства сделать его равномерным, обложив прямым налогом земельную ренту и дивиденды с денежных капиталов. Этим путём цель, которая преследуется подоходным налогом, была бы достигнута без необходимости прибегать к неприятной мере заглядывания в дела всех и каждого и без предоставления сборщикам налогов полномочий, противных привычкам и чувствам свободной страны. На второе возражение, что между повышением цены хлеба и повышением заработной платы пройдёт значительный промежуток времени, в течение которого низшие классы будут терпеть большую нужду, я отвечу, что при разных обстоятельствах заработная плата следует за ценой сырых материалов с весьма неодинаковой быстротой; что в одних случаях повышение цены хлеба не оказывает вовсе никакого действия на заработную плату, в других - повышению цены хлеба предшествует повышение заработной платы; кроме того, действие на заработную плату [сказывается иногда медленно, а иногда быстро] <В первом издании было сказано: "сказывается медленно, а иногда промежуток должен быть очень короток". - Прим. ред.>. Те, кто утверждает, что цену труда регулирует цена предметов насущной необходимости, - принимая всегда в расчёт ту стадию развития, на которой общество находится, - слишком поспешно соглашаются как будто с тем, что повышение или падение заработной платы очень медленно следует за повышением или падением цены предметов насущной необходимости. Высокая цена может быть результатом весьма различных причин и сообразно с этим может оказывать весьма различное действие. Она может быть результатом: во-первых, недостаточного предложения; во-вторых, постепенно усиливающегося спроса, сопровождаемого в конце концов увеличением издержек производства; в-третьих, падения стоимости денег; в-четвёртых, введения налогов на предметы насущной необходимости. Эти четыре причины недостаточно различались и обособлялись теми, кто исследовал влияние высокой цены предметов насущной необходимости на заработную плату. Рассмотрим их порознь. Плохой урожай вызывает вздорожание предметов питания, и высокая цена является только средством заставить потребление сообразоваться с состоянием предложения. Если бы все покупатели хлеба были богаты, цена могла бы подняться до любой высоты, но результат был бы прежний; в конце концов цена стала бы так высока, что наименее богатые вынуждены были бы отказаться от потребления некоторой части того количества, которое они обычно потребляли, так как лишь путём сокращения потребления спрос мог бы быть понижен до размеров, предопределяемых предложением. При таких обстоятельствах нет более нелепой политики, чем принудительное регулирование денежной заработной платы сообразно с ценой пищи, как это часто делается благодаря неудачному применению законов о бедных. Такая мера не даст действительного облегчения рабочему, потому что результатом её будет ещё большее вздорожание хлеба, и в конце концов рабочий будет вынужден ограничить своё потребление в соответствии с ограниченным предложением. При естественном ходе вещей, без пагубного и неблагоразумного вмешательства, недостаточное предложение вследствие неурожая не повлекло бы за собой повышения заработной платы. Повышение её является чисто номинальным для тех, кто её получает; оно увеличивает конкуренцию между покупателями на хлебном рынке и в конечном своём результате увеличивает барыши сельских хозяев и хлеботорговцев. В действительности заработная плата регулируется соотношением между предложением и спросом на предметы насущной необходимости и предложением и спросом на труд, а деньги служат только средством оценки или мерой, в которой выражается заработная плата. В данном случае, следовательно, нужда рабочего неизбежна, и единственным средством, к которому может прибегнуть законодательство, является ввоз добавочной пищи [или замена её наиболее пригодными суррогатами] <Вставка в третьем издании. - Прим. ред.>. Когда высокая цена хлеба является следствием возросшего спроса, ей всегда предшествует возрастание заработной платы, потому что спрос не может возрасти без увеличения у народа возможности платить за то, чего он желает. Накопление капитала, естественно, вызывает усиленное соперничество между теми, кто пользуется наёмным трудом, и соответственно повышение цены труда. Та сумма, на которую увеличилась заработная плата, не всегда тратится непосредственно на пищу. Сначала она служит для доставления рабочему новых предметов удовольствия. Однако улучшение положения рабочего побуждает его и даёт ему возможность жениться, и тогда спрос на пищу для содержания семьи, естественно, вытесняет спрос на те предметы удовольствия, на которые временно расходовалась его заработная плата. Следовательно, цена хлеба повышается потому, что спрос на него возрастает, потому, что в обществе есть люди, у которых увеличились средства на покупку его. И прибыль фермера поднимается и будет выше общего уровня прибыли до тех пор, пока на производство хлеба не будет затрачено требуемое количество капитала. Упадёт ли цена хлеба после того, как это случится, до своего прежнего уровня или же повышение сохранится надолго, будет зависеть от качества земли, с которой получено добавочное количество хлеба. Если оно получено с земли, столь же плодородной, как и последняя, бывшая под обработкой, и с не более значительными издержками труда, то цена упадёт до прежнего уровня, если с более бедной земли, то цена надолго останется выше его. В первом случае повышение заработной платы происходило вследствие увеличения спроса на труд; поскольку оно поощряло браки и шло на содержание детей, оно имело своим действием рост предложения труда. Когда предложение труда увеличится, заработная плата опять упадёт до своего прежнего размера, если цена хлеба вернулась к своему старому уровню; если же добавочное количество хлеба получено с земли низшего качества, то заработная плата будет всё-таки выше, чем прежде. Высокая цена вовсе не несовместима с обильным предложением: цена повышается надолго не потому, что количество продукта недостаточно, а потому, что производство было сопряжено с возросшими издержками. Правда, обыкновенно случается, что, когда размножению населения дан стимул, действие последнего окажется сильнее, чем это требовалось в данном случае; население может возрасти и обыкновенно возрастает настолько, что, несмотря на увеличение спроса на труд (по отношению к фондам, предназначенным для содержания рабочих), оно будет больше, чем до увеличения капитала. Тогда наступает реакция, заработная плата падает ниже своего естественного уровня и будет оставаться в таком положении до тех пор, пока не восстановится обычное соотношение между предложением и спросом. В данном же случае повышение заработной платы предшествует повышению цены хлеба, и потому последнее не подвергает рабочего никаким бедствиям. Второй причиной повышения цены пищи является падение стоимости денег вследствие наплыва драгоценных металлов из рудников или вследствие злоупотребления банковской привилегией. Но падение стоимости денег не вызывает никакого изменения в количестве производимой пищи. Число рабочих остаётся прежним, спрос на них - тоже, потому что тут не происходит ни возрастания, ни уменьшения капитала. Количество предметов насущной необходимости, которое достаётся рабочему, зависит как от сравнительного спроса и предложения этих предметов, так и от сравнительного спроса и предложения труда, деньги же служат только мерилом, в котором выражается это количество, а так как ни спрос, ни предложение предметов насущной необходимости и труда не изменились, то не может измениться и действительное вознаграждение рабочего. Денежная заработная плата повысится, но она позволит ему только иметь то же количество предметов жизненной необходимости, что и раньше. Те, кто оспаривает этот принцип, должны показать, почему умножение количества денег не должно оказать того же влияния на повышение цены труда, количество которого не возросло, какое, по их же признанию, оно непременно оказывало бы на повышение цены обуви, шляп и хлеба, если бы количество этих товаров не возросло. Относительная рыночная стоимость шляп и обуви регулируется спросом и предложением шляп в сравнении со спросом и предложением обуви, а деньги служат только мерилом, в котором выражается их стоимость. Если цена обуви удвоилась, то удвоилась также и цена шляп, и сравнительная стоимость их останется прежней. Точно так же, если удвоится цена хлеба и всех предметов насущной необходимости для рабочего, то удвоится также и цена труда. А раз нет нарушения в обычном спросе и предложении предметов насущной необходимости и труда, то нет никакого основания для изменения их относительной стоимости. Ни падение стоимости денег, ни налог на сырые материалы, хотя каждое из этих обстоятельств повышает цены, не отражаются необходимо на количестве сырых материалов, или на числе людей, которые в состоянии купить и хотят потреблять их. Нетрудно понять, почему при нерегулярном росте капитала страны заработная плата поднимается, тогда как цена хлеба остаётся неизменной или повышается в меньшем отношении, и почему при уменьшении капитала страны заработная плата падает, тогда как цена хлеба остаётся прежней или же падает в гораздо меньшем отношении и притом на длительный период. Причина заключается в том, что труд - такой товар, количество которого не может быть увеличено или уменьшено по желанию. Если на рынке слишком мало шляп сравнительно со спросом, цена их поднимается, но лишь на короткое время, потому что в течение года количество шляп может быть увеличено путём приложения большего капитала в производстве их в любых нужных размерах; поэтому рыночная цена шляп не может долго намного превышать их естественную цену. Но с рабочими дело обстоит иначе: вы не можете увеличить их число в один-два года в случае возрастания капитала или быстро уменьшить их число, когда капитал регрессирует; поэтому если число рабочих рук возрастает или уменьшается медленно, а фонды, предназначенные для содержания труда, возрастают или уменьшаются быстро, то пройдёт значительный промежуток времени, пока цена труда будет точно регулироваться ценой хлеба и предметов необходимости. Но в случае падения стоимости денег или обложения налогом хлеба избыточное предложение труда или ослабление спроса на него не является необходимостью, и потому нет основания для действительного уменьшения заработной платы рабочего. Налог на хлеб не обязательно уменьшает количество хлеба, он только повышает денежную цену последнего; он не обязательно уменьшает и спрос на труд сравнительно с предложением; почему же он должен уменьшить долю, уплачиваемую рабочему? Допустим, что это верно, что налог уменьшит количество хлеба, даваемое рабочему, другими словами, что он не повысит его денежной заработной платы в том же отношении, в каком поднимет цену потребляемого им хлеба. Но не превысит ли тогда предложение хлеба спрос? Не упадёт ли его цена? И не получит ли таким образом рабочий свою обычную часть? Правда, в таком случае капитал был бы извлечён из земледелия, потому что если цена хлеба не возрастёт на всю сумму налога, то прибыль в земледелии будет ниже общего уровня и капитал будет искать более выгодного помещения. Итак, что касается налога на сырые материалы, который мы теперь рассматриваем, то мне кажется, что между повышением в цене сырых материалов и повышением заработной платы рабочего не пройдёт такого промежутка времени, в течение которого положение рабочего значительно ухудшится. Поэтому рабочий класс не подвергается никакому другому неудобству, кроме того, какое он испытывает от всякого иного вида обложения, а именно риска, что налог может затронуть фонды, предназначенные для содержания труда, и тем задержать или ослабить спрос на него. Что касается третьего возражения против налогов на сырые материалы, состоящего в том, что повышение заработной платы и понижение прибыли ослабляют побуждение к накоплению и действуют таким же образом, как естественная бедность почвы, то я старался показать в другой части настоящего труда, что сбережения могут делаться с одинаковым успехом как путём сокращения расходов, так и путём расширения производства, как при понижении стоимости товаров, так и при повышении нормы прибыли. Если моя прибыль возрастёт с 1 тыс. ф. ст. до 1 200 при прежних ценах, моя способность увеличивать свой капитал путём сбережений увеличится, но не настолько, насколько она возросла бы, если бы моя прибыль оставалась прежней, а цены товаров понизились бы так сильно, что на 800 ф. ст. я мог бы купить столько же, сколько раньше покупал на 1 тыс. ф. ст. Сумма, требуемая налогом, должна быть собрана, и вопрос заключается просто в том, будет ли таковая сумма взята с частных лиц путём уменьшения их прибыли или же путём повышения цен товаров, на которые эта прибыль будет израсходована. Обложение, в каковую бы форму оно ни облекалось, представляет собою только выбор из двух зол: если оно не влияет на прибыль или на другие источники дохода, то оно должно влиять на расходы, и совершенно безразлично, на что падает налог, лишь бы только бремя его распределялось равномерно и не задерживало воспроизводства. Налоги на производство или на прибыль с капитала, - взимаются ли они прямо с прибыли или же косвенным путём, посредством обложения земли или её продуктов, - имеют перед другими налогами то преимущество, что при условии одновременного обложения и всех других доходов никакой класс общества не может ускользнуть от них и каждый платит соразмерно своим средствам. От уплаты налогов на расход может уклониться скряга: он может, имея доход в 10 тыс. ф. ст. в год, тратить только 300 ф. ст.; но от уплаты налогов на прибыль, прямых или косвенных, он уклониться не может; он будет платить их, отдавая часть своего продукта или стоимость её; или же вследствие повышения цен всех предметов, необходимых для производства, он не будет в состоянии продолжать накоплять капитал в прежних размерах. Доход его, правда, может иметь прежнюю стоимость, но он не будет иметь в своём распоряжении ни прежнего количества труда, ни прежнего количества материалов, к которым этот труд может быть приложен. Если страна вследствие своего островного положения обособлена от других и не имеет торговых сношений ни с кем из своих соседей, она никоим образом не может сложить с себя какую-нибудь часть налогов. Часть продукта её земли и труда будет уделена на государственные надобности, и мне кажется, что вопрос о том, взимаются ли налоги с прибыли, с земледельческих или же с промышленных товаров, имеет второстепенное значение, если, конечно, они не давят несоразмерно на тот класс, который накопляет и сберегает. Если я имею 1 тыс. ф. ст. годового дохода и должен уплатить налогов на сумму в 100 ф. ст., то для меня имеет мало значения, плачу ли я их из своего дохода, оставляя себе только 900 ф. ст., или же плачу лишних 100 ф. ст. за земледельческие товары или за промышленные изделия. Если 100 ф. ст. составляют мою справедливую долю в расходах страны, то достоинство обложения заключается в том, чтобы обеспечить уплату мною этих 100 ф. ст., не больше и не меньше. А для этого нет более надёжного способа, чем обложение заработной платы, прибыли или сырых материалов. Нам остаётся рассмотреть ещё четвёртое и последнее возражение. Оно заключается в том, что повышение цены сырых материалов повысит цены всех товаров, в состав которых входят сырые материалы, и, следовательно, мы встретимся с иностранными промышленниками на общем рынке на неравных условиях. Но, во-первых, цены хлеба и всех отечественных товаров не могут существенно подняться без прилива драгоценных металлов, потому что при высоких ценах данное количество товаров не может быть приведено в обращение тем же количеством денег, что и при низких ценах, драгоценные же металлы никогда не могут быть куплены на дорогие товары. Если требуется больше золота, то для получения его надо отдать в обмен за него больше, а не меньше товаров. Недостаток денег не может быть покрыт бумажными деньгами, потому что не бумага регулирует стоимость золота как товара, а золото регулирует стоимость бумаги. Следовательно, если стоимость золота не понизится, бумажные деньги не могут быть прибавлены к обращению, не подвергаясь обесценению. А что стоимость золота не может понизиться, это станет нам ясно, если мы примем во внимание, что стоимость золота как товара должна регулироваться количеством товаров, отдаваемых иностранцам в обмен на него. Когда золото дёшево, товары дороги, а когда золото дорого, товары дёшевы и цены их падают. Но так как нет никакого основания ожидать, чтобы иностранцы продавали своё золото дешевле, чем обыкновенно, то весьма мало вероятно, чтобы в данном случае произошёл какой-либо прилив золота. А без такого прилива не может возрасти его количество или упасть его стоимость, а следовательно, невозможно и общее повышение цен товаров <Могут возразить, что при повышении цены товаров только вследствие обложения потребуется больше денег для их обращения. Я думаю, что нет. [Это примечание сделано только в третьем издании.]>. Вероятным последствием налога на сырые материалы будет повышение цены этих последних и всех товаров, в состав которых они входят, но отнюдь не пропорционально налогу; цены же других товаров, в состав которых не входят сырые материалы, например металлических и гончарных изделий, упадут. Итак, прежнего количества денег будет достаточно для всего обращения. Налог, который привёл бы к повышению цен всех продуктов, произведённых в стране, уменьшил бы стимул вывоза только на очень ограниченное время. Если бы цены продуктов повысились внутри страны, продукты действительно нельзя было бы сразу же вывозить с прибылью, ибо они несли бы здесь бремя, от которого за границей были бы свободны. Налог произвёл бы такое же действие, как изменение в стоимости денег, которое не было бы общим для всех стран, а ограничилось лишь одной. Если бы этой страной была Англия, она, может быть, не могла бы продавать, но она могла бы покупать, потому что цены ввозимых товаров не повысились бы. При таких обстоятельствах в обмен на иностранные товары не вывозилось бы ничего, кроме денег, а такая торговля не может долго длиться; денежный фонд нации не может истощиться, так как после отлива известного количества денег поднялась бы стоимость оставшегося количества, и в результате цены товаров стали бы такими, что можно было бы снова вывозить с выгодой. Следовательно, когда стоимость денег поднимется, мы не будем вывозить их больше в обмен за товары, а будем вывозить те фабрикаты, цены которых сначала поднялись вследствие повышения цены сырых материалов, из которых они сделаны, а потом снова понизились вследствие вывоза денег. Но могут возразить, что когда поднимется стоимость денег, то это повышение одинаково коснётся как отечественных, так и иностранных товаров, и, следовательно, всякое побуждение к ввозу иностранных товаров прекратится. Так, предполагая, что мы ввозили товары, которые стоят за границей 100 ф. Ст., а здесь продавались за 120 ф. Ст., мы перестали бы ввозить их, когда стоимость денег поднялась бы в Англии настолько, что они продавались бы здесь только за 100 ф. Ст. Этого, однако, никогда не может случиться. Мотивом, побуждающим нас ввозить товар, служит факт его относительной дешевизны за границей, сравнение его цены за границей с ценой внутри страны. Если страна вывозит шляпы и ввозит сукно, она это делает потому, что может получить больше сукна, производя шляпы и обменивая их на сукно, чем если бы она изготовляла его сама. Если повышение цены сырых материалов вызывает какое-либо увеличение издержек производства сукна. Если бы поэтому оба товара изготовлялись дома, то повысились бы цены обоих. Но так как один из них мы ввозим, то цена его не повысится и не упадет даже при повышении стоимости денег, а если его цена не упадет, то она будет опять находиться в своем естественном отношении к цене вывозимого товара. Повышение цены сырых материалов вызывает повышение цены шляпы с 30 до 33 шилл., или на 10%; в силу той же причины цена сукна, если бы мы выделывали его, повысилась бы с 20 до 22 шилл. за ярд. Это повышение не нарушает отношения между ценой сукна и ценой шляп: шляпа стоила и продолжает стоить полтора ярда сукна. Но если мы ввозим сукно, то его цена будет оставаться попрежнему 20 шилл. за ярд, и на нее не будет влиять сначала падение, а потом повышение стоимости денег; цена же шляп, поднявшись с 30 до 33 шилл., снова упадет с 33 до 30 шилл., т.е. до точки, на которой восстановится прежнее отношение между сукном и шляпами. Чтобы упростить исследование этого вопроса, я предполагал, что повышение стоимости сырых материалов повысит в равном отношении цены всех отечественных товаров, так что если вследствие этого повышения цена одного товара поднимется на 10%, то и цены остальных поднимутся тоже на 10 %. Но так как стоимость товаров слагается различным образом из стоимостей сырого материала и труда, так как на некоторых товарах, например металлических изделиях, совсем не отразится повышение цены сырых материалов, добываемых с поверхности земли, то очевидно, что налог на сырые материалы будет действовать на стоимость товаров самым различным образом. Поскольку это действие имеет место, оно поощряет или задерживает вывоз отдельных товаров и, несомненно, сопровождается теми же неудобствами, как и обложение самих товаров: оно нарушает естественное отношение между их стоимостями. Так, вместо того чтобы равняться [стоимости] полутора ярдов сукна, естественная цена шляпы может стать равной стоимости только одного ярда с четвертью или одного ярда и трех четвертей, и, следовательно, внешняя торговля может получить несколько иное направление. Все эти неудобства не отразятся, вероятно, на стоимости вывоза и ввоза, они только помешают наилучшему распределению капитала всего мира, которое никогда не регулируется так хорошо, как тогда, когда всякому товару предоставляется свобода утвердиться на своей естественной цене [без каких-либо искусственных ограничений] <вставка во втором и третьем изданиях>. Итак, хотя повышение цен на большинство наших собственных товаров затруднило бы на время вывоз вообще и могло бы надолго прекратить вывод некоторых отдельных товаров, оно не могло бы существенно отразиться на внешней торговле и не поставило бы нас в сравнительно невыгодное положение по отношению к конкуренции на внешних рынках. Глава 10. Налоги на ренту
Налог на ренту оказывает влияние только на ренту; он всецело падает на землевладельцев и не может быть переложен на какой-нибудь класс потребителей. Повысить ренту землевладелец не может, потому что разность между продуктом, получаемым с наименее производительной земли, находящейся в обработке, и продуктом, получаемым с земли всякого другого разряда, остаётся прежней. Обрабатывается земля трёх разрядов: N 1, 2 и 3, которые при затрате одинакового количества труда дают соответственно 180, 170 и 160 квартеров пшеницы; но N 3 ренты не приносит и потому остаётся необложенным, рента же с N 2 не может превышать стоимость 10 квартеров, а рента с N 1 - стоимость 20 квартеров. Такой налог не может повысить цены сырых материалов, ибо земледелец N 3, поскольку он не платит ни ренты, ни налога, не имеет никакой возможности повысить цену произведённого товара. Налог на ренту не уменьшит стимула к обработке новой земли, потому что такая земля не платит ренты и осталась бы необложенной. Если бы в обработку поступил N 4 и дал бы 150 квартеров, то эта земля не платила бы налога; но создалась бы рента в 10 квартеров с N 3, который начал бы тогда платить налог. Налог на ренту, как она обычно устанавливается, уменьшил бы стимул к обработке земли, потому что был бы налогом на прибыль землевладельца. Как я уже отметил в другом месте, термином "земельная рента" обыкновенно называют всю сумму стоимости, уплачиваемую фермером землевладельцу, тогда как только часть её является, строго говоря, рентой. Постройки со всеми их принадлежностями и прочие расходы, сделанные землевладельцем на свой счёт, составляют в строгом смысле слова часть капитала фермы и были бы произведены фермером, если бы о них не позаботился землевладелец. Рента есть сумма, уплачиваемая землевладельцу за пользование землёй, и только землёй. Остальная сумма, уплачиваемая ему под именем ренты, платится за пользование постройками и пр. и в действительности составляет прибыль на капитал землевладельца. Так как при обложении ренты не делали бы различия между той её частью, которая платится за пользование землёй, и той, которая платится за пользование капиталом землевладельца, то часть налога упала бы на прибыль землевладельца и, следовательно, уничтожила бы стимул к обработке земли, если только не повысилась бы цена сырых материалов. С той земли, за пользование которой не платилось ренты, землевладелец мог получать под этим именем вознаграждение за пользование его постройками. Эти постройки не были бы сооружены, и сырые материалы не выращивались бы на той земле до тех пор, пока цена, по которой они продаются, не окупала бы не только все обычные расходы, но также и добавочный расход на налог. Эта часть налога падает не на землевладельца и не на фермера, а на потребителя сырых материалов. Едва ли можно сомневаться в том, что при введении налога на ренту землевладельцы скоро научились бы различать ту часть, которая уплачивается им за пользование землёй, от той, которая платится за пользование зданиями и улучшениями, сделанными за счёт капитала землевладельца. Последняя была бы выделена под именем ренты с дома и построек, или же на всей вновь поступающей в обработку земле не землевладелец, а арендатор воздвигал бы такие постройки и вводил бы улучшения. Правда, для этой цели мог бы, конечно, употребляться капитал землевладельца, номинально расходы производил бы арендатор, но средства доставлял бы ему землевладелец или в форме ссуды, или же приобретая право на известный ежегодный доход в течение всего срока аренды. Делается ли это различие или нет, разница в характере вознаграждения, получаемого землевладельцем за различные вещи, в действительности существует. Совершенно верно, что налог на действительную земельную ренту падает целиком на землевладельца, а налог на вознаграждение, которое землевладелец получает за пользование его капиталом, затраченным на ферму, падает в развивающейся стране на потребителя сырых материалов. Если бы рента была обложена налогом и не было принято никаких мер к различению отдельных частей вознаграждения, уплачиваемого теперь арендатором землевладельцу под именем ренты, то налог, поскольку он касается ренты за здания и другие сооружения, никогда не падал бы в течение сколько-нибудь долгого времени на землевладельца, а падал бы на потребителя. Капитал, затраченный на эти строения и пр., должен давать обычную прибыль, но он перестал бы давать эту прибыль на земле, поступившей в обработку позже других, если бы издержки на эти здания и пр. не падали на арендатора. А если бы они падали на него, то он перестал бы получать свою прибыль с капитала, если бы не мог переложить их на потребителя. Глава 11. Десятина
Десятина есть налог на валовой продукт земли и, подобно налогам на сырые материалы, падает всецело на потребителя. От налога на ренту она отличается тем, что падает и на ту землю, которой первый не касается, и повышает цену сырых материалов, на которую налог на ренту не влияет. Десятиной облагается как самая лучшая, так и самая худшая земля, притом строго пропорционально количеству даваемого землёй продукта. Следовательно, десятина - налог равномерный. Если земля низшего качества или та, которая не приносит ренты и которая регулирует цену хлеба, даёт количество, достаточное, чтобы фермер имел обычную прибыль на капитал, когда квартер пшеницы стоит 4 ф. ст., то для того, чтобы можно было получить ту же прибыль после обложения этой земли десятиной, цена хлеба должна подняться до 4 ф. ст. 8 шилл. Ибо теперь с каждого квартера пшеницы земледелец должен платить в пользу церкви 8 шилл.; [если же он не получит той же прибыли, то у него нет никакого основания продолжать своё старое дело, раз он может получить такую прибыль при другом занятии] <Вставка во втором и третьем изданиях. - Прим. ред.>. Единственное различие между десятиной и налогами на сырые материалы состоит в том, что первая представляет собою переменный денежный налог, а вторые принадлежат к категории постоянных денежных налогов. При неподвижном состоянии общества, когда лёгкость производства хлеба не возрастает и не уменьшается, эти налоги будут производить совершенно одинаковое действие, потому что при таком состоянии цена хлеба будет неизменной и налог поэтому будет также неизменным. Но как при отставании общества, так и при таком состоянии его, когда в земледелие вводятся крупные улучшения и когда, следовательно, стоимость сырых материалов падает в сравнении со стоимостью других предметов, десятина окажется более лёгким налогом, чем постоянный денежный налог; если цена хлеба упадёт с 4 до 3 ф. ст., то и налог упадёт с 8 до 6 шилл. При поступательном движении общества, но при отсутствии сколько-нибудь заметных улучшений в земледелии цена хлеба будет повышаться и десятина будет более тяжёлым налогом, чем постоянный денежный налог. Если цена хлеба повысится с 4 до 5 ф. ст., то десятина с той же земли повысится с 8 до 10 шилл. Ни десятина, ни денежный налог не коснутся денежной ренты землевладельцев, но оба налога существенно отразятся на хлебной ренте. Мы уже видели, как действует на хлебную ренту денежный налог; очевидно, что и десятина окажет подобное же действие. Если земли N 1, 2 и 3 дают 180, 170 и 160 квартеров, то рента с N 1 составит 20 квартеров, а с N 2 - 10. Но после уплаты десятины эта пропорция нарушится, потому что если вычесть из продукта земли каждого разряда десятую долю, то остающийся продукт будет равен 162, 153 и 144, и, следовательно, хлебная рента N 1 понизится до 18, а N 2 - до 9 квартеров. Но цена хлеба поднимется с 4 ф. ст. до 4 ф. ст. 8 шилл. 10 2/3 пенса, так как 144 квартера относятся к 160 квартерам, как 4 ф. ст. относятся к 4 ф. ст. 8 шилл. 10 2/3 пенса, и, следовательно, денежная рента останется прежней, потому что для N 1 она будет равна 80 ф. ст. <18 квартеров по 4 ф. ст. 8 шилл. 10 2/3 пенса. [Это примечание сделано только в третьем издании.]> , а для N 2 - 40 ф. ст. <9 квартеров по 4 ф. ст. 8 шилл. 10 2/3 пенса. [То же.]> Главное возражение против десятины состоит в том, что этот налог не является устойчивым и твёрдым, так как стоимость его возрастает вместе с возрастанием трудности производства хлеба. Если в силу этой трудности цена квартера хлеба равняется 4 ф. ст., то налог составляет 8 шилл.; если вследствие дальнейшего возрастания трудности производства хлеба цена его повысится до 5 ф. ст., то налог составит 10 шилл., а если она повысится до 6 ф. ст., то налог составит уже 12 шилл. Увеличивается, однако, не только стоимость, но и масса облагаемого хлеба. Так, когда обрабатывался только N 1, десятина взималась всего со 180 квартеров; когда в обработку поступил N 2, то она взималась со 180 + 170, или с 350 квартеров, а когда начал обрабатываться и N 3, то десятина взималась уже со 180 + 170 + 160, или с 510 квартеров. При возрастании количества продукта с 1 млн. до 2 млн. квартеров возрастёт не только сумма налога со 100 тыс. до 200 тыс. квартеров: благодаря увеличению количества труда, необходимого для производства второго миллиона, относительная стоимость сырых материалов может подняться настолько, что 200 тыс. квартеров, превышая по своему количеству 100 тыс. квартеров, уплаченные прежде лишь вдвое, могут по своей стоимости превысить их втрое. Если бы такая же стоимость собиралась в пользу церкви каким-нибудь другим способом, возрастая, как и десятина, пропорционально трудности обработки земли, то результат получился бы тот же. [Поэтому ошибочно предполагать, что десятина, в силу того что она взимается с земли, действует на земледелие более неблагоприятным образом, чем действовала бы равная ей сумма, взимаемая как-нибудь иначе.] <Вставка во втором и третьем изданиях. - Прим. ред.> В обоих случаях церковь получала бы постоянно всё большую и большую долю чистого продукта земли и труда страны. При поступательном движении общества чистый продукт земли по отношению к её валовому продукту всегда уменьшается, а между тем все налоги берутся в конечном счёте из чистого дохода страны, будет ли последняя развиваться или переживать застой. Налог, который растёт вместе с валовым доходом, попадает своей тяжестью на чистый доход, должен быть по необходимости крайне обременительным и невыносимым налогом. Десятина составляет десятую долю не чистого, а валового продукта земли. Следовательно, вместе с развитием общественного богатства она при сохранении того же отношения к валовому продукту должна поглощать всё большую и большую долю чистого продукта. На десятину можно, однако, смотреть, как на налог, наносящий ущерб землевладельцам, поскольку она действует как премия на ввоз: в то время как производство хлеба внутри страны облагается этим налогом, ввоз иностранного хлеба совершается вполне свободно. И если бы с целью защиты землевладельцев от последствий уменьшения спроса на землю, которое должно быть результатом такой премии, ввозимый хлеб был бы также обложен [в одинаковой степени с отечественным] <В первом издании вместо этих слов: "в размере одной десятой". - Прим. ред.> и получаемый таким образом доход поступал бы в пользу государства, то это была бы самая правильная и справедливая мера, ибо выручка, доставляемая государству таким налогом, позволила бы уменьшить другие налоги, необходимые на покрытие государственных расходов. Но если бы такой налог служил только для увеличения фонда, идущего в пользу церкви, то, хотя в целом он мог бы действительно увеличить общую массу продуктов, он уменьшил бы ту часть этой массы, которая уделяется производительным классам. Если бы торговля сукном была совершенно свободна, наши фабриканты могли бы продавать сукно дешевле, чем обходилось бы нам сукно, ввозимое из-за границы. Если бы отечественный фабрикант должен был платить налог, которого импортёр сукна не платил бы, то это оказало бы вредное действие на капитал и заставило бы его оставить суконное производство для какого-нибудь другого, так как ввозимое сукно было бы дешевле, чем производимое внутри страны. Если бы ввозимое сукно было тоже обложено, сукно опять могло бы производиться у нас. Сначала потребитель покупал отечественное сукно, потому что оно было дешевле заграничного, потом он стал покупать заграничное, потому что, не будучи обложено налогом, оно стоило дешевле отечественного, обложенного налогом. Наконец, он стал опять покупать отечественное сукно, потому что при одинаковом обложении отечественного и заграничного сукна первое опять стало дешевле заграничного. В последнем случае он платит за сукно самую высокую цену, но вся добавочная плата поступает в пользу государства. Во втором случае он платит за сукно дороже, чем в первом, но уплачиваемый им излишек не поступает в пользу государства, ибо это возрастание цены вызвано трудностями производства: связав нас новым налогом, у нас отняли бы возможность производить наиболее лёгким способом. Глава 12. Земельный налог
Земельный налог, пропорциональный ренте с земли и изменяющийся с каждым изменением ренты, есть в действительности налог на ренту. Так как такой налог не коснётся ни земли, которая не даёт ренты, ни продукта с капитала, который прилагается к земле в расчёте только на прибыль и никогда не приносит ренты, то он нисколько но повлияет на цены сырых материалов, а всецело падёт на землевладельцев. Такой налог ничем не отличается от налога на ренту. Но если земельным налогом будет обложена вся возделываемая земля, то, как бы он ни был умерен, он будет налогом на продукт и потому повысит цену продукта. Если последней возделываемой землёй была земля N 3, то, хотя она и не платит ренты, она не может возделываться после введения налога и давать при этом прибыль соответственно общей норме её, если налог не будет покрыт повышением цены продукта. Капитал будет или избегать такого приложения до тех пор, пока цена хлеба не повысится вследствие спроса настолько, чтобы давать ему обычную прибыль, или, если капитал уже вложен в такую землю, он оставит её, чтобы поискать более выгодного применения. Налог не может быть переложен на землевладельца потому, что, по нашему предположению, тот не получает никакой ренты. Такой налог или соразмеряется с качеством земли, с изобилием её продукции, и тогда он ничем не отличается от десятины, или является твёрдым налогом с акра всей возделываемой земли, каково бы ни было её качество. Земельный налог последнего рода будет очень неравномерным и противоречит одному из четырёх общих правил, которым, по мнению Адама Смита, должны удовлетворять все налоги. Эти четыре правила таковы: "I. Подданные государства должны, по возможности, соответственно своей способности и силам участвовать в содержании правительства, т. е. соответственно доходу, каким они пользуются под покровительством и защитой государства... II. Налог, который обязывается уплачивать каждое отдельное лицо, должен быть точно определён, а не произволен... III. Каждый налог должен взиматься в то время или тем способом, когда и как плательщику должно быть удобнее всего платить его... IV. Каждый налог должен быть так задуман и разработан, чтобы он брал и удерживал из карманов народа возможно меньше сверх того, что он приносит казначейству государства..." <Адам Смит, Исследование о природе и причинах богатства народов, т. II, стр. 341-342. - Прим. ред.>. Равномерный земельный налог, который падает одинаково на всю землю, находящуюся под обработкой, несмотря на различия в её качестве, повысит цену хлеба пропорционально налогу, уплачиваемому с земли самого худшего качества. Земли различного качества дают при приложении к ним одинаковых капиталов весьма неодинаковые количества сырых материалов. Если земля, дающая при данном капитале 1 тыс. квартеров хлеба, будет обложена налогом в 100 ф. ст., цена хлеба должна подняться на 2 шилл., чтобы возместить фермеру налог. Но на земле лучшего качества при затрате одинакового капитала может быть произведено 2 тыс. квартеров, которые при повышении цены на 2 шилл. дадут лишних 200 ф. ст. Однако налог, будучи одинаковым для той и другой земли, составит и с лучшей и с худшей земли 100 ф. ст., и, следовательно, потребитель хлеба будет платить не только налог для удовлетворения нужд государства, но ещё 100 ф. ст. в пользу арендатора лучшей земли в течение всего срока аренды, а затем позволит землевладельцу поднять на всю эту сумму ренту. Таким образом, налог этого рода противоречит четвёртому правилу Адама Смита - он будет брать из народного кармана больше, чем даёт государственному казначейству. Подобным налогом была земельная подать (taille) во Франции до революции; были обложены только земли, находившиеся в руках недворян, цена сырых материалов повышалась пропорционально налогу, и, следовательно, те, кто не платил налога, получали еще выгоду вследствие возрастания ренты. Налоги на сырые материалы и десятины свободны от этого упрёка: они повышают цену сырых материалов, но каждый разряд земли платит соразмерно своему действительному продукту, а не соразмерно продукту наименее производительной земли. Своеобразная точка зрения, с которой Адам Смит рассматривает ренту, и то обстоятельство, что он не заметил, какое большое количество капитала затрачивается в каждой стране на землю, не платящую ренты, привели его к заключению, что все земельные налоги - облагается ли ими земля непосредственно в форме налога или десятины, берутся ли они из продукта или взимаются с прибыли фермера - неизменно падают на землевладельца, который всегда является действительным плательщиком, хотя бы налог номинально авансировался вообще арендатором. "Налоги на продукцию земли, - говорит он, - в действительности представляют собою налоги на ренту, и хотя они могут сперва выплачиваться фермером, в конечном счёте их платит землевладелец. Когда приходится уплачивать в виде налога часть продукции, фермер высчитывает, по мере возможности, стоимость этой части из года в год и потом соответственно уменьшает ренту, которую соглашается платить землевладельцу. Нет такого фермера, который не высчитывал бы заранее, сколько составит за все годы аренды церковная десятина, представляющая собою поземельный налог такого же рода" <Адам Смит, Исследование о природе и причинах богатства народов, т. II, стр. 351. - Прим. ред.>. Вполне правильно, что фермер высчитывает все и всякие вероятные расходы, когда заключает с землевладельцем соглашение о ренте, уплачиваемой за ферму. И если за десятину, уплачиваемую церкви, или налог на продукт земли он не получил бы вознаграждения в повышенной относительной стоимости своих продуктов, он, конечно, постарался бы сделать соответствующий вычет из ренты. Но в этом именно и состоит спорный вопрос: действительно ли он сделает такой вычет из ренты или вознаградит себя повышением цены продукта. По тем основаниям, которые я уже приводил, я ничуть не сомневаюсь, что эти налоги вызовут повышение цены продуктов и что, следовательно, Адам Смит занял в этом важном вопросе неправильную позицию. Именно эта точка зрения доктора Смита заставила его, вероятно, утверждать, что "десятина и всякий другой поземельный налог такого же рода, хотя они по внешности и кажутся совершенно одинаковыми, на самом деле являются далеко не одинаковыми налогами, поскольку известная часть продукции при различных условиях равна по стоимости весьма различной доли ренты" <Там же.- Прим. ред.>. Я старался показать, что налоги этого рода не падают неравномерно на различные группы фермеров или землевладельцев, так как и те и другие получают вознаграждение в повышенной цене сырых материалов и участвуют в платеже налога только пропорционально своему потреблению сырых материалов. В действительности, поскольку вследствие налога изменяется заработная плата, а под её влиянием и норма прибыли, землевладельцы не только не участвуют в платеже этого налога, но являются, наоборот, тем классом, который освобождён от него. Именно из прибыли на капитал берётся часть налога, падающая на рабочих, неспособных вследствие недостатка средств уплатить его; эта часть уплачивается исключительно теми, кто получает свой доход от вложения капитала, и, следовательно, она нисколько не затрагивает землевладельцев. Из этого ещё вовсе не следует, что десятина и другие налоги на землю и её продукты не задерживают развития земледелия. Всё, что увеличивает меновую стоимость различных товаров, на которые существует всеобщий спрос, имеет тенденцию уничтожать стимул к развитию как земледелия, так и производства вообще. Но это зло неразрывно связано со всяким обложением и не ограничивается теми именно налогами, о которых мы теперь говорим. В действительности это зло представляет неизбежную невыгоду, относящуюся ко всем налогам, взимаемым и расходуемым государством. Каждый новый налог превращается в новую тягость для производства и влечёт за собой повышение естественной цены товаров. Та часть труда страны, которой располагал прежде плательщик налога, теперь попадает в руки государства [и поэтому не может быть больше употреблена производительно] <Вставка в третьем издании. - Прим. ред.>. Эта часть может принять такие размеры, при которых не останется достаточного прибавочного продукта, необходимого для поощрения тех, кто своими сбережениями увеличивает обычно капиталы всего государства. К счастью, ни в одной свободной стране налоговое обложение никогда ещё не доходило до таких размеров, чтобы из года в год постоянно уменьшать её капитал. Ни одна страна не могла бы переносить долго такое обложение. Но если бы какая-нибудь страна его выносила, то налоги поглощали бы такую значительную часть её годового продукта, что она скоро представляла бы ужасную картину нищеты, голода и обезлюдения. "Поземельный налог, - говорит Адам Смит, - который, как это имеет место в Великобритании, раскладывается на каждый округ соответственно определённой схеме, может быть равномерен в момент его первой раскладки, но в дальнейшем он неизбежно становится неравномерным ввиду того, что в различных частях страны обработка земли в неодинаковой степени улучшается или ухудшается. В Англии оценка, которая была положена в основу обложения поземельным налогом различных графств и приходов законом 4-го года Вильгельма и Марии, была с самого начала весьма неравномерна. Поэтому этот налог идёт вразрез с первым из вышеприведённых четырёх правил. Зато он вполне согласуется с остальными тремя. Он определён вполне точно. Поскольку срок платежа налога совпадает с временем уплаты ренты, он так удобен для плательщика, как это только возможно. Хотя во всех случаях действительным плательщиком является землевладелец, но налог обычно уплачивается заранее арендатором, которому землевладелец обязан вычесть эту сумму при уплате ренты" <Адам Смит, Исследование о природе и причинах богатства народов, т. II, стр. 343-344. - Прим. ред.>. Если налог перелагается арендатором не на землевладельца, а на потребителя, то он никогда не может стать неравномерным, если только он не был таким сначала, потому что цена продукта сразу же поднимается пропорционально налогу и потом не будет уже больше изменяться в силу этой причины. Он может грешить против четвёртого правила, если будет, как я старался показать, неравномерным, но против первого правила он не грешит. Он может брать из народного кармана больше, чем даёт государственной казне, но он не падает неравномерно на какой-либо особый класс плательщиков. Г-н Сэй, по моему мнению, не понял природы и действия английского земельного налога. Он говорит: "Многие экономисты думают, что английское земледелие достигло большого расцвета именно благодаря этой неизменной оценке. Несомненно, она много способствовала ему. Но что сказали бы мы о правительстве, которое обратилось бы к мелкому промышленнику с такими словами: "Располагая небольшим капиталом, вы делаете ограниченные обороты, и вследствие этого ваши прямые платежи в казну весьма малы. Занимайте и накопляйте капитал; расширяйте ваши обороты, чтобы они давали вам огромные барыши: ваши платежи в казну никогда не будут повышены. Мало того: когда нажитые вами прибыли достанутся вашим наследникам и они ещё приумножат их, их состояние будет оцениваться для взимания налога не в большую сумму, чем теперь, и ваши наследники будут нести не большую долю общественного бремени". Несомненно, это дало бы сильный толчок развитию промышленности и торговли; но было ли бы это справедливо? Разве нельзя способствовать развитию их как-нибудь иначе? Разве в самой Англии промышленная и торговая деятельность не сделала за тот же период ещё больших успехов, хотя и не пользовалась такими льготами? Землевладелец благодаря своей энергии, бережливости и искусству увеличивает свой годовой доход на 5 тыс. фр. Если государство потребует от землевладельца в свою пользу пятую долю его увеличенного дохода, то разве остальные 4 тыс. фр. не будут служить для него поощрением к дальнейшим усилиям?" <Say, Economie politique, v. II, p. 353-354. - Прим. ред.> [По предположению г-на Сэя, "землевладелец благодаря своей энергии, бережливости и искусству увеличивает свой годовой доход на 5 тыс. фр.", но землевладелец не имеет никакой возможности применить свою энергию, бережливость и искусство к земле, если не ведёт на ней хозяйства сам, а в последнем случае он вводит улучшения в качестве капиталиста и фермера, а не в качестве землевладельца. Немыслимо, чтобы он мог увеличить продукт своей фермы каким-нибудь особенным искусством, не умножив вначале размеров капитала, прилагаемого к ней. А если он умножит капитал, то его более значительный доход может быть в таком же отношении к его возросшему капиталу, как доход всех других фермеров к их капиталам.] <Весь этот абзац вставлен только в третьем издании. - Прим. ред.> Если бы, следуя совету г-на Сэя, государство потребовало себе пятую долю увеличенного дохода фермера, то это был бы односторонний налог, затрагивающий только прибыль фермеров и не касающийся прибыли лиц, занимающихся другими промыслами. Налог уплачивался бы со всякой земли, как той, которая даёт скудный урожай, так и той, которая даёт обильный урожай, и в тех случаях, когда земля не платит никакой ренты, его нельзя было бы возместить путём вычета из ренты. Но односторонний налог на прибыль никогда не падает на отрасли промышленности, которые им обложены, потому что промышленник или оставит своё занятие, или вознаградит себя за налог. Те же, кто не платит никакой ренты, могут получить возмещение только посредством повышения цены продукта, и таким образом предлагаемый г-ном Сэем налог упадёт на потребителя, а не на землевладельца или фермера. Если бы предлагаемый налог возрастал пропорционально возрастанию количества или стоимости валового продукта, получаемого с земли, то он ничем не отличался бы от десятины и точно так же был бы переложен на потребителя. Таким образом, облагается ли валовой или же чистый продукт земли, налог одинаково является налогом на потребление и затрагивает землевладельца и фермера лишь в той же мере, как и другие налоги на сырые материалы. Если бы земля вовсе не была обложена и та же сумма взималась каким-нибудь иным способом, земледелие процветало бы по меньшей мере, как и прежде. Невозможно, чтобы какой бы то ни было налог на землю мог поощрять земледелие; умеренный налог может не задерживать и, вероятно, не задерживает в значительной степени рост производства, но поощрять его он не может. Английское правительство не держало таких речей, какие ему приписывает г-н Сэй. Оно не обещало освободить земледельческий класс и его наследников от всякого обложения в будущем и собирать в дальнейшем средства, которые могут потребоваться государству, с других классов общества. Оно сказало только: "В этой форме мы больше не будем обременять страну никакими тяготами, но мы оставляем за собой полную свободу заставить вас вносить полностью в какой-либо другой форме падающую на вас долю необходимых расходов государства". Говоря о натуральных налогах или налогах, составляющих определённую часть продукта, т. е. вполне тождественных с десятиной, г-н Сэй замечает: "Этот способ обложения является, повидимому, наиболее справедливым. В действительности же трудно найти более несправедливый налог. При нём совершенно не принимаются во внимание затраты, сделанные производителем, и он взимается пропорционально валовому, а не чистому доходу. Два земледельца производят сырые материалы различного рода: один из них возделывает хлеб на земле среднего качества, и его издержки достигают в среднем ежегодно 8 тыс. фр. Он продаёт свои продукты за 12 тыс. фр. и имеет таким образом чистый доход в 4 тыс. фр. Сосед его владеет пастбищами или лесами, которые доставляют ему ежегодно те же 12 тыс. фр., хотя его расходы составляют только 2 тыс. фр. Таким образом, его чистый доход составляет в среднем 10 тыс. фр. Закон постановляет взимать 1/12 часть всех плодов земли без всякого различия. В силу этого закона у первого из них отбирается хлеб стоимостью в 1 тыс. фр., у второго - сено, скот или лес также стоимостью в 1 тыс. фр. Что же случилось? У одного из них взяли 1/4 его чистого дохода в 4 тыс. фр., у другого, чистый доход которого составляет 10 тыс. фр., взяли всего 1/10. Доходом мы называем чистую прибыль, которая остаётся после возмещения всего капитала в точности в его прежнем состоянии. Разве доход купца составляется из суммы всех продаж, совершаемых им в течение целого года? Конечно, нет. Доход его равняется только излишку суммы его продаж над расходами. Поэтому налог на доход должен взиматься только с этого излишка" <Say, Economie politique, v. II, p. 349-350. - Прим. ред.>. Ошибка г-на Сэя заключается в предположении, что так как стоимость продукта одной из этих двух ферм превышает после возмещения капитала стоимость продукта другой, то и чистый доход одного земледельца превышает чистый доход другого ровно настолько же. [Чистый доход владельцев и арендаторов лесной площади может быть в совокупности гораздо больше, чем чистый доход владельцев и арендаторов пахотной земли, но это происходит вследствие разницы в ренте, а не разницы в норме прибыли.] <Вставка в третьем издании. - Прим. ред.> Г-н Сэй совершенно забыл, что ему следует ещё рассмотреть разницу в размерах рент, которые должны будут платить оба арендатора. В одной и той же отрасли хозяйства не может существовать двух норм прибыли; поэтому, если стоимость продукта находится в различном отношении к капиталу, то разница будет заключаться не в прибыли, а в ренте. На каком основании один человек получал бы с капитала в 2 тыс. фр. чистый доход в 10 тыс. фр., в то время как другой, применяя капитал в 8 тыс. фр., получает только 4 тыс фр.? Пусть г-н Сэй примет во внимание ренту, пусть он, кроме того, примет во внимание действие, которое такой налог оказал бы на цены различных видов сырых материалов. Тогда он заметит, что этот налог далеко не является неравномерным и что производители будут участвовать в уплате его таким же образом, как и любой другой класс потребителей. Глава 14. Налоги на дома
Кроме золота существуют ещё и другие товары, количество которых не может быть быстро уменьшено. Поэтому всякий налог на такие товары падает на их собственника, если возрастание их цены будет сопровождаться уменьшением спроса. К налогам этого рода принадлежат налоги на дома: хотя они взимаются с нанимателей, они часто падают на землевладельца, уменьшая его ренту. Продукт земли потребляется и воспроизводится из года в год. То же самое можно сказать о многих других товарах. И так как количество их вслవдствие этого можно скоро привести к одному уровню со спросом, то цена не может долго превышать их естественную цену. Но налог на дома можно рассматривать как дополнительную ренту, уплачиваемую нанимателем. Этот налог имеет поэтому тенденцию уменьшить спрос на дома, доставляющие одинаковую годовую ренту, не уменьшая их предложения. Рента, следовательно, упадёт, и часть налога будет тогда косвенно уплачена землевладельцем. "В ренте с дома или наёмной плате, - говорит Адам Смит, - можно различать две части, из которых одна может быть вполне уместно названа строительной рентой, а другая обычно называется земельной рентой. Строительная рента (или рента от здания) представляет собою процент или прибыль на капитал, затраченный на постройку дома. Для того, чтобы поставить строительную промышленность в одинаковые условия с другими промыслами, необходимо, чтобы эта рента была достаточна, во-первых, для оплаты строителю такого же процента, какой он получил бы на свой капитал, если бы ссудил его под надёжное обеспечение, и, во-вторых, для сохранения его дома в надлежащем порядке или, что то же самое, для возмещения, спустя определённое число лет, капитала, затраченного на его постройку... Если сравнительно с существующим процентом на капитал строительное дело приносит в какой-либо момент гораздо более высокую прибыль, чем эта, то оно скоро привлечёт к себе из других отраслей промышленности так много капитала, что это понизит прибыль до её нормального уровня. Если оно в какой-либо момент приносит гораздо меньше этого, то другие отрасли промышленности скоро отвлекут от него так много капитала, что опять-таки повысят эту прибыль. Вся та часть ренты с дома, которая остаётся сверх того, что необходимо для доставления этой умеренной прибыли, естественно, приходится на земельную ренту, и в тех случаях, когда собственник земли и собственник здания - два различных лица, она в большинстве случаев целиком выплачивается первому. Эта добавочная рента представляет собою цену, которую обитатель дома уплачивает за какое-либо действительное или предполагаемое преимущество местоположения. Сельские дома, находящиеся на значительном расстоянии от большого города, где вдоволь свободной земли, дают совсем незначительную ренту и во всяком случае не больше того, что приносила бы земля, на которой стоит дом, если бы была использована для земледелия. Рента с загородных вилл по соседству с большим городом бывает иногда значительно выше, и в этом случае особые удобства или красота местоположения очень хорошо оплачиваются. Земельная рента обычно выше всего в столице и в тех отдельных районах её, где предъявляется наибольший спрос на дома, безразлично для каких целей: для промышленных и торговых, для развлечений и приёма гостей или из-за простого тщеславия и моды" <Адам Смит, Исследование о природе и причинах богатства народов, т. II, стр. 354-355. - Прим. ред.>. Налог на ренту с домов может падать на нанимателя, на землевладельца или же на домовладельца. При обыкновенных условиях можно считать, что весь налог уплачивается непосредственно и в конечном счёте нанимателем. Если налог является умеренным, страна же или находится в неизменном состоянии, или прогрессирует, то у нанимателя мало оснований довольствоваться домами худшего разряда. Но если налог высок или если какие-нибудь другие обстоятельства уменьшают спрос на дома, то доход землевладельца упадёт, так как наниматель отчасти вознаградит себя за налог уменьшением платы. Однако трудно сказать, в каком отношении часть налога, сберегаемая нанимателем путём уменьшения платы, распределится между рентой со строений и земельной рентой. В первом случае уменьшение коснулось бы, вероятно, и той и другой, но так как дома, хотя и медленно, всё же, несомненно, разрушаются и постройка их прекратилась бы до тех пор, пока прибыль строителя не достигла прежнего уровня, то после известного промежутка времени рента со строений вернулась бы к своей естественной цене. Так как строитель получает ренту только до тех пор, пока держится строение, то даже при очень неблагоприятных условиях он мог бы в течение очень долгого времени не платить ни единой доли налога на дом. Таким образом, уплата этого налога падает в конце концов на нанимателя и землевладельца, но "в каком отношении распределится между ними этот конечный платёж, - говорил Адам Смит. - Распределение это будет, вероятно, весьма различно при различных условиях, и налог этого рода может, в зависимости от этих различных обстоятельств, очень неравномерно ложиться на нанимателя дома и на собственника земли" <Адам Смит, Исследование о природе и причинах богатства народов, т. II, стр. 356. - Прим. ред.>. По мнению Адама Смита, земельная рента представляет особенно пригодный объект для обложения. "Земельная рента с застроенных участков и обычная земельная рента представляют собой такой вид дохода, которым собственник во многих случаях пользуется без всяких забот и усилий с его стороны. И если часть этого дохода будет отниматься у него для покрытия расходов государства, от этого не пострадает ни одна отрасль труда. После введения такого налога годовой продукт земли и труда общества, действительное богатство и доход массы населения могут оставаться неизменными. Ввиду этого земельная рента с застроенных участков и обычная земельная рента являются, пожалуй, тем видом дохода, какой лучше всего может выносить особый налог, устанавливаемый с него" <Там же, стр. 358. - Прим. ред.>. Нужно признать, что последствия этих налогов будут именно такими, какими их изобразил Адам Смит. Но было бы, конечно, очень несправедливо обложить налогом исключительно доход одного какого-нибудь класса общества. Бремя государственных расходов должно быть распределено между всеми пропорционально средствам каждого: так гласит одно из четырёх правил, с которыми, по мнению Адама Смита, должно сообразоваться всякое обложение. Рентой пользуются часто те, кто после многих лет трудовой жизни реализует свои барыши и затрачивает своё имущество на покупку земли или домов. И если бы мы обложили ренту неравномерным налогом, мы, несомненно, нарушили бы принцип, который всегда должен оставаться для нас священным, - неприкосновенность собственности. Остаётся только сожалеть, что пошлины, которыми обременён переход земельной собственности, существенным образом мешают переходу её в руки тех, кто мог бы, вероятно, использовать её наиболее производительно. Необходимо принять во внимание, что, будучи рассматриваема как объект, пригодный для исключительного обложения, земля не только потеряла бы часть своей цены в вознаграждение за риск, связанный с таким обложением, но в силу неопределённой природы и переменчивой стоимости такого риска она сделалась бы объектом, пригодным для спекуляции, носящей скорее характер биржевой игры, чем здоровой торговли. Вероятно, окажется, что земля в этом случае попадёт скорее всего в руки человека, обладающего в большей мере свойствами игрока, чем свойствами здравомыслящего собственника, который мог бы использовать свою землю наиболее выгодным образом. Глава 15. Налоги на прибыль
Налоги на те товары, которые носят общее название предметов роскоши, падают исключительно на потребителей этих товаров. Налог на вино падает на его потребителя. Налог на выездных лошадей или на кареты уплачивается теми, кто пользуется ими лично для себя и прямо пропорционален количеству этих предметов удовольствия. Иначе обстоит дело с налогами на предметы необходимости. Такие налоги часто падают на потребителей в пропорции, гораздо более высокой, чем количество потребляемых ими предметов. Мы видели выше, что налог на хлеб, падая на фабриканта как потребителя пропорционально потреблению им и его семьёй хлеба, уменьшает в то же время его доход ещё и другим путём, изменяя норму прибыли на капитал. Всё, что увеличивает заработную плату, уменьшает прибыль с капитала. Поэтому всякий налог на какой-либо товар, потребляемый рабочим, имеет тенденцию понижать норму прибыли. Налог на шляпы повысит цену шляп, налог на обувь - цену обуви. В противном случае такой налог был бы в конце концов уплачен фабрикантом: его прибыль упала бы ниже общего уровня, и он покинул бы свою отрасль. Специальный налог на прибыль повысил бы цену продуктов, подвергшихся обложению. Так, налог на прибыль фабриканта шляп повысил бы цену шляп. Ибо если налог будет взиматься только с прибыли фабриканта шляп, а прибыль других фабрикантов будет свободна от него, то прибыль первого, раз он не может повысить цену своих шляп, понизилась бы в сравнении с общей нормой прибыли, и он переменил бы своё занятие. Точно так же налог на прибыль фермера вызвал бы повышение цены хлеба, налог на прибыль фабриканта сукон - повышение цены сукон, и если бы налог, пропорциональный прибыли, был установлен во всех отраслях промышленности, то повысились бы цены всех товаров. Но если бы рудники, снабжающие нас материалом, из которого нами делаются деньги, находились в нашей стране, если бы налог падал также на прибыль владельцев этих рудников, то цены товаров не повысились бы и каждый отдавал бы одинаковую часть своего дохода. В этом случае положение вещей нисколько не изменилось бы. Если бы деньги не были обложены и, следовательно, сохраняли свою стоимость, в то время как стоимость всех других товаров вследствие обложения увеличилась бы, то фабрикант шляп, фермер, фабрикант сукон платили бы одну и ту же сумму в виде налогов при условии, что они употребляют одинаковый капитал и получают одинаковую прибыль. Если бы налог равнялся 100 ф. ст., то стоимости шляп, сукна и хлеба возросли бы каждая на 100 ф. ст. Если фабрикант шляп выручает за свои шляпы вместо 1 тыс. ф. ст. 1 100 ф. ст., то он уплатит правительству в виде налога 100 ф. ст. Следовательно, у него постоянно будет оставаться 1 тыс. ф. ст., которую он может издержать на товары, нужные ему для собственного потребления. Но так как в силу той же самой причины повысятся цены сукна, хлеба и всех других товаров, то фабрикант шляп получит за свою 1 тыс. ф. ст. не больше, чем прежде за 910 ф. ст., и таким образом он будет участвовать в покрытии государственных нужд, уменьшая свои личные расходы. Уплачивая налог, он, вместо того чтобы потребить определённую часть продукта земли и труда страны, предоставляет её в распоряжение правительства. Если бы, вместо того чтобы издержать 1 тыс. ф. ст., он прибавил её к своему капиталу, то он нашёл бы, что его сбережение в 1 тыс. ф. ст. составляет теперь вследствие повышения заработной платы и возросших издержек на сырой материал и машины не больше, чем прежнее сбережение в 910 ф. ст. Если бы деньги были обложены каким-нибудь налогом или стоимость их в силу какой-нибудь причины изменилась, а цены всех товаров остались без изменения, то прибыль фабриканта и фермера также осталась бы без изменения: она составляла бы, как и прежде, 1 тыс. ф. ст. А так как они должны были бы каждый уплатить правительству 100 ф. ст., то у них осталось бы только по 900 ф. ст., и они могли бы теперь располагать меньшей частью продукта земли и труда страны, всё равно, будет ли эта часть затрачена на производительный или непроизводительный труд. Ровно столько, сколько они теряют, приобретает правительство. В первом случае плательщик налога получил бы за 1 тыс. ф. ст. такое же количество товаров, как прежде за 910; во втором - столько же, сколько прежде за 900 ф. ст., так как цены товаров не изменились бы, а у него оставалось бы для расходов только 900 ф. ст. Это является результатом разницы в размерах налога: в первом случае налог составляет 1/11 часть дохода плательщика, во втором - 1/12, так как деньги в обоих случаях имели различную стоимость. Но хотя даже при отсутствии налога на деньги и сохранении ими прежней стоимости цены всех товаров повышаются, они всё-таки повышаются не в одинаковой пропорции, так как после обложения товаров налогом их относительная стоимость изменилась бы в сравнении с той, которая существовала до обложения. В одной из предыдущих глав мы уже рассматривали влияние, которое оказывает на цены товаров разделение капитала на основной и оборотный или, скорее, на долговечный и преходящий. Мы показали, что два фабриканта могут затратить капиталы одинакового размера и могут также получать одинаковую сумму прибыли, но будут продавать свои товары за совершенно различные суммы денег, смотря по тому, скоро или медленно потребляются и воспроизводятся затраченные ими капиталы. Один из них мог продать свои товары за 4 тыс. ф. ст., а другой - за 10 тыс. ф. ст., между тем как капитал каждого из них составлял 10 тыс. ф. ст. и каждый получил 20% прибыли, или 2 тыс. ф. ст. Капитал одного из них мог состоять, например, из 2 тыс. ф. ст. оборотного капитала, который должен быть воспроизведён, и 8 тыс. ф. ст. основного - в машинах и зданиях; напротив, капитал второго мог состоять из 8 тыс. ф. ст. оборотного капитала и всего 2 тыс. ф. ст. основного - в зданиях и машинах. И вот, если каждый из них должен был бы платить налог, составляющий 10% его дохода, или 200 ф. ст., то один из них для получения обычной нормы прибыли должен был бы повысить цену своих продуктов с 10 тыс. до 10 200 ф. ст., а другой - с 4 тыс. до .4 200 ф. ст. До установления налога товары, продаваемые одним из них, были дороже товаров другого в 2,5 раза, после установления налога они будут дороже в 2,42 раза. Цена первых повысилась бы на 2%, а цена вторых- на 5%. Следовательно, налог на доход, пока деньги сохраняют свою прежнюю стоимость, изменил бы относительные цены и стоимость товаров. Это [было бы] <В первом издании сказано категорически: "это верно". - Прим. ред.> верно и в том случае, если бы налог взимался не с прибыли, а с самих товаров. При условии, что последние будут обложены налогом пропорционально стоимости капитала, употреблённого на их производство, цены их повысятся одинаково, какова бы ни была их стоимость, и, следовательно, прежнее соотношение между ними нарушится. Цена товара, возросшая с 10 тыс. до 11 тыс. ф. ст., не может оставаться в том же отношении к цене другого товара, если последняя возросла с 2 тыс. до 3 тыс. ф. ст. Если при данных условиях стоимость денег в силу какой-нибудь причины увеличивается, то это окажет неодинаковое действие на цены различных товаров. Та самая причина, которая понизит цену одного товара с 10 200 до 10 тыс., или меньше чем на 2%, понизит цену другого с 4 200 до 4 тыс., или на 4 3/4 %. Если бы они понизились в какой-либо другой пропорции, то прибыль была бы неодинакова. Чтобы сделать её одинаковой, необходимо, чтобы при цене одного товара в 10 тыс. ф. ст. цена другого составляла бы 4 тыс., а при цене первого товара в 10 200 ф. ст. цена второго должна составлять 4 200 ф. ст. Установив этот факт, мы легче поймём один очень важный принцип, который, как мне кажется, до сих пор не был указан. Он состоит в следующем: в стране, в которой не существует никаких налогов, изменение в стоимости денег, вызванное их недостатком или избытком, повлияет в одинаковом отношении на цены всех товаров, так что если стоимость одного товара, равная 1 тыс. ф. ст., повысится до 1 200 или понизится до 800, то стоимость другого товара, равная 10 тыс., тоже повысится до 12 тыс. или упадёт до 8 тыс. Напротив, в стране, в которой цены искусственно вздуты благодаря налогам, изобилие денег вследствие притока их из-за границы или вывоз их, а значит и редкость их в силу спроса на них за границей, повлияют на цены всех товаров не в одинаковом отношении; так что если цены одних повысятся или понизятся на 5, 6 или 12%, то цены других поднимутся или упадут на 3, 4 или 7 %. Если бы в стране не существовало налогов и стоимость денег упала, то изобилие их на всех рынках произвело бы одинаковое действие на каждый товар. Если бы цена мяса возросла на 20%, то повысились бы также на 20% и цены хлеба, пива, обуви, труда и всех других товаров. Без этого общего повышения нельзя было бы обеспечить для всех отраслей промышленности одинаковую норму прибыли. Но дело должно происходить иначе, как только на один из этих товаров устанавливается налог. Если бы в этом случае цены всех товаров повысились пропорционально падению стоимости денег, то прибыль оказалась бы неодинаковой. При обложении товаров налогом прибыль поднялась бы выше общего уровня, и капитал начал бы отливать в другие отрасли промышленности, пока не восстановилось бы равновесие прибыли, а это возможно было бы только после изменения относительных цен. Не даёт ли нам этот принцип ключ к объяснению различного воздействия, которое оказало на цены товаров изменение в стоимости денег в тот период, когда Английский банк прекратил свои платежи? Тем, кто утверждал, что в течение всего этого периода деньги были обесценены вследствие слишком больших выпусков бумажных денег, возражали, что в таком случае цены всех товаров должны были бы повыситься в одной и той же пропорции; между тем оказалось, что цены некоторых товаров изменились гораздо больше, чем цены других товаров. Отсюда сделан был вывод, что рост цен вызван был каким-нибудь обстоятельством, повлиявшим на изменение стоимости самих товаров, а не каким бы то ни было изменением в стоимости денег. Но мы сейчас видели, что в стране, в которой товары обложены налогами, цены их не будут изменяться в одинаковой пропорции вследствие повышения или падения стоимости денег. Если бы налог на прибыль был установлен во всех отраслях промышленности, за исключением прибыли фермера, то повысилась бы денежная стоимость всех товаров, за исключением сырых материалов. Фермер получал бы тот же доход в виде хлеба, что и прежде, и продавал бы свой хлеб за ту же цену, но так как он должен был бы платить добавочную цену за все товары, которые он потребляет, за исключением хлеба, то для него это равнялось бы налогу на потребление. От этого налога его не избавило бы даже изменение стоимости денег, ибо это изменение может понизить цены всех обложенных товаров до их прежнего размера, но цена того из них, который был освобождён от налога, упала бы ниже прежнего уровня. Следовательно, хотя фермер покупал бы нужные ему товары по прежним ценам, он будет иметь теперь меньше денег для их покупки. Точно в таком же положении находился бы и землевладелец. Если бы цены всех товаров повысились, а стоимость денег не изменилась, то он получал бы такую же хлебную и денежную ренту, как и прежде. Но если бы цены товаров остались без изменения, он перестал бы получать такую же денежную земельную ренту, хотя его хлебная рента не изменилась бы. Итак, в обоих случаях он косвенным образом участвовал бы в уплате взимаемых денег, хотя его доход не был бы обложен непосредственно. Предположим теперь, что прибыль фермера также подвергнется обложению. Он будет тогда в таком же положении, как и все другие предприниматели. Цена его сырых материалов повысится, и после уплаты налога он будет получать тот же денежный доход, но зато он будет платить добавочную цену за все товары, которые он потребляет, включая сырые материалы. Однако его землевладелец был бы теперь в другом положении. Налог на прибыль фермера принесёт ему выгоду, так как он получил бы вознаграждение за прибавку в цене, которую он должен платить при покупке промышленных товаров, если цены последних повышаются. Он получал бы тот же самый денежный доход, если бы вследствие уменьшения стоимости денег товары продавались по прежним ценам. Налог на прибыль фермера не представляет собою налога, пропорционального валовому продукту земли; он пропорционален чистому продукту, который остаётся после уплаты ренты, заработной платы и всех других расходов. Так как арендаторы различных разрядов земли, N 1, 2 и 3, затрачивают совершенно одинаковые капиталы, то и прибыль их будет тоже совершенно одинакова, независимо от величины валового дохода, который у одного может быть больше, чем у другого. Следовательно, и налог будет падать на них одинаково равномерно. Предположим, что валовой продукт земли N 1 равняется 180 квартерам, N 2 - 170 квартерам и N 3 - 160 квартерам и что каждый из них обложен налогом в 10 квартеров. Разность между валовыми продуктами N 1, 2 и 3 после уплаты налога будет та же, что и прежде: если валовой продукт N 1 понизился до 170, N 2 - до 160 и N 3 - до 150 квартеров, то разность между N 3 и N 1 будет, как и прежде, составлять 20 квартеров, а разность между N 3 и N 2 - 10 квартеров. Если после введения налога цены хлеба и всех других товаров останутся без изменения, то и денежная и хлебная ренты сохранят свою прежнюю величину, но если вследствие налога цены хлеба и всех других товаров повысятся, то денежная рента увеличится в той же пропорции. Если бы цена хлеба равнялась 4 ф. ст. за квартер, то рента N 1 составляла бы 80 ф. ст., а рента N 2 - 40 ф. ст., но если бы цена хлеба увеличилась на 5 %, или до 4 ф. ст. 4 шилл., рента также увеличилась бы на 5%, ибо 20 квартеров стоили бы тогда 84 ф. ст., а 10 - 42 ф. ст. И в том и в другом случае такой налог не коснулся бы землевладельца. Налог на прибыль с капитала не вызывает никаких изменений в величине хлебной ренты, поэтому денежная рента изменяется в зависимости от цены хлеба. Зато налог на сырые материалы, или десятина, всегда вызывает изменения в величине хлебной ренты, но оставляет обычно без изменения денежную ренту. В другой части настоящего труда я отметил, что если бы на все обрабатываемые земли без различия их плодородия был наложен одинаковый денежный земельный налог, то он оказался бы очень неравномерным, так как особенную выгоду получили бы владельцы наиболее плодородных земель. Такой налог повысил бы цену хлеба пропорционально бремени, которое несёт арендатор худшей земли. Но так как эта прибавка в цене получалась бы за счёт большего количества продукта, доставляемого более плодородными землями, то арендаторы последних получали бы на всё время аренды добавочный барыш, а после истечения срока аренды этот барыш был бы присвоен землевладельцами в форме повышения ренты. Такое же действие оказал бы одинаковый налог на прибыль фермера. Он увеличил бы денежную ренту землевладельца, если бы деньги сохранили свою прежнюю стоимость. Но так как налог падает одинаково на прибыль фермера и на прибыль всех других предпринимателей и, следовательно, одновременно с повышением цены хлеба повысятся также цены всех других товаров, то землевладелец теряет от возросшей денежной цены товаров и хлеба, на которые он тратит свою ренту, столько же, сколько он выигрывает от повышения своей ренты. При увеличении стоимости денег и одновременном введении налога на прибыль цены всех предметов вернулись бы к своему старому уровню и рента приняла бы также прежние размеры. Землевладелец получал бы ту же самую денежную ренту и покупал бы все товары, на которые он прежде тратил её, по старым ценам. Таким образом, при всевозможных условиях он был бы избавлен от налога <Для землевладельца было бы в высокой степени выгодно, чтобы налог падал только на прибыль фермеров, а не на прибыль каких-нибудь других капиталистов. В действительности это был бы налог на потребителей сырых материалов, который частью шёл бы в пользу государства, частью в пользу землевладельцев. [Это примечание сделано к третьему изданию.]>. [Это явление любопытно. Вы облагаете налогом фермера и, несмотря на это, не обременяете его больше, чем если бы вы совсем освободили его прибыль от налога. И в то же время землевладелец сильно заинтересован в том, чтобы прибыль его арендатора была обложена, так как только при этом условии он сам в действительности освобождается от всякого налога.] <Вставка во втором и третьем изданиях. - Прим. ред.> Если бы цены всех товаров повысились пропорционально налогу, то налог на прибыль с капитала <В первом и втором изданиях Рикардо вместо термина "capital" употребляет термин "stock". - Прим. ред.> коснулся бы также денежного капиталиста, [хотя дивиденд последнего не был бы затронут налогом] <Вставка в третьем издании. - Прим. ред.>; но если бы вследствие изменения стоимости денег цены всех товаров вернулись к прежнему уровню, денежный капиталист не принимал бы никакого участия в уплате налога. Он покупал бы все товары по прежним ценам и получал бы в то же время свой прежний денежный дивиденд. Если мы допускаем, что вследствие обложения прибыли только одного промышленника должна повыситься цена его товаров, для того чтобы он был в равных условиях с другими промышленниками, если мы, далее, допускаем, что при обложении прибыли двух промышленников должны повыситься цены товаров того и другого, то я не понимаю, как можно отрицать, что при обложении налогом прибыли всех промышленников повысятся цены всех товаров, - конечно, при условии, что рудники, снабжающие нас деньгами, [находятся в нашей стране и не обложены налогами] <В первом издании: "находятся в стране, где они обложены налогами". - Прим. ред.>. Но так как деньги или денежный материал являются товаром, привозимым из-за границы, то цены всех товаров не могут повыситься. Такое повышение возможно было бы только при добавочном количестве денег <После вторичного рассмотрения этого вопроса я сомневаюсь, действительно ли требуется большее количество денег для обращения того же количества товаров, если цены их повысились вследствие введения налога, а не вследствие увеличения трудности их производства. Предположим, что в данной местности и в данное время продаются 100 тыс. квартеров хлеба по 4 ф. ст. за квартер. Если вследствие прямого налога в 8 шилл. на квартер цена квартера поднимается до 4 ф. ст. 8 шилл., то мне кажется, что для обращения этого хлеба по возросшим ценам вполне достаточно будет прежнего количества денег. Если я прежде покупал 11 квартеров по 4 ф. ст. и вследствие налога должен сократить своё потребление до 10 квартеров, то я не нуждаюсь в большем количестве денег, ибо я в обоих случаях буду платить за хлеб 44 ф. ст. В действительности население будет потреблять меньше на одну одиннадцатую часть, и это количество пошло бы в пользу правительства. Деньги, необходимые для покупки хлеба, получены были бы из сбора в 8 шилл. на квартер, который взимался бы с фермеров в виде налога, но одновременно с этим вся сумма налога возвращалась бы к ним в уплату за их хлеб. Вот почему этот налог в действительности представляет собой натуральный налог и не вызывает необходимости в большей затрате денег, а если и вызывает, то столь незначительную, что мы можем ею пренебречь. [Это примечание сделано к третьему изданию.]>, а последние, как это показано было в пятой главе, не могут быть получены в обмен за дорогие товары. Впрочем, если бы даже такое повышение произошло, оно не могло бы быть постоянным, так как оно оказало бы огромное влияние на внешнюю торговлю. Дорогие товары не могли бы вывозиться в обмен на ввозимые товары, и в течение известного времени мы вынуждены были бы продолжать свои покупки, хотя мы прекратили бы продажу своих товаров. Мы вывозили бы, таким образом, деньги или слитки до тех пор, пока относительные цены товаров не стали бы приблизительно такими же, как и прежде. Я считаю совершенно несомненным, что хорошо урегулированный налог на прибыль в конце концов привёл бы к восстановлению тех же самых денежных цен, какие существовали на отечественные и иностранные товары до введения налога. Так как налоги на сырые материалы, десятина, налог на заработную плату и на предметы насущной необходимости для рабочего влекут за собой повышение заработной платы и, следовательно, понижают прибыль, то все они, хотя и не в одинаковой степени, приведут к тем же последствиям. Изобретение машин, существенно улучшающих отечественную промышленность, имеет всегда тенденцию повышать относительную стоимость денег, а следовательно, и поощрять их ввоз. Напротив, всякий налог, всякие препятствия, которые ставятся фабриканту или земледельцу, имеют тенденцию понижать относительную стоимость денег, а следовательно, и поощрять их вывоз. Глава 13. Налоги на золото
Всякий налог на товары или увеличивающаяся трудность их производства всегда влекут за собой в конце концов повышение их цены. Но сколько пройдёт времени, пока рыночная цена товара придёт в соответствие с его естественной ценой, зависит как от природы самого товара, так и от возможности быстро уменьшить его количество. Если бы количество обложенного товара не могло быть уменьшено, если бы, например, фермер или фабрикант шляп не могли перевести свой капитал в другие отрасли промышленности, то падение их прибыли ниже общего уровня вследствие налога не сопровождалось бы никакими другими последствиями. Если только спрос на их товары не увеличится, они не будут в состоянии повысить рыночную цену хлеба и шляп, чтобы сравнять её с повысившейся естественной ценой этих товаров. Их угрозы покинуть своё занятие и перевести свои капиталы в другие отрасли промышленности, находящиеся в более благоприятном положении, остались бы только пустыми словами. Они не могли бы привести их в исполнение, а следовательно, и повысить цены своих товаров путём уменьшения их производства. Но - хотя и с различной степенью скорости - количество всякого товара может быть уменьшено, точно так же как и капитал может быть перемещён из менее прибыльной отрасли промышленности в более прибыльную. Чем скорее может быть уменьшено без ущерба для производителя количество того или другого товара, тем скорее повысится его цена, если вследствие обложения или какой-нибудь другой причины возрастёт трудность его производства. Так как хлеб представляет товар, безусловно необходимый каждому, то спрос на него не подвергнется вследствие введения налога существенному изменению, а потому и предложение хлеба оказалось бы, вероятно, слишком большим только в течение короткого времени; это было бы так даже в том случае, если бы производители встретили большие затруднения при перемещении своего капитала из земледелия в другие отрасли промышленности. Вот почему цена хлеба быстро повысится вследствие обложения, и фермер будет в состоянии переложить налог с себя на потребителя.Если бы рудники, которые снабжают нас золотом, находились в нашей стране и золото было обложено налогом, то его относительная стоимость не могла бы повыситься в сравнении с другими предметами, пока не сократилось бы его количество. И это явление наблюдалось бы в особенности при условии, что золото употреблялось исключительно для чеканки монеты. Верно, что наименее производительные рудники, не приносящие ренты, перестали бы давать обычную норму прибыли и разработка их приостановилась бы до тех пор, пока относительная стоимость золота не повысилась на сумму, равную налогу. Количество золота, а следовательно, и количество денег постепенно уменьшалось бы; в течение первого года оно уменьшилось бы незначительно, в течение второго года - немного больше, пока в конце концов стоимость золота не повысилась бы пропорционально налогу; но в это переходное время пострадали бы землевладельцы или арендаторы, так как налог платили бы они, а не те, кто пользуется деньгами. Если бы из каждой тысячи квартеров пшеницы, имеющейся в наличности, или из каждой тысячи квартеров следующего урожая правительство брало в качестве налога 100 квартеров, то остальные 900 будут обмениваться на такое же количество других товаров, на какое прежде обменивалась тысяча квартеров. Но если бы то же самое произошло с золотом, если из каждой тысячи фунтов стерлингов монеты, находящейся в стране, или той, которая будет ввезена, правительство могло бы брать в качестве налога 100 ф. ст., то остальные 900 ф. ст. вряд ли имели бы большую покупательную силу, чем прежде 900 ф. ст. Налог упадёт на тех, чьё имущество заключается в деньгах, и это будет продолжаться до тех пор, пока количество денег не сократится пропорционально увеличению издержек производства золота, поскольку это увеличение вызвано налогом. Такое явление наблюдается, пожалуй, чаще, когда мы имеем дело с металлом, который служит деньгами, чем когда мы имеем дело со всяким другим товаром. Ведь спрос на деньги не имеет таких определённых количественных пределов, как спрос на предметы одежды или пищи. Спрос на деньги регулируется всецело их стоимостью, а их стоимость - их количеством. Если бы стоимость золота удвоилась, то половинное количество его могло бы выполнять те же функции в обращении, а если бы стоимость его уменьшилась вдвое, то для выполнения их требовалось бы двойное количество золота. Если бы рыночная стоимость хлеба вследствие обложения или увеличения трудности производства возросла на одну десятую, то сомнительно, чтобы это сколько-нибудь повлияло на количество потребляемого хлеба: нуждаясь в определённом количестве хлеба, каждый потреблял бы его столько же, сколько и прежде, если бы, конечно, он имел средства для покупки хлеба. Что же касается денег, то спрос на них прямо пропорционален их стоимости. Никто не мог бы потребить вдвое больше хлеба, чем ему обычно необходимо для поддержания существования, но каждый при покупке и продаже одного и того же количества товаров может быть вынужден употреблять вдвое, втрое и даже в несколько раз больше денег, чем раньше. Аргументы, которые я только что приводил, имеют значение только для тех фаз общественного развития, в течение которых в качестве денег употребляются драгоценные металлы, а кредитные бумаги ещё не существуют. Золото, как и все другие товары, имеет свою рыночную стоимость, которая в конечном счёте регулируется сравнительной лёгкостью или трудностью его производства. Хотя вследствие его долговечности и трудности уменьшить его количество рыночная стоимость золота вообще не легко подвергается колебаниям, возможность последних в значительной степени уменьшается ещё и потому, что золото выполняет функцию денег. Если бы количество золота, обращающегося на рынке только для нужд торговли, составляло 10 тыс. унций, а промышленное потребление его составляло бы ежегодно 2 тыс. унций, то при уменьшении его количества на сумму годичного ввоза стоимость его могла бы повыситься на одну четверть, или на 25%. Но если бы количество золота, выполняющего функцию денег, составляло 100 тыс. унций, то стоимость его повысилась бы на одну четверть не раньше, чем через 10 лет. Так как количество бумажных денег может быть легко уменьшено, то стоимость их, хотя бы базой их и являлось золото, могла бы возрасти так же быстро, как стоимость самого золота, при условии, что этот металл, составляя весьма малую часть обращающихся денег, был очень слабо связан с денежным обращением. Если бы золото добывалось только в одной стране, а в качестве денег употреблялось во всех странах, его можно было бы обложить значительным налогом, который падал бы на каждую страну пропорционально количеству золота, потребляемого для промышленных целей и производства различной утвари. Но как бы ни был велик налог, падающий на ту часть золота, которая употребляется в качестве денег, никто не платил бы его. Таково характерное свойство денег. Стоимость всех других товаров, количество которых ограничено и не может быть увеличено путём конкуренции, зависит от вкусов, капризов и средств покупателей. Но деньги - такой товар, увеличение количества которого не может быть желательным и не является необходимым ни для какой страны: употребляя 20 млн. в качестве средств обращения, она получила бы не больше выгоды, чем от употребления 10 млн. Страна может пользоваться монополией производства шёлка или вина, и всё-таки цены шёлковых изделий и вина упали бы, если бы в силу каприза, моды или изменения вкусов эти товары должны были уступить своё место сукну и водке. То же самое могло бы в известной степени произойти и с золотом, поскольку оно употребляется только для промышленных целей. Но, поскольку деньги служат всеобщим орудием обмена, спрос на них не зависит от свободного выбора и всегда является делом необходимости: вы вынуждены брать его в обмен за ваши товары. Вот почему при падении стоимости золота нет никакого предела увеличению его количества, которое может быть вам навязано внешней торговлей, и точно так же при повышении стоимости золота вам придётся согласиться на любое уменьшение его количества. Правда, вы можете заменить золото бумажными деньгами, но этим путём вы не уменьшите, да и не можете уменьшить количество денег, [потому что последнее регулируется стоимостью того металла, на который размениваются бумажные деньги] <Вставка во втором и третьем изданиях. - Прим. ред.>. Только путём повышения цен товаров можно задержать вывоз их из страны, где они покупаются за малое количество денег, в страну, в которой они могут быть проданы за более значительное количество. А это повышение может быть достигнуто только посредством ввоза металлических денег из-за границы или же посредством введения или увеличения выпуска бумажных денег внутри страны. Таким образом, если бы испанский король, - предполагая, что золотые рудники находятся в его монопольном владении и что только золото употребляется в качестве денег, - обложил золото большим налогом, то он в значительной степени повысил бы естественную стоимость денег. А так как рыночная стоимость золота в Европе в конечном счёте регулируется его естественной стоимостью в Испанской Америке, то Европа отдавала бы больше товаров за данное количество золота. Но тогда в Америке перестали бы добывать прежнее количество золота, потому что стоимость его возросла бы только пропорционально уменьшению его количества, вызванному возрастанием издержек его производства. Итак, Америка в обмен на вывозимое золото получала бы такое же количество товаров, как и прежде. В чём же заключался бы тогда выигрыш Испании и её колоний? В том, что при добывании меньшего количества золота на производство его затрачивалось бы меньше капитала. Из Европы получалась бы при применении меньшего капитала такая же стоимость в виде товаров, как прежде при употреблении большего капитала. Следовательно, масса продуктов, получаемых с помощью капитала, освобождённого из производства золота, составляла бы прямую выгоду, которую Испания извлекала бы из обложения его; обладая же монополией на какой-нибудь другой товар, она вряд ли могла бы получить такую значительную или такую верную выгоду путём его обложения. Такой налог, поскольку дело касается денег, не причинил бы европейским нациям никакого ущерба; они имели бы в своём распоряжении то же самое количество товаров и, следовательно, такое же самое количество средств потребления, как и прежде, хотя обращение этих товаров совершалось бы [вследствие повышения стоимости золота] <Вставка во втором и третьем изданиях. - Прим. ред.> при помощи меньшего количества денег. Если бы вследствие введения налога в рудниках добывалась только одна десятая часть золота, добываемого теперь, то стоимость этой десятой части равнялась бы стоимости всех десяти десятых, добываемых в настоящее время. Но испанский король не является монопольным собственником всех рудников, из которых добываются драгоценные металлы. Если бы даже он был им, то выгода его от владения ими и права обложения золота могла бы очень значительно уменьшиться благодаря ограничению спроса и потребления в Европе; последнее же явилось бы следствием более или менее полной повсеместной замены металлических денег бумажными. Согласование рыночной и естественной цены всех товаров всегда зависит от лёгкости, с какой может быть увеличено или уменьшено их предложение. В тех случаях, когда мы имеем дело с такими товарами, как золото, дома, труд и многие другие, такой результат не может быть при известных условиях получен быстро. Иначе обстоит дело с товарами, которые потребляются и вновь производятся из года в год, как, например, шляпы, обувь, хлеб и сукно. Количество их в случае необходимости может быть уменьшено, и потребуется короткий промежуток времени, чтобы в соответствии с возрастанием издержек их производства последовало сокращение их предложения. Налог на сырые материалы, получаемые с поверхности земли, падает, как мы видели, на потребителя и никоим образом не затрагивает ренты. Последнее может произойти лишь в том случае, если уменьшатся фонды, назначенные на содержание труда, и благодаря этому понизится заработная плата, уменьшится население и сократится также спрос на хлеб. Но налог на золото, получаемое из рудников, увеличивая стоимость этого металла, необходимо приведёт к уменьшению спроса на него и потому так же необходимо вызовет отлив капитала из золотопромышленности. Таким образом, несмотря на то, что Испания получила бы от налога на золото все выгоды, указанные мною выше, владельцы рудников, разработка которых прекратилась бы, лишились бы своей ренты. А так как рента не создаёт богатства, а только перемещает его, то это было бы потерей для отдельных лиц, а не для всей нации: испанский король и владельцы рудников, разработка которых продолжалась бы, получили бы сообща не только всё, что произвёл освобождённый капитал, но и всё, что потеряли другие владельцы. Предположим, что разрабатываются три рудника и дают: первый - 100, второй - 80 и третий - 70 фунтов золота; рента с N 1 равняется, значит, 30 фунтам, а с N 2 - 10. Предположим теперь, что каждый разрабатываемый рудник обложен налогом в 70 фунтов золота в год и что, следовательно, только N 1 может разрабатываться с прибылью; очевидно, что сейчас же исчезнет всякая рента. До введения налога из 100 фунтов, добывавшихся из N 1, уплачивалось 30 фунтов ренты, а 70 фунтов, т. е. количество, равное продукту наименее производительного рудника, оставалось золотопромышленнику. Но стоимость того, что остаётся теперь капиталисту рудника N 1, должна равняться прежней, иначе он не получит обычной прибыли на капитал; следовательно, стоимость 30 фунтов, которые остались бы за вычетом из 100 фунтов налога в 70 фунтов, должна равняться стоимости прежних 70 фунтов, а стоимость всех 100 фунтов - стоимости прежних 250. Она может подняться выше, но не может опуститься ниже, иначе прекратилась бы разработка и этого рудника. Так как золото представляло бы собою монопольный товар, то стоимость его могла бы превысить его естественную стоимость, и оно доставляло бы ренту, равную этому превышению. Но никто не стал бы затрачивать капиталы на разработку рудника, если бы стоимость добытого золота была ниже его естественной стоимости. В обмен за одну треть прежнего количества труда и капитала Испания получила бы теперь такое количество золота, которое обменивалось бы на то же или почти то же самое количество товаров, что и прежде. Она стала бы богаче на продукт двух третей капитала и труда, освободившихся из золотопромышленности. Если стоимость 100 фунтов золота равнялась бы стоимости 250 фунтов, добывавшихся раньше, то доля испанского короля, т. е, его 70 фунтов, равнялась бы по стоимости прежним 175: только небольшая часть королевского налога падала бы на подданных короля, а большая часть его получалась бы благодаря лучшему распределению капитала. Счёт Испании имел бы такой вид:
Из получаемых королем 7 тыс. испанский народ уплачивал бы только 1 400, а 5 600 были бы чистым выигрышем, который получался бы вследствие освобождения капитала. Если бы налог составлял не постоянную сумму с каждого разрабатываемого рудника, а известную долю продукта, то добываемое количество не сократилось бы немедленно вследствие его введения. Хотя налог поглощал бы половину, треть или четверть золота, добываемого из каждого рудника, владельцы последних были бы тем не менее заинтересованы в том, чтобы из их рудников добывалось так же много золота, как и прежде. Но если бы количество добываемого золота не уменьшалось и только часть добычи переходила от собственника к королю, то стоимость его не повысилась бы; налог падал бы на население колоний и не принёс бы никакой выгоды. Налог этого рода оказал бы такое же действие, какое, по мнению Адама Смита, налоги на сырые материалы оказывают на земельную ренту: он падал бы всецело на ренту с рудников. В действительности такой налог уже при небольшом его повышении не только поглотил бы всю ренту, но и лишил бы золотопромышленника обычной прибыли на капитал, и в результате он извлёк бы свой капитал из золотопромышленности. При дальнейшем повышении налога была бы поглощена также рента более богатых рудников и последовал бы дальнейший отлив капитала. Таким образом, количество золота всё уменьшалось бы, а его стоимость - повышалась, и получились бы те же результаты, на какие мы указывали раньше: часть налога уплачивалась бы населением испанских колоний, а другая часть его была бы вновь созданным продуктом, полученным благодаря возрастанию стоимости металла, который употребляется как средство обмена. Налоги на золото бывают двоякого рода; одни - на наличное количество золота, находящегося в обращении, и другие - на количество его, ежегодно добываемое из рудников. И те и другие имеют тенденцию уменьшать количество и повышать стоимость золота, но ни те, ни другие не повысят его стоимость, пока количество его не уменьшится. Поэтому временно, пока не уменьшится предложение золота, они будут падать на владельцев денег; в конечном же счёте часть, постоянно падающая на общество, будет уплачена, с одной стороны, владельцем рудника путём вычета из его ренты, а с другой - покупателем той части золота, которая идёт на производство предметов украшения и не превращается полностью в деньги. Глава 16. Налоги на заработную плату
Налоги на заработную плату приводят к её повышению и уменьшают, таким образом, норму прибыли с капитала. Мы видели уже, что налог на предметы насущной необходимости повышает их цены, благодаря чему повышается заработная плата. Единственное различие между налогом на предметы насущной необходимости и налогом на заработную плату состоит в том, что первый неизбежно сопровождается ростом цен на эти предметы, а второй - нет. Поэтому налог на заработную плату совершенно не затрагивает ни денежных капиталистов, ни землевладельцев, ни какой-нибудь другой класс, кроме предпринимателей, нанимающих рабочую силу. Налог на заработную плату является целиком налогом на прибыль, налог на предметы насущной необходимости - отчасти налогом на прибыль, отчасти налогом на богатых потребителей. Вот почему последствия, к которым в конце концов приводят эти налоги, вполне тождественны с результатами и прямого налога на прибыль. "...Заработная плата низших разрядов рабочих, - говорит Адам Смит, - повсюду неизбежно определяется двумя различными условиями: спросом на труд и обычной или средней ценой предметов питания. Спрос на труд в зависимости от того, возрастает ли он, остаётся ли неизменным или уменьшается, т. е. требует ли он возрастающего, неизменного или уменьшающегося населения, определяет уровень существования рабочего и устанавливает, в какой мере оно должно быть изобильное, умеренное или скудное. Обычная или средняя цена предметов продовольствия определяет количество денег, какое должен получать рабочий, чтобы иметь возможность из года в год приобретать эти обильные, умеренные или скудные средства существования. Поэтому при неизменном размере спроса на труд и цены предметов продовольствия прямой налог на заработную плату может иметь своим следствием только повышение заработной платы на сумму, несколько превышающую самый налог" <Адам Смит, Исследование о природе и причинах богатства народов, т. II, стр. 376. - Прим. ред.>. Против этого положения д-ра Смита г-н Бьюкенен выдвигает два возражения. Во-первых, он отрицает, что денежная заработная плата регулируется ценою пищевых продуктов, и, во-вторых, он отрицает, что налог на заработную плату приведёт к повышению цены труда. По отношению к первому пункту аргументация г-на Бьюкенена <Buchanan's ed. of the Wealth of Nations, 1814, v. IV. Observations> сводится к следующему (стр. 59): "Заработную плату, как уже было замечено, составляют не деньги, а то, что можно купить за деньги, т. е. пищевые продукты и другие предметы жизненной необходимости, и часть, достающаяся рабочему из общего имущества, будет всегда пропорциональна предложению. Там, где пищевые продукты дёшевы и находятся в изобилии, его доля будет больше; там, где они скудны и дороги, доля рабочего будет меньше. Его заработная плата будет ему всегда доставлять его справедливую долю, да она и не может дать ему больше. Правда, д-р Смит и многие другие экономисты придерживались мнения, что денежная цена труда регулируется денежной ценой пищевых продуктов и что при повышении цены последних пропорционально повышается и заработная плата. Но ясно, что цена труда не стоит ни в какой необходимой связи с ценою съестных припасов, так как она целиком зависит от соотношения между предложением труда и спросом на него. Кроме того, следует заметить, что высокая цена пищевых продуктов является верным признаком их недостаточного предложения и при естественном ходе вещей она поднимается, чтобы задерживать рост потребления. При уменьшении количества предлагаемых пищевых продуктов и распределении их между тем же числом потребителей каждому достанется, очевидно, меньшая доля, и рабочий должен будет взять на себя часть общей потери. Цены повышаются, чтобы распределить это бремя равномерно и помешать рабочему потреблять средства существования так же свободно, как и прежде. Но вслед за повышением цен должна, оказывается, возрастать и заработная плата, чтобы дать рабочему возможность потреблять то же количество пищевых продуктов, предложение которых уменьшилось. Получается, таким образом, что природа сама себе противоречит: сначала она повышает цену съестных припасов, чтобы уменьшить потребление, а затем повышает заработную плату, чтобы дать рабочему то же самое количество, что и прежде". Мне кажется, что в приведённой аргументации г-на Бьюкенена истина сильно переплетается с заблуждением. Так как высокая цена пищевых продуктов вызывается иногда недостаточным предложением, то г-н Бьюкенен считает высокую цену несомненным признаком недостаточного предложения. Результат, который мог быть обусловлен многими причинами, он приписывает действию исключительно одной причины. Не подлежит никакому сомнению, что в случае недостаточного предложения между прежним числом потребителей будет разделено меньшее количество пищевых продуктов и каждому достанется меньшая доля. Чтобы распределить равномерно лишения и помешать рабочему потреблять средства существования так же свободно, как и прежде, цена повышаются. Поэтому следует согласиться с г-ном Быокененом, что всякое повышение цены пищевых продуктов, вызванное недостаточным предложением, не должно непременно повысить денежную заработную плату: ведь потребление должно сократиться, а это достигается только путем уменьшения покупательной силы потребителей. Но одно то обстоятельство, что цена пищевых продуктов повышается вследствие недостаточного предложения, не даёт ещё нам права заключить, как это, повидимому, делает Бьюкенен, что при высоких ценах невозможно вполне достаточное предложение - при высоких ценах не только в сравнении с деньгами, но и со всеми другими предметами. Естественная цена товаров, которая всегда в конце концов определяет их рыночную цену, зависит от лёгкости производства, но произведённое количество непропорционально этой лёгкости. Хотя земли, которые обрабатываются теперь, по своим качествам значительно уступают тем, которые обрабатывались триста лет назад, и трудность производства, следовательно, возросла, может ли кто-нибудь сомневаться, что количество, производимое теперь, несравненно больше, чем количество, производившееся тогда? Высокая цена не только совместима с возрастающим предложением, но почти всегда сопровождает последнее. И если вследствие налогов или трудности производства поднимается цена пищевых продуктов без уменьшения их количества, то повысится и денежная заработная плата. Ибо, как вполне справедливо заметил г-н Бьюкенен, "заработную плату составляют не деньги, а то, что можно купить за деньги, т. е. пищевые продукты и другие предметы жизненной необходимости, и часть, достающаяся рабочему из общего имущества, будет всегда пропорциональна предложению" <Buchanan, v. IV. - Прим. ред.>. По отношению ко второму пункту - повлечёт ли за собою налог на заработную плату повышение цены труда - г-н Бьюкенен говорит: "Если рабочий получил уже справедливое вознаграждение за свой труд, то может ли он требовать от своего предпринимателя вознаграждение за то, что ему после придётся заплатить в качестве налога? Нет такого закона или принципа в человеческом обществе, которые могли бы оправдывать такое заключение. После того как рабочий получил свою заработную плату, последняя находится в его полном распоряжении, и он должен в меру своей способности сам нести всё бремя, которое будет возложено на него потом какими-нибудь поборами. Ясно, что у него нет никаких средств принудить тех, кто уже заплатил ему справедливую цену за его труд, вознаградить его за эту потерю" <Buchanan, v. III, p. 338. - Прим. ред.>. Но сам г-н Бьюкенен цитирует с большим одобрением следующее удачное место из сочинения г-на Мальтуса о народонаселении, - место, которое, по моему мнению, даёт вполне удовлетворительный ответ на возражение самого г-на Бьюкенена. "Цена труда, - если она может свободно достигать своего естественного уровня, - представляет собой наиболее важный политический барометр, выражающий отношение между предложением съестных припасов и спросом на них, между количеством, которое должно быть потреблено, и числом потребителей. Взятая в среднем, независимо от случайных обстоятельств, цена труда выражает, кроме того, вполне ясно потребности общества по отношению к народонаселению. Это значит: каково бы ни было среднее число детей от каждого брака, необходимое для сохранения населения в его теперешнем размере, цена труда будет или вполне достаточна для сохранения этого числа, или выше, или ниже, смотря по тому, в каком состоянии находятся фонды для содержания рабочих: в неизменном, прогрессирующем или регрессирующем. Однако, вместо того чтобы рассматривать цену труда с этой точки зрения, мы смотрим на неё, как на нечто такое, что мы можем повышать или уменьшать по своему произволу и что определяется главным образом королевскими мировыми судьями. Когда повышение цены пищевых продуктов уже показывает, что спрос на них слишком велик в сравнении с их предложением, мы - с целью поставить рабочего в прежнее положение- повышаем цену труда, т. е. увеличиваем спрос, и после этого удивляемся, что цена пищевых продуктов продолжает расти. Мы при этом поступаем именно так, как если бы при падении ртутного столбика барометра до точки "буря" мы искусственным давлением подняли бы ртуть до "прекрасной погоды" и были бы поражены, видя, что дождь продолжается" <Malthus, Essay on population, v. II, p. 165-166. - Прим. ред.>. "Цена труда выражает вполне ясно потребности общества по отношению к народонаселению"; она будет как раз достаточна для поддержания того населения, которого в данное время требует состояние фонда для содержания рабочих. Если заработная плата рабочего до того времени была только достаточна для поддержания требуемого населения, то после введения налога она перестала бы быть достаточной, потому что рабочий не имел бы тех же средств на содержание своей семьи. Следовательно, цена труда будет повышаться, потому что спрос на него будет продолжаться, а предложение его не прекратится только вследствие повышения цены. То обстоятельство, что цена шляп или солода повышается вследствие обложения, представляет самое обыкновенное явление. Цена их повышается потому, что требуемое количество не имелось бы в наличии, если бы цены их не повысились. То же самое происходит с трудом: если на заработную плату устанавливается налог, цена труда возрастает, потому что в противном случае нельзя было бы поддерживать требуемое население. И разве сам г-н Бьюкенен не признаёт всего этого, когда говорит: "если бы он (рабочий) действительно был вынужден довольствоваться только предметами самой насущной необходимости, то он не мог бы вынести дальнейшее понижение заработной платы, так как при таких условиях он не мог бы продолжать свой род"? Положим, что страна находится в таких условиях, при которых низшие слои рабочего населения должны были бы не только продолжать свой род, но и умножать его. Тогда их заработная плата регулировалась бы соответственно. Но множились ли бы они в требуемом количестве, если бы налог отнимал у них часть заработной платы и вынуждал их довольствоваться лишь предметами самой насущной необходимости? Не подлежит никакому сомнению, что цена обложенного товара не повысится пропорционально налогу, если спрос на него уменьшится, а количество его не может быть уменьшено. Если бы всюду употреблялись металлические деньги, то стоимость их вследствие налога не повысилась бы на длительное время пропорционально его размерам, потому что при более высокой цене денег спрос на них уменьшился бы, а количество их не уменьшилось бы. Бесспорно, что та же самая причина часто влияет на заработную плату. Число рабочих не может быть быстро увеличено или уменьшено пропорционально увеличению или уменьшению фонда, назначенного на их содержание, но в предположенном случае уменьшение спроса на труд не является необходимым, а если он и уменьшается, то непропорционально налогу. Г-н Бьюкенен забывает, что средства, собираемые путём налога, употребляются правительством на содержание рабочих; правда, непроизводительных, но всё-таки рабочих. Если бы при установлении налога на заработную плату цена труда не возрастала, то в очень сильной степени возросло бы соперничество в спросе на труд, потому что владельцы капитала, которых этот налог не коснулся бы, имели бы в своём распоряжении те же самые средства для найма рабочих и в то же время правительство, получившее этот налог, тоже имело бы для этой цели дополнительные средства. Правительство и народ стали бы, таким образом, конкурировать друг с другом, и результатом этой конкуренции было бы повышение цены труда. То же самое количество рабочих было бы занято, но они получали бы добавочную заработную плату. Если бы налог был с самого начала возложен на людей, имеющих капитал, то их фонды на содержание труда сразу же уменьшились бы в той же самой степени, в какой возросли бы фонды правительства, назначенные для той же цели. Таким образом, не произошло бы никакого повышения заработной платы, потому что если бы даже спрос не изменился, то исчезла бы всё-таки прежняя конкуренция. Если бы правительство сейчас же после сбора налога отправило всю выручку за границу в качестве субсидии иностранному государству, если бы, следовательно, этот фонд был затрачен на содержание иностранных, а не английских рабочих - солдат, матросов и т, д., - то спрос на труд действительно уменьшился бы и заработная плата не возросла бы, хотя бы она и была обложена налогом. Но то же самое произошло бы, если бы налог был установлен на предметы потребления или на прибыль с капитала или если для уплаты субсидии та же сумма взималась каким-нибудь другим образом: меньшее количество рабочих могло бы быть занято в самой стране. В одном случае рост заработной платы был бы задержан, в другом - она безусловно понизилась бы. Но предположим, что вся сумма налога на заработную плату, после того как он был получен от рабочих, была бы передана предпринимателям даром. Это увеличило бы их денежный фонд на содержание труда, но это не увеличило бы ни числа товаров, ни числа занятых. В результате усилилась бы только конкуренция между предпринимателями, и налог в конце концов не причинил бы ущерба ни хозяину, ни рабочему. Хозяин платил бы рабочему более высокую цену за его труд; прибавка, которая получалась бы рабочим, уплачивалась бы им в качестве налога правительству и опять возвращалась к хозяевам. Не следует, однако, забывать, что суммы, получаемые путём налогов, [расходуются обыкновенно расточительно, что налоги всегда взимаются в ущерб удобствам и удовольствиям народа и что они обыкновенно или уменьшают капитал или задерживают его накопление] <В первом издании сказано было только: "расходуются часто расточительно", остальное представляет вставку. - Прим. ред.>. Уменьшая капитал, они тем самым создают тенденцию к уменьшению действительного фонда, назначенного на содержание труда, и, следовательно, к уменьшению действительного спроса на него. Следовательно, налоги вообще, поскольку они уменьшают действительный капитал страны, уменьшают спрос на труд. Поэтому вероятное, хотя и не необходимое, последствие налога на заработную плату, свойственное не только ему, состоит в том, что, хотя последняя и повысится, она не увеличится на сумму, в точности равную налогу. Адам Смит полностью признаёт, как мы уже видели, что последствием налога на заработную плату является повышение её на сумму, по крайней мере равную налогу, и что налог этот, - если не непосредственно, то в конечном счёте, - выплачивается предпринимателем. До сих пор мы с ним совершенно согласны, но мы существенно расходимся в вопросе о дальнейшем действии таких налогов. "Следовательно, прямой налог на заработную плату труда, - говорит Адам Смит, - хотя он, может быть, и уплачивается непосредственно рабочим, в сущности говоря, не всегда даже авансируется им; так бывает, по крайней мере, в том случае, когда спрос на труд и средняя цена пищевых продуктов остались после введения налога без изменения. Во всех таких случаях лицо, непосредственно доставляющее рабочему занятие, авансирует в действительности не только налог, но даже и некоторую сумму сверх него. В конечном счёте уплата будет падать в различных случаях на различных людей. Прибавка к заработной плате мануфактурного рабочего, обусловленная таким налогом, была бы авансирована владельцем мануфактуры, который имел бы право, да и был бы вынужден увеличивать цену своих товаров на всю эту прибавку плюс прибыль. Прибавка к заработной плате сельского рабочего, вызванная этим налогом, была бы авансирована фермером, который, чтобы иметь возможность содержать прежнее число рабочих, был бы вынужден затратить более значительный капитал. Чтобы получить обратно этот увеличенный капитал плюс обычная прибыль на капитал, он должен был бы удержать в свою пользу более значительную часть или, что сводится к тому же, цену более значительной части продукта земли. Он, следовательно, будет платить землевладельцу меньшую ренту. В этом случае прибавка к заработной плате была бы оплачена в конце концов землевладельцем, который должен был бы оплатить также и добавочную прибыль фермера, авансировавшего эту прибавку. Во всяком случае прямой налог на заработную плату в конце концов вызвал бы и более значительное уменьшение земельной ренты и более значительное повышение цены промышленных товаров, чем то, какое последовало бы, если бы сумма, равная выручке от этого налога, была бы непосредственно развёрстана путём специального обложения между земельной рентой и предметами потребления" <Buchanan, v. III, p. 337. - Прим. ред.>. Итак, в этом отрывке автор утверждает, что прибавка к заработной плате, уплаченная фермерами, в конечном счёте падает на землевладельцев, которые получат уменьшенную ренту, но что прибавка к заработной плате, которая выплачивается фабрикантами, вызовет повышение цен промышленных товаров и, следовательно, падёт на потребителей этих товаров. Предположим теперь, что общество состоит из землевладельцев, фабрикантов, фермеров и рабочих. Допустим также, что рабочие будут вознаграждены за уплачиваемый ими налог. Но кем? Кто уплатит ту часть, которая не падает на землевладельца? Ведь фабриканты могли бы ничего не платить: если бы цена их товаров возрастала пропорционально выплачиваемой ими прибавке к заработной плате, они после введения налога находились бы в лучшем положении, чем прежде. Если бы фабрикант сукна, фабрикант шляп, фабрикант обуви и т. п. могли повысить каждый цену своих товаров на 10%, - предполагая, что 10% вполне вознаградят их за уплачиваемую ими прибавку к заработной плате, - если бы, как говорит Адам Смит, "они имели право, да и были бы вынуждены увеличить цену своих товаров на всю прибавку к заработной плате плюс прибыль", то каждый из них мог бы потреблять столько же товаров других фабрикантов, сколько и прежде, и, следовательно, никто из них в действительности не платил бы налога. Если бы фабрикант сукна платил больше за шляпы и обувь, он получал бы в свою очередь больше за сукно, и, если бы фабрикант шляп платил больше за сукно и обувь, он также получал бы больше за свои шляпы. Таким образом, они покупали бы все промышленные товары с такой же выгодой, как и прежде, и, поскольку цена хлеба не повысилась бы [- а это именно и есть предположение д-ра Смита -] <Вставка во втором и третьем изданиях. - Прим. ред.> в течение всего времени, покуда в их распоряжении остаётся добавочная сумма на покупку хлеба, они не только ничего не теряли бы от такого налога, но даже выигрывали бы от него. Если бы, таким образом, ни рабочие, ни фабриканты не принимали участия в уплате такого налога, если бы фермеры также были вознаграждены путём уменьшения ренты, то землевладельцы не только одни несли бы целиком всё бремя налога, но ещё должны были бы способствовать увеличению барышей фабрикантов. Однако для этого им пришлось бы потребить все промышленные товары страны, так как прибавка к цене, падающая на всю массу товаров, едва ли многим больше, чем сумма того налога, которым первоначально были обложены промышленные рабочие. Но никто не будет оспаривать, что фабрикант сукна, фабрикант шляп и все другие фабриканты потребляют продукты друг друга; бесспорно также, что рабочие всех категорий потребляют мыло, сукно, обувь, свечи и различные другие товары. Поэтому невозможно, чтобы вся тяжесть этих налогов падала только на землевладельцев. Но если рабочие не принимают никакого участия в уплате налога, а цены промышленных товаров поднимаются, то должна также повыситься заработная плата: не только для того, чтобы вознаградить их за налог, но также и за повышение цены производимых промышленностью предметов жизненной необходимости. Поскольку это повышение затрагивает сельскохозяйственных рабочих, оно явится новой причиной понижения ренты, а поскольку оно затрагивает промышленный труд, оно должно привести к дальнейшему повышению цен промышленных товаров. Повышение цен последних опять-таки повлияет на заработную плату: такое действие и обратное действие - сначала заработной платы на цены товаров, а затем цен товаров на заработную плату - будет продолжаться до бесконечности. Доказательства, приводимые в пользу этой теории, ведут к таким нелепым выводам, что сразу бросается в глаза вся несостоятельность самого принципа. Точно такое же влияние, какое - при условии естественного прогресса общества и возрастающей трудности производства - оказывает на прибыль с капитала и заработную плату повышение ренты и цен на предметы насущной необходимости, вызовет также рост заработной платы вследствие обложения её налогом. Поэтому потребление предметов удовольствия как рабочим, так и предпринимателем подвергнется благодаря налогу сокращению. И не только благодаря данному налогу, но и [всякому] другому того же размера, [так как все они имеют тенденцию уменьшать фонд, назначенный на содержание труда] <В первом издании: "но и любому другому того же размера". Остальное - вставка во втором и третьем изданиях. - Прим. ред.>. Ошибка Адама Смита объясняется прежде всего его предположением, что все налоги, которые уплачиваются фермером, должны необходимо падать на землевладельца в форме вычета из его ренты, Я уже достаточно подробно высказался об этом предмете, и, я надеюсь, мне удалось вполне удовлетворительно показать читателю, что, пока на землю, не платящую ренты, затрачивается значительный капитал и пока результат, получаемый с помощью этого капитала, регулирует цену сырых материалов, из ренты не может быть произведён никакой вычет. Следовательно, фермер или не получит никакого вознаграждения за налог на заработную плату, или если он даже получит его, то только в форме прибавки к цене сырых материалов. Если налоги давят на фермера больше, чем на других предпринимателей, он сможет повысить цены сырых материалов, чтобы быть в одинаковых условиях с ними. Но налог на заработную плату, который падает одинаково на фермера и на представителей других отраслей производства, не мог бы быть переложен или возмещён посредством прибавки к цене сырых материалов. Та же самая причина, которая побуждала бы его повысить цену хлеба, а именно желание вознаградить себя за налог, заставила бы также фабриканта сукна повысить цену сукна, а фабрикантов обуви, шляп и мебели повысить цены на обувь, шляпы и мебель. Положим, что все они могли бы увеличить цены своих товаров, чтобы с лихвой вознаградить себя за налог. Но все они в то же время являются потребителями товаров друг друга; следовательно, налог никогда не был бы уплачен, ибо кто же платил бы его, если бы все получали вознаграждение за него? Я надеюсь, мне удалось показать, что всякий налог, который приводит к повышению заработной платы, будет уплачен путём уменьшения прибыли и что, следовательно, налог на заработную плату есть в действительности налог на прибыль. Принцип разделения продукта труда и капитала между заработной платой и прибылью, который я старался установить, кажется мне настолько достоверным, что, за исключением лишь периода непосредственного действия таких налогов, почти безразлично, облагается ли прибыль с капитала или заработная плата. Облагая прибыль с капитала, вы, вероятно, изменили бы темп возрастания фондов на содержание труда, и заработная плата, поднявшись слишком высоко, перестала бы соответствовать состоянию этих фондов. Облагая заработную плату, вы уменьшаете вознаграждение, уплачиваемое рабочему, а упав слишком низко, оно также перестало бы соответствовать состоянию этих фондов. Естественное равновесие между прибылью и заработной платой было бы восстановлено в первом случае путём падения, во втором - путём повышения денежной заработной платы. Таким образом, налог на заработную плату не падает на землевладельца, он падает на прибыль с капитала. Фабрикант вовсе не "имел бы права и [не] был бы вынужден увеличить цену своих товаров на всю сумму налога плюс прибыль", так как он не мог бы сделать это. И он должен был бы поэтому полностью и без всякого вознаграждения уплатить этот налог. <Г-н Сэй, повидимому, разделяет общий взгляд на этот предмет. Говоря о хлебе, он замечает: "отсюда следует, что цена его влияет на цены всех других товаров. Фермер, фабрикант или торговец занимают известное число рабочих, которые нуждаются для своего потребления в известном количестве хлеба. Если цена хлеба возрастает, они вынуждены соответственно повысить цены своих продуктов" (т. I, стр. 255).> Если налоги на заработную плату приводят к описанным мною результатам, то они не заслуживают порицания, с которым о них высказывался д-р Смит. Предоставим ему слово. "Как утверждают, эти и некоторые другие налоги, повысив цену труда, привели к гибели большей части мануфактур Голландии. Подобные же налоги, хотя и не столь тяжёлые, существуют в Миланской области, в Генуе, в герцогствах Парма, Пиаченца и Гвастала, а также в Папской области. Один довольно известный французский писатель предложил преобразовать финансы своего отечества, заменив большинство других налогов этим самым разорительным из всех налогов. Нет такой нелепости, говорит Цицерон, которая не защищалась бы когда-либо тем или другим философом". В другом месте д-р Смит замечает: "Налоги на предметы необходимости, вызывая повышение заработной платы, неизбежно ведут к повышению цены всех мануфактурных изделий, а следовательно, и к уменьшению их продажи и потребления" <Адам Смит, Исследование о природе и причинах богатства народов, т. II, стр. 386, 383. - Прим. ред.>. Они не заслуживали бы этого порицания, даже если бы принцип д-ра Смита был верен, т. е. если бы такие налоги действительно увеличивали цены промышленных товаров. Ибо такое действие этих налогов было бы только временным и не причиняло бы нам никаких невыгод в нашей внешней торговле. Если бы какая-нибудь причина вызвала повышение цен некоторых промышленных товаров, то она прекратила бы или задержала их вывоз; но если бы та же самая причина действовала одинаково на все товары, тогда она оказала бы только номинальное действие: она не затронула бы их относительной стоимости и ничуть не ослабила бы стимул к меновой торговле, к которой в сущности сводится вся торговля, как внутренняя, так и внешняя. Я уже пытался показать, что если какая-нибудь причина вызовет повышение цен всех товаров, то она оказывает почти такое же действие, как падение стоимости денег. Если стоимость денег падает, поднимаются цены всех товаров. Если это действие ограничивается одной страной, оно будет влиять на её внешнюю торговлю таким же образом, как высокая цена товаров, вызванная всеобщим обложением. Следовательно, рассматривая следствия низкой стоимости денег в пределах одной страны, мы исследуем также влияние высокой цены товаров, поскольку оно ограничивается пределами одной страны. Конечно, Адам Смит вполне понимал сходство между этими двумя случаями. Поэтому-то он и утверждал, что низкая стоимость денег или. как он говорит, серебра в Испании причинила вследствие запрещения его вывоза громадный ущерб промышленности и внешней торговле этой страны. "Но такое уменьшение стоимости серебра, которое, будучи результатом особого положения или политических учреждений отдельной страны, происходит только в этой стране, имеет очень большое значение и, далеко не делая кого-либо действительно богаче, делает каждого действительно более бедным. Повышение денежной цены всех товаров, которое в таком случае характерно для этой страны, имеет тенденцию более или менее задерживать развитие всех отраслей промышленности, существующих в ней, и давать другим нациям возможность конкурировать с ними не только на внешнем, но даже и на её внутреннем рынке, поскольку они могут доставлять почти все виды товаров в обмен на меньшее количество серебра, чем могут это делать её собственные производители" <Адам Смит, Исследование о природе и причинах богатства народов, т. II, стр. 80. - Прим. ред.>. Одна и, по моему мнению, единственная из невыгод низкой стоимости серебра в данной стране, проистекающая от принудительного увеличения его количества, была очень хорошо выяснена д-ром Смитом. Если бы торговля золотом и серебром была свободна, то "золото и серебро, ушедшие за границу, уйдут не без соответствующего возмещения, они принесут на такую же стоимость товары того или иного рода. Притом не все эти товары будут представлять собою предметы роскоши, предназначенные для потребления праздных людей, которые ничего не производят в оплату своего потребления. Поскольку действительное богатство и доход праздных людей не увеличатся в результате такого необычайного вывоза золота и серебра, постольку вследствие этого не увеличится значительно и их потребление. Эти товары в большей своей части, во всяком случае в некоторой своей части, будут состоять, вероятно, из материалов, инструментов и продовольствия для занятия и содержания трудящихся людей, которые воспроизведут с прибылью полную стоимость своего потребления. Таким образом, часть мёртвого капитала общества обратится в действующий капитал, и он приведёт в движение большее количество труда, чем было занято до того" <Там же, стр. 81-82. - Прим. ред.>. Не допуская свободной торговли драгоценными металлами, в то время как цены товаров поднимаются либо вследствие притока этих металлов, либо вследствие налогов, вы мешаете превращению части мёртвого капитала общества в активный, вы мешаете применению большего количества труда. В этом и состоит всё бедствие - бедствие, совершенно незнакомое тем странам, в которых вывоз серебра прямо дозволен или где на него смотрят сквозь пальцы. Вексельный курс между странами стоит al pari лишь до тех пор, пока они имеют в обращении как раз столько денег, сколько при данных условиях необходимо им для обращения их товаров. Если бы торговля драгоценными металлами была совершенно свободна и металлические деньги можно было бы вывозить без всяких расходов, то для каждой страны вексельный курс всегда стоял бы al pari. Если бы торговля драгоценными металлами была совершенно свободна, если бы они всюду употреблялись как средство обращения, то даже при наличии расходов по их перевозке вексельный курс отклонялся бы от паритета только на сумму этих расходов. Мне кажется, что эти принципы теперь никем не оспариваются. Если бы страна пользовалась бумажными деньгами, не подлежащими обмену на золото и поэтому не регулируемыми каким-нибудь определённым мерилом, её вексельный курс отклонялся бы от паритета. Это отклонение совершалось бы в той самой пропорции, в какой количество обращающихся денег превышало бы их количество, необходимое для обращения по общему ходу торговли, и при условии вполне свободной торговли деньгами и использования драгоценных металлов в качестве денег или стандартной денежной меры. Если бы в соответствии с общей суммой торговых оборотов 10 млн. ф. ст. определённого веса и пробы составляли долю Англии и если бы они были заменены бумажными деньгами на ту же сумму в 10 млн., то вексельный курс остался бы без изменения. Но если бы вследствие злоупотребления правом выпуска бумажных денег в обращение были брошены 11 млн., то вексельный курс был бы на 9 % против Англии, при 12 млн. - на 16, а при 20 млн. - на 50% против Англии. Но, чтобы вызвать этот результат, нет необходимости употреблять именно бумажные деньги. Всякая причина, задерживающая в обращении большее количество фунтов стерлингов, чем обращалось бы, если бы торговля была свободна и если бы в качестве денег или стандартной денежной меры употреблялись драгоценные металлы определённого веса и пробы, произвела бы точно такое же действие. Предположим, что золотые или серебряные монеты потеряли вследствие обрезывания часть своего веса и фунты стерлингов не содержат больше законного количества золота или серебра. Тогда в обращении могло бы находиться большее количество фунтов стерлингов, чем прежде. Если бы от каждого фунта стерлингов была отрезана 1/10 часть его, то вместо 10 млн. в обращении должно было бы находиться 11 млн., если бы были отрезаны 2/10 - 12 млн., а если бы 1/2, то для нужд обращения потребовалось бы не менее 20 млн. Если бы в обращении находилась вместо 10 миллионов последняя сумма, то удвоились бы цены всех товаров в Англии и вексельный курс был бы на 50% против Англии. Но это не вызвало бы никакой пертурбации во внешней торговле и не помешало бы развитию никакой отрасли промышленности. Если бы, например, цена сукна в Англии поднялась с 20 до 40 ф. ст. за кусок, мы продолжали бы вывозить его так же легко, как и прежде, потому что иностранный покупатель получал бы вознаграждение в размере 50% вследствие изменения вексельного курса: за 20 ф. ст. в деньгах своей страны он мог бы купить вексель, которым он уплатил бы в Англии долг в 40 ф. ст. Точно так же, если бы он вывозил товар, который в его стране стоит 20 ф. ст. и который в Англии продаётся за 40 ф. ст., он в сущности получал бы только 20 ф. ст., ибо на 40 ф. ст. в Англии можно было бы купить иностранный вексель только на 20 ф. ст. И какая бы причина ни заставляла выпускать в обращение в Англии 20 млн. ф. ст. вместо необходимых 10 млн. ф. ст., всё равно результаты получились бы те же самые. Если бы можно било навязать Англии такой нелепый закон, как запрещение вывоза драгоценных металлов, и в результате такого запрета выпустить в обращение 11 млн. только что отчеканенных полноценных фунтов вместо прежних 10 млн., то вексельный курс был бы на 9% против Англии, при 12 млн. - на 16, а при 20 млн. - на 50%. Но это не задержало бы развития английской промышленности. Если бы отечественные товары продавались в Англии по высокой цене, то по таким же высоким ценам продавались бы также иностранные товары. Были бы эти цены высоки или низки, для иностранного экспортёра и импортёра это имело бы небольшое значение: если бы ему приходилось при продаже своих товаров по дорогим ценам делать соответственную уступку на вексельном курсе, то он получал бы её в свою очередь, когда ему приходилось бы покупать английские товары по высоким ценам. Таким образом, единственная невыгода, которая проистекала бы для страны от сохранения в обращении с помощью запретительных законов большего количества золота и серебра, чем это потребовалось бы при других условиях, заключалась бы в потерях, которым подвергается страна вследствие непроизводительного применения части её капитала. В форме денег этот капитал не производит никакой прибыли, тогда как в форме материалов, машин и продовольствия, которые были бы получены в обмен за него, он принёс бы доход и способствовал бы увеличению богатства и ресурсов государства. Итак, я доказал, надеюсь, удовлетворительно, что сравнительно низкая цена драгоценных металлов, вызванная их обложением, или, другими словами, всеобщее повышение цен товаров не причинило бы никакого ущерба государству, так как часть этих металлов была бы вывезена, а это повысило бы их стоимость и опять понизило бы цены товаров. Далее я показал, что, если бы даже металл не был вывезен, если бы вследствие запретительных законов он был удержан в стране, изменение вексельного курса уравновесило бы действие высоких цен. Поэтому если налоги на предметы насущной необходимости и на заработную плату не повышают цены всех товаров, на которые затрачивается труд, то на этом основании они не могут быть отвергнуты. Более того. Если бы даже мнение [Адама Смита] о таком действии этих налогов было вполне обосновано, они всё-таки не представляли бы по этой причине никакого вреда. [Против них можно было бы выдвинуть только те возражения, которые было бы справедливо предъявить против налогов любой другой категории. Землевладельцы как таковые были бы избавлены от тяжести налога; но, поскольку при расходовании своего дохода они непосредственно использовали бы труд, нанимая садовников, прислугу и т. и., они чувствовали бы на себе действие этого налога.]<Вставка в третьем издании. - Прим. ред.> Вполне правильно, что "налоги на предметы роскоши не имеют тенденции вызывать повышение цены каких-либо других товаров, кроме облагаемых налогом", но неверно, что "налоги на предметы необходимости, вызывая повышение заработной платы, неизбежно ведут к повышению цены всех мануфактурных изделий". Верно, что "налоги на предметы роскоши в конечном счёте уплачиваются без всякого возмещения потребителями облагаемых предметов. Они ложатся безразлично на все виды дохода: на заработную плату рабочих, на прибыль на капитал, на ренту с земли", но неверно, что "налоги на предметы необходимости, поскольку они падают на трудящихся бедняков, уплачиваются в конечном итоге отчасти землевладельцами, - поскольку уменьшается рента с их земель, - и отчасти богатыми потребителями, землевладельцами и другими, поскольку они платят дороже за мануфактурные изделия, и при этом уплачивают они их всегда с значительной надбавкой". Поскольку эти налоги касаются трудящихся бедняков, они почти целиком уплачиваются за счёт уменьшения прибыли на капитал, и только незначительная часть их уплачивается самими рабочими благодаря уменьшению спроса на труд, всегда являющегося следствием всякого рода налогового обложения. Именно ошибочный взгляд д-ра Смита на действие таких налогов привёл его к выводу, что "средние и высшие классы, если бы они понимали свои собственные интересы, должны были бы всегда противиться всем налогам на предметы жизненной необходимости, как и всем прямым налогам на заработную плату". Этот вывод вытекает из следующего его рассуждения: "Конечная уплата тех и других ложится целиком на них самих и всегда с значительной надбавкой. Тяжелее всего они ложатся на землевладельцев <Ничуть не бывало - они едва лишь коснутся землевладельцев и денежных капиталистов. [Это примечание имеется только в третьем издании.]>, которые всегда платят в двойном количестве: и как землевладельцы - в виде уменьшения их ренты, и как богатые потребители - в виде увеличения своих расходов. Замечание сэра Мэттью Деккера, что некоторые налоги иногда увеличиваются в два, четыре или пять раз в цене некоторых товаров, совершенно справедливо в отношении налогов на предметы жизненной необходимости. В цене кожи, например, вам приходится оплачивать не только налог на кожу, идущую на ваши башмаки, но и часть налога на кожу, идущую на башмаки сапожника и кожевника. Кроме того, вы должны оплатить налоги на соль, на мыло и на свечи, которые потребляют эти рабочие в то время, когда они заняты работой на вас, и налог на кожу, которую потребляют рабочий по добыванию соли, мыловар и свечник, пока они работают на вас" <Адам Смит, Исследование о природе и причинах богатства народов, т. II, стр. 383, 384. - Прим. ред.>. А так как д-р Смит не утверждает, что кожевник, солевар, мыловар и свечник получат каждый выгоду от налога на кожу, соль, мыло и свечи, и так как вполне ясно, что правительство получит только сумму установленного налога, то невозможно понять, каким образом население уплатит большую сумму, на какой бы слой его этот налог ни падал. Богатые потребители могут и в действительности будут платить за бедных потребителей, но они будут платить сумму установленного налога только один раз. А такое явление, как "повторение и оплачивание налога четыре или пять раз", противоречило бы природе вещей. Всякая система обложения может иметь недостатки. С народа может взиматься больше той суммы, которая попадает в кассы государства, так как часть налогов вследствие их влияния на цены будет, возможно, получаться теми, кто извлекает выгоду из данных способов взимания налогов. Такие налоги пагубны и не должны быть терпимы. Можно установить как принцип, что всякий налог, если только он действует справедливо, соответствует первому правилу д-ра Смита и отнимает у народа наивозможно меньше сверх того, что поступает в распоряжение государственного казначейства. Г-н Сэй говорит: "Иные предлагают различные финансовые планы и способы наполнить кассы государя без какого-либо обременения для его подданных. Но финансовый план, если он только не носит характера коммерческого предприятия, не может дать правительству больше того, что он в какой-нибудь другой форме берёт у частных лиц или у того же правительства. Невозможно по мановению жезла из ничего сделать что-нибудь. В какую бы тайну мы ни облекали наши операции, какие бы формы ни принимала, по нашей воле, данная стоимость, каким бы метаморфозам мы её ни подвергали, - мы можем получить новую стоимость, только производя её или отнимая её у других. Лучший финансовый план - тратить мало, и лучший налог - наименьший налог" <Say, Economie politique, v. II, р. 298. - Прим. ред.>. Д-р Смит постоянно и, по моему мнению, справедливо утверждает, что трудящиеся классы не могут в сколько-нибудь значительных размерах принимать участие в несении государственных тягот. Поэтому налог на предметы насущной необходимости или на заработную плату будет переложен с бедных на богатых. И если, по мнению д-ра Смита, "некоторые налоги иногда увеличиваются в два, четыре или пять раз в цене некоторых товаров" только для достижения указанной цели, т. е. для переложения налога с бедных на богатых, то в этом отношении они не заслуживают никакого порицания. Предположим, что 100 ф. ст. составляют вполне справедливую долю налогов, падающую на богатого потребителя, и что они взимаются с него непосредственно в виде налога или на доход, или на вино, или на какой-нибудь другой предмет роскоши. Но он ничуть не пострадает, если при обложении предметов насущной необходимости он будет уплачивать в соответствии с количеством потребляемых им и его семьёй продуктов не более 25 ф. ст. и, кроме того, внесёт эту сумму ещё три раза, переплачивая при покупке других товаров, чтобы вознаградить рабочих или их предпринимателей за налог, который последние должны были авансировать. Даже в таком случае рассуждение Адама Смита было бы несостоятельно: если бы приходилось платить не больше, чем требует правительство, то не всё ли равно для богатого потребителя, платит ли он налог непосредственно в форме более высокой цены за какой-нибудь предмет роскоши или косвенно в форме более высокой цены за предмет жизненной необходимости и другие товары, которые он потребляет? Если бы народ платил не больше, чем получает правительство, то и богатый потребитель платил бы только следуемую с него долю. Но если сумма уплачиваемого налога больше того, что получает правительство, то Адам Смит должен сказать нам, кем она получается. [Но вся его аргументация основана на заблуждении, ибо подобные налоги не приводят к повышению цен товаров.] <Вставка во втором и третьем изданиях. - Прим. ред.> Г-н Сэй, как мне кажется, не всегда придерживался последовательно того очевидного принципа, который я привёл выше из его дельного труда. Так, на следующей странице, говоря об обложении, он замечает: "Если оно принимает слишком большие размеры, оно влечёт за собой печальные последствия, так как лишает налогоплательщика части его богатства, не обогащая государства. Мы легко поймём это, если примем во внимание, что способность каждого человека потреблять - производительно или нет - ограничивается его доходом. Лишая его части дохода, мы принуждаем его сократить соответственно потребление. Так возникает уменьшение спроса на товары, которые он больше не потребляет, в особенности на те, которые были обложены. За уменьшением спроса следует уменьшение производства, а следовательно, и количества облагаемых товаров. Налогоплательщик, таким образом, лишается части своих жизненных удобств, производитель - части своей прибыли, а казначейство - части своих поступлений" <Say, Economie politique, v. II, p. 300. - Прим. ред.>. Г-н Сэй приводит в виде примера налог на соль в дореволюционной Франции, который, но его словам, уменьшил добычу соли наполовину. Однако если потреблялось меньше соли, то и меньше капитала затрачивалось на её добывание. Следовательно, хотя производитель и получал меньше прибыли при добывании соли, он получал больше при производстве других вещей. Если налог, как бы обременителен он ни был, падает на доход, а не на капитал, он не уменьшает спроса, а только изменяет его природу. Он даёт возможность правительству потреблять такое количество продукта земли и труда страны, какое прежде потреблялось лицами, платившими налог. [А это зло достаточно велико, чтобы нужно было ещё преувеличивать его.] <Вставка во втором и третьем изданиях. - Прим. ред.> Если мой доход составляет 1 тыс. ф. ст. в год и если с меня взимается ежегодно налог в 100 ф. ст., то я могу предъявить спрос только на 9/10 того количества товаров, которое я потреблял прежде, но зато я даю возможность правительству предъявить спрос на остальную десятую часть. Если обложенным товаром является хлеб, то нет необходимости, чтобы уменьшился мой спрос на него, ибо я могу предпочесть платить ежегодно на 100 ф. ст. больше за хлеб и уменьшить на такую же сумму спрос на вино, мебель или другие предметы роскоши <Г-н Сэй говорит, что "налог, прибавленный к цене товара, повышает его цену. Всякое возрастание цены товара необходимо уменьшает число тех, кто в состоянии купить этот товар, или по крайней мере то количество его, которое они потребили бы". Это вовсе не является необходимым следствием. Я не думаю, чтобы в случае обложения хлеба потребление его уменьшилось больше, чем потребление сукна, вина или мыла, если бы последние товары подверглись обложению>. В результате всего этого меньший капитал был бы затрачен на виноделие или мебельно-обойное дело, но большее количество его затрачено было бы на производство тех товаров, на которые правительство расходовало бы взимаемые им налоги. Г-н Сэй говорит, что, когда Тюрго понизил наполовину рыночную пошлину на рыбу в Париже (les droits d'entree et de halle sur la maree), он нисколько не уменьшил этим её поступления. Из этого г-н Сэй делает вывод, что потребление рыбы удвоилось. Кроме того, по его мнению, удвоилась также прибыль рыбаков и всех лиц, занятых в этом промысле, а доход страны увеличился на всю сумму возросшей прибыли: давая новый стимул к накоплению, такой рост должен был увеличить ресурсы государства <Не менее ошибочным кажется мне и следующее замечание того же автора: "Когда хлопок облагается высокой пошлиной, производство всех товаров, на которые идёт хлопок, уменьшается. Если вся стоимость, которая в данной стране ежегодно прибавлялась к хлопку в различных производствах, составляла 100 млн. фр. и потребление уменьшилось бы наполовину в результате налога, то последний, кроме сумм, получаемых правительством, отнимал бы ещё у страны ежегодно 50 млн. фр." (т. II, стр. 314)>. Не подвергая критике политику, которой было продиктовано это изменение налога, я всё-таки сомневаюсь, дало ли оно большой толчок накоплению. Если прибыль рыбака и других лиц, занятых в этом промысле, удвоилась вследствие удвоенного потребления рыбы, то необходимо было извлечь из других отраслей капитал и труд, чтобы дать им применение в рыболовстве. Но так как и в других отраслях капитал и труд производили прибыль, то производство её должно было прекратиться с отливом их оттуда. Способность страны к накоплению увеличилась лишь благодаря разнице между прибылью, полученной в производстве, в которое капитал был вложен недавно, и прибылью, получавшейся в производствах, из которых он был извлечён. Берутся ли налоги из дохода или из капитала, они уменьшают количество товаров, которые могли бы быть обложены государством. Если я перестаю тратить на вино 100 ф.ст., так как, уплатив налог в этом размере, я дал правительству возможность издержать эти 100 ф. ст. вместо меня, то из списка облагаемых предметов будет вычеркнуто на 100 ф. ст. товаров. Если доход жителей данной страны составляет 10 млн., то они имеют по крайней мере на 10 млн. товаров, которые могли бы быть обложены. Если при обложении некоторых из этих товаров в распоряжение правительства поступает 1 млн., то доход населения продолжает номинально составлять 10 млн., но у него останется только на 9 млн. товаров, которые могли бы быть обложены. При всяких условиях налоги сокращают количество жизненных удобств тех лиц, на которых эти налоги в конечном счёте падают, и нет никакого средства опять увеличить количество этих удобств, кроме накопления нового дохода. Налоги никогда не могут быть распределены так равномерно, чтобы влиять в одном и том же отношении на стоимость всех товаров и сохранить всё же их относительную стоимость на одном уровне. Своими косвенными последствиями налоги производят часто действие, идущее вразрез с намерениями законодателей. Мы видели уже, что прямой налог на хлеб и сырые материалы повышает - при условии, что деньги производятся в данной стране, - цены всех товаров в том же отношении, в каком в их состав входят сырые материалы, и что таким образом он нарушает существовавшее между ними прежде естественное соотношение. Другим косвенным последствием этого налога является повышение заработной платы и понижение нормы прибыли, а мы видели также в другой части этого труда, что вследствие повышения заработной платы и понижения прибыли понижаются денежные цены тех товаров, в производстве которых основной капитал затрачивается в большей мере. Всякий товар, на который установлен налог, уже не может быть вывозим с такой выгодой, как прежде. Это настолько очевидно, что при вывозе товара взимаемый налог часто возвращается назад, а на ввоз товаров этого рода налагается пошлина. Если бы такой возврат налога и покровительственная пошлина налагались не только непосредственно на данные товары, но и на те, на которые они могут повлиять косвенно, то в стоимости драгоценных металлов не происходило бы никаких пертурбаций. Раз мы были бы в состоянии вывозить товар после обложения так же легко, как и до него, и раз ввоз иностранных товаров не был бы поставлен в особенно благоприятные условия, драгоценные металлы также не вошли бы в список вывозимых товаров в больших размерах, чем раньше. Ни один товар не является таким пригодным объектом для обложения, как те товары, которые благодаря природе или уровню производства вырабатываются при особенно благоприятных условиях. По отношению к чужим странам эти товары можно отнести к категории тех, цена которых определяется не количеством затраченного труда, а скорее капризами, вкусами и средствами покупателей. Если бы Англия имела более богатые оловянные рудники, чем другие страны, или если бы в силу превосходства своих машин или топлива она имела особые преимущества при производстве хлопчатобумажных изделий, то цены олова и хлопчатобумажных изделий продолжали бы регулироваться в Англии сравнительным количеством труда и капитала, необходимым для их производства; благодаря же конкуренции между нашими купцами цены этих товаров повысились бы лишь незначительно для иностранных потребителей. Наше преимущество в производстве этих товаров было бы настолько значительно, что они, вероятно, могли бы вынести очень большую прибавку к цене их на внешних рынках без существенного уменьшения их потребления. Пока внутри страны конкуренция не встречает никаких ограничений, эти товары могут достигнуть такой высокой цены только при налоге на их вывоз. Этот налог будет падать целиком на иностранных потребителей, и часть расходов английского правительства была бы покрыта налогом на продукт земли и труда других стран. Так, налог на чай, уплачиваемый теперь англичанами и идущий на покрытие расходов английского правительства, мог бы служить для покрытия расходов китайского правительства, если бы он был наложен на вывоз чая из Китая. Налоги на предметы роскоши имеют некоторые преимущества перед налогами на предметы необходимости. Они обыкновенно уплачиваются из дохода и поэтому не уменьшают производительный капитал страны. Если бы вино сильно поднялось в цене вследствие обложения, то всякий, вероятно, скорее отказался бы от удовольствия пить вино, чем согласился бы на значительное уменьшение своего капитала ради возможности покупать вино. Кроме того, налоги на предметы роскоши так тесно сливаются с ценой, что плательщик едва ли даже знает, что он платит налог. Но они имеют также свои невыгоды. Во-первых, они никогда не затрагивают капитал, а при некоторых экстраординарных условиях может явиться целесообразным, чтобы капитал также привносил свою долю для покрытия государственных нужд; во-вторых, трудно определить точно их размеры, так как они иногда не затрагивают даже дохода. Человек, склонный к бережливости, может освободиться от налога на вино, отказавшись от потребления его. Доход страны мог бы не уменьшиться, а всё-таки правительство не в состоянии было бы собрать ни одного шиллинга путём таких налогов. От потребления таких предметов, которые привычка сделала предметом наслаждения, люди отказываются с большим неудовольствием, и они продолжают потреблять эти предметы, несмотря на очень тяжёлый налог. Но это неудовольствие имеет свои пределы, и повседневный опыт показывает, что увеличение номинального размера налога часто сопровождается уменьшением суммы его поступления. Тот, кто продолжает потреблять то же самое количество вина, хотя бы цена бутылки поднялась до 3 шилл., скорее откажется от вина, чем согласится платить 4 шилл. Другой согласится платить 4, но откажется платить 5 шилл. То же самое можно сказать о других налогах на предметы роскоши: многие согласятся платить налог в 5 ф. ст. за удовольствие, которое доставляет лошадь, но откажутся платить 10 или 20 ф. ст. Они отказываются от пользования вином или лошадью не потому, что не могут платить больше, а потому, что не хотят. Каждый человек создаёт для себя собственное мерило, с помощью которого он определяет цену своих удовольствий, но это мерило так же разнообразно, как человеческий характер. В особенности сильно подвергается неудобствам, связанным с этим способом взимания налогов, такая страна, финансовое положение которой сделалось совершенно искусственным благодаря злостной политике накопления огромного национального долга и неизбежному результату её - непомерному обложению. После того как налогами были обложены чуть не все предметы роскоши, после обложения лошадей, экипажей, вина, прислуги и всех других предметов удовольствия богатого потребителя, министр финансов [вынужден обратиться к более прямым налогам, вроде налога на доход и имущество, забывая при этом золотое правило г-на Сэя, что "лучший финансовый план - тратить мало и лучший налог - наименьший налог"] <В первом издании сказано было: "склонен прийти к заключению, что страна обложена налогами в максимальной степени, ибо, увеличивая норму обложения, он не в состоянии увеличить поступление какого-либо из этих налогов. Однако он может иногда ошибаться, приходя к такому заключению, ибо весьма возможно, что такая страна может перенести еще очень большую прибавку к налоговой тягости без риска, что будет ущерблен капитал". - Прим. ред.>. Глава 17. Налоги на другие товары, кроме сырых материалов
В силу того же принципа, согласно которому налог на хлеб приводит к повышению цены хлеба, налог на всякий другой товар также вызовет повышение цены этого товара. Если бы цена товара не поднялась на сумму, равную налогу, то производитель его не получил бы той же прибыли, что прежде, и перевёл бы свой капитал в какую-нибудь другую отрасль. Обложение всех товаров, будь то предметы жизненной необходимости или предметы роскоши, влечёт за собою при неизменной стоимости денег повышение цен на сумму, равную по крайней мере налогу <Г-н Сэй замечает, что "фабрикант не в состоянии заставить потребителя заплатить весь налог, взимаемый с его товара, потому что возросшая цена его вызовет уменьшение потребления этого товара". Если бы это действительно было так, если бы потребление уменьшилось, то разве и предложение не уменьшится так же скоро? Почему фабрикант должен оставаться в какой-нибудь отрасли промышленности, если прибыль в ней опустилась ниже общего уровня? Г-н Сэй, повидимому, опять забыл теорию, которой он придерживается в другом месте, а именно, что "издержки производства определяют цену, ниже которой не могут долго продаваться товары, так как в этом случае производство их было бы прекращено или уменьшено" (т. II, стр. 26). "Налог падает в этом случае отчасти на потребителя, который вынужден заплатить более высокую цену за обложенный товар, а отчасти на производителя, который за вычетом налога получит меньше. Государственное казначейство получит в свою пользу прибавку, которую платит покупатель, и часть прибыли, которой вынужден поступиться производитель. Так, порох в одно и то же время оказывает действие и на ядро, которое он выбрасывает, и на пушку, которую он откатывает назад" (т. II, стр. 333)>. Налог на промышленные продукты, необходимые для рабочего, окажет такое же действие па заработную плату, как и налог на хлеб, отличающийся от других предметов жизненной необходимости только тем, что он занимает среди них первое и самое важное место. Этот налог произведёт поэтому такое же действие на прибыль с капитала и внешнюю торговлю, как и налог на хлеб. Зато налог на предметы роскоши вызовет только повышение их цен. Он упадёт целиком на потребителя и не может ни повысить заработную плату, ни понизить прибыль. Налоги, которыми облагается страна для ведения войны или для покрытия обыкновенных государственных расходов и которые предназначены главным образом для поддержания непроизводительных работников, взимаются с производительной деятельности страны; всякое сбережение, которое может быть сделано в таких расходах, обыкновенно прибавляется к доходу, а то и к капиталу налогоплательщиков. Если на расходы для ведения войны в течение одного года собирается 20 млн. путём займа, то эти 20 млн. берутся из производительного капитала нации. Миллион, который собирается ежегодно путём налога для уплаты процентов по этому займу, только переходит от тех, которые платят его, к тем, которые получают его, - от налогоплательщика к национальному кредитору. Действительный расход представляют 20 млн., а не проценты, которые платятся по этому займу <"Мелон говорит, что долги нации - это долги правой руки левой, от которых организм не слабеет. Верно, конечно, что общее богатство не уменьшится вследствие уплаты процентов или недоимок по займам. Проценты - это стоимость, которая переходит из рук налогоплательщика в руки национального кредитора. Я согласен, что для всего общества безразлично, кто накопляет или потребляет их - национальный кредитор или налогоплательщик. Но что сталось с капитальной суммой долга? Она больше не существует. Потребление, которое последовало за займом, уничтожило капитал, который уже больше не даст дохода. Общество лишилось не процентов, которые переходят из рук в руки, а дохода на уничтоженный капитал. Если бы этот капитал был затрачен производительно тем, кто ссудил его государству, он также принёс бы ему доход, но этот доход был бы получен путём действительного производства, а не из кармана своего же согражданина" (Say, v. II, р. 357.) Этот отрывок и по мысли и по изложению вполне соответствует истинному духу науки.>. Будут ли уплачиваться эти проценты или нет, страна не станет ни богаче, ни беднее. Правительство могло бы сразу потребовать эти 20 млн. в форме налогов, и в этом случае не было бы необходимо взимать ежегодно налоги на сумму в 1 млн., но это не изменило бы характера всей сделки. Отдельное лицо, вместо того чтобы платить каждый год по 100 ф. ст., могло бы быть вынуждено заплатить сразу 2 тыс. ф. ст. Для него было бы, пожалуй, выгоднее занять 2 тыс. ф. ст. и платить 100 ф. ст. ежегодно в виде процентов своему заимодавцу, чем взять большую сумму из собственных фондов. В одном случае - это частная сделка между А и В, в другом - правительство гарантирует В уплату процентов, которые всё равно поступят от А. Если бы это была частная сделка, она не была бы официально зарегистрирована, и для страны было бы сравнительно безразлично, выполняет ли А добросовестно свой договор с В или он противозаконно удерживает в свою пользу ежегодно 100 ф. ст. Вообще говоря, страна заинтересована в добросовестном соблюдении договоров, но, поскольку речь идёт о национальном богатстве, вопрос этот решается в зависимости от того, кто употребил бы эти 100 ф. ст. наиболее производительно - А или В. Но решать этот вопрос страна не имеет ни права, ни возможности. Возможно, что если бы А удержал их в свою пользу, он растратил бы их самым бесполезным образом, а если бы эти 100 ф. ст. были уплачены В, то последний прибавил бы их к своему капиталу и употребил производительно. Возможно и обратное явление: В мог бы растратить их, а А - употребить производительно. С точки зрения одного только национального богатства может быть безразличным или более желательным, чтобы А уплатил или не уплатил свой долг. Но требования справедливости и честности, требования более важные, не могут быть принесены в жертву требованиям менее важным, и в соответствии с этим, если бы государство было призвано на помощь, суд заставил бы А выполнить своё обязательство. Долг, гарантируемый всей нацией, ничем не отличается от вышеприведенной сделки. Справедливость и честность требуют, чтобы проценты по национальному займу продолжали уплачиваться и чтобы те, кто авансировал свои капиталы для общего блага, не были вынуждены отказаться от своих справедливых требований под предлогом государственной целесообразности. Но и независимо от этого соображения отнюдь нельзя утверждать, что политическая польза может выиграть что-нибудь, принеся в жертву политическую честность. Нет никаких оснований думать, что те, кто будет освобождён от уплаты процентов по национальному займу, употребили бы их более производительно, чем те, кто имеет бесспорное право на получение этих процентов. Уничтожая национальный долг, мы увеличиваем доход одного человека с 1 тыс. ф. ст. до 1 500 ф. ст. и уменьшаем доход другого с 1 500 ф. ст. до 1 тыс. ф. ст. Доход этих двух человек равняется и теперь 2 500 ф. ст. и, следовательно, составляет такую же сумму, как и прежде. Если бы правительство хотело повысить налоги, то и в первом и во втором случаях оно имело бы перед собою одинаковую сумму капитала и дохода для обложения. Вот почему уплата процентов по национальному долгу ещё не составляет бедствия для страны, а освобождение её от уплаты этих процентов не является для неё облегчением. Только путём сбережений из доходов и путём сокращения расходов можно увеличить национальный капитал, а уничтожением национального долга нельзя ни увеличить доход, ни сократить расходы. Страна беднеет вследствие расточительных расходов правительства и частных лиц и вследствие займов. Поэтому всякая мера, которая ставит себе целью поощрение общественной и частной экономии, облегчает тяжёлое положение общества. Но было бы ошибкой и самообманом думать, что можно устранить действительное национальное бремя, если свалить его с плеч одного класса общества, который по справедливости должен нести его, на плечи другого, который по всем принципам справедливости должен нести на себе только свою долю этого бремени. Из сказанного мною ещё не следует делать вывод, что я рассматриваю систему займов как наиболее целесообразную систему для покрытия экстраординарных государственных расходов. Эта система имеет тенденцию делать нас менее бережливыми - обманывать нас насчёт нашего действительного положения. Если бы расходы на войну составляли ежегодно 40 млн. и доля, которую должен был бы вносить каждый для покрытия этих расходов, составляла 100 ф. ст., то, в случае если бы их пришлось внести сразу, все старались бы поскорее сберечь эти 100 ф. ст. из своего дохода. При системе же займов человек должен платить только проценты по этим 100 ф. ст., или 5 ф. ст. ежегодно. Он думает, что для него достаточно сберегать из своего дохода 5 ф. ст., и тешит себя мыслью, что он так же богат, как и прежде. Поступая и рассуждая таким образом, вся нация сберегает только проценты на 40 млн., или 2 млн. Она поэтому теряет не только проценты или прибыль, которая была бы принесена капиталом в 40 млн., если бы он был затрачен производительно, но ещё и 38 млн., т. е. разность между сбережениями и расходами. Если бы, как я отметил прежде, каждое отдельное лицо само брало деньги взаймы и отдавало бы всю сумму на удовлетворение государственных нужд, то сейчас же по окончании войны прекратилось бы и взимание налога, и мы немедленно же вернулись бы к естественному состоянию цен. Может быть, А должен был бы платить из своих частных фондов В проценты за деньги, которые А занял у В во время войны, чтобы заплатить следуемую с него долю расходов, но нации до этого не было бы никакого дела. Страна, накопившая громадный долг, находится в крайне неестественном положении. Хотя размеры обложения и возросшая цена труда не могут ухудшить и, по моему мнению, действительно ни в каком отношении не ухудшают условий её конкуренции с чужими странами, - кроме такой неизбежной невыгоды, как самая уплата налогов, - каждый налогоплательщик всё-таки заинтересован в том, чтобы свалить с себя это бремя и переложить эту уплату на кого-либо другого. Искушение переселиться со своим капиталом в другую страну, где он был бы избавлен от этого бремени, под конец становится непреодолимым и побеждает естественное отвращение, с которым каждый человек покидает свою родину и старые связи. Страна, которая запуталась в затруднениях, связанных с этой искусственной системой, поступила бы благоразумно, если бы откупилась от них, пожертвовав частью имущества, необходимой для выкупа её долга. То, что разумно со стороны отдельного лица, разумно также и со стороны нации. Тот, у кого имеется 10 тыс. ф. ст., приносящих ему доход в 500 ф. ст., из которых он ежегодно платит 100 ф. ст. в виде процента по займу, в действительности имеет только 8 тыс. ф. ст. и будет одинаково богат, будет ли он продолжать платить ежегодно 100 ф. ст. или пожертвует сразу 2 тыс. ф. ст. Но могут спросить: откуда же возьмётся покупатель той собственности, которую он должен продать, чтобы получить эти 2 тыс. ф. ст.? Ответ ясен: национальный кредитор, который получит эти 2 тыс. ф. ст., будет нуждаться в помещении своих денег и будет расположен ссудить их землевладельцу или фабриканту, а то и купить часть собственности, которую они хотят продать. Держатели государственных бумаг сами в значительной мере содействовали бы такой уплате. Этот план неоднократно уже предлагался, но я опасаюсь, что у нас не хватит ни достаточно мужества, ни достаточно мудрости, чтобы принять его. Следует, однако, признать, что в период мира наши неустанные усилия должны быть направлены на уплату части займа, заключённого во время войны. И никакое искушение облегчить или желание избавиться от переживаемых нами, надеюсь временных, бедствий не должно ослаблять наше внимание к этому важному вопросу. Никакой фонд погашения не поможет нам в деле уменьшения долга, если он будет получаться не от перевеса государственных доходов над расходами. Остаётся только сожалеть, что фонд погашения является у нас таковым только по имени, так как у нас нет перевеса доходов над расходами. Путём экономии он должен быть превращён в настоящий фонд погашения - в фонд, действительно пригодный для уплаты долга. Если к моменту объявления новой войны долг наш не будет уменьшен в значительной степени, то должно будет произойти одно из двух: или все расходы на войну будут покрыты налогами, взимаемыми каждый год, или же к концу этой войны, а может быть и раньше, мы переживём национальное банкротство. Не то, чтобы мы не могли вынести большой прибавки к нашему долгу: трудно указать точно пределы возможностей великой нации. Но есть, несомненно, пределы той цене, которую отдельное лицо согласно платить в форме постоянного налога за одну только привилегию жить в родной стране. <"В общем кредит полезен, ибо он даёт возможность капиталу переходить из рук тех, кто не может употребить его с пользой, в руки тех, кто употребляет его производительно. Он отвлекает капитал от занятия, выгодного только для капиталиста, как, например, помещения капитала в государственные фонды, чтобы сделать его производительным в промышленности. Он облегчает приложение всякого рода капиталов и не оставляет ни одного из них неиспользованным". (Say, Economie politique, v. II, р. 463, 4-е ed.) Co стороны г-на Сэя это, вероятно, недосмотр. Капитал держателя государственных бумаг никогда но может быть сделан производительным - в действительности это вовсе не капитал. Если бы он хотел продать свои ценные бумаги и употребить полученный за них капитал производительно, он мог бы сделать это, только отвлекая капитал покупателя его бумаг от производительного занятия.> Когда товар имеет монопольную цену, он достигает самой высокой цены, по которой только потребители согласны его покупать. Товары имеют монопольную цену в том случае, когда никакими способами нельзя увеличить их количество и когда конкуренция существует всецело на одной стороне - на стороне покупателей. Монопольная цена в течение одного периода может быть гораздо выше или ниже, чем монопольная цена в течение другого, потому что конкуренция между покупателями не может не зависеть от их богатства, вкусов и капризов. Вина особенных качеств, производимые в очень ограниченном количестве, и такие произведения искусства, которые вследствие своего совершенства или редкости приобрели баснословную стоимость, будут обмениваться на самые различные количества продуктов обыкновенного труда в зависимости от того, богато или бедно общество, имеет ли оно много или мало таких продуктов, находится ли оно ещё на первобытной или высокой ступени цивилизации. Поэтому меновая стоимость товара, который имеет монопольную цену, нигде не регулируется издержками производства. Сырые материалы не имеют монопольной цены, потому что рыночная цена ячменя и пшеницы регулируется издержками их производства точно так же, как и рыночная цена сукна и полотна. Разница состоит только в том, что в земледелии цену хлеба регулирует одна часть капитала, именно та его часть, которая не платит никакой ренты, а в производстве промышленных товаров каждая часть затраченного капитала даёт одинаковые результаты. А так как ни одна из них не платит ренты, то каждая из них в одинаковой степени является регулятором цены. К тому же количество хлеба и других сырых материалов может быть увеличено путём приложения к земле большего капитала; поэтому и такие товары не имеют монопольной цены. Конкуренция здесь одинаково существует как между продавцами, так и между покупателями. Иначе обстоит дело с производством редких вин и тех драгоценных произведений искусств, о которых мы говорили выше. Количество их не может быть умножено, и цена их ограничивается только покупательной силой и желаниями покупателей. Так, рента, приносимая виноградниками, может подняться выше обычных умеренных размеров, потому что при отсутствии других земельных участков, производящих вино такого же качества, эти виноградники не боятся никакой конкуренции. Хлеб и сырые материалы страны иногда могут, правда, продаваться по монопольным ценам, но это может стать постоянным явлением лишь при условии, что нельзя уже больше затратить прибыльно новый капитал на обработку земли и что, следовательно, продукт её не может быть умножен. При таких условиях каждый участок земли, находящийся в обработке, и каждая часть капитала, вложенного в землю, будут доставлять ренту, которая, правда, будет неодинаковой в зависимости от разницы в количестве получаемого продукта. В такой период всякий налог на фермера падал бы на ренту, а не на потребителя. Фермер не может повысить цену своего хлеба, так как - согласно нашему предположению - она уже всё равно достигла высшего уровня, при котором покупатели хотят или могут покупать хлеб. Но фермер не будет довольствоваться меньшей нормой прибыли, чем та, которую получают другие капиталисты, и, следовательно, ему предоставляется только одна альтернатива - или добиться уменьшения ренты, или покинуть своё занятие. По мнению г-на Бьюкенена, хлеб и сырые материалы имеют монопольную цену потому, что они доставляют ренту. Он исходит из предположения, что все товары, доставляющие ренту, имеют монопольную цену. Отсюда он делает вывод, что все налоги на сырые материалы падают на землевладельца, а не на потребителя. "Так как, - говорит он, - на цену хлеба, который всегда приносит ренту, нисколько не влияют издержки производства, то издержки, вызванные налогом, должны быть уплачены из ренты. Если они увеличиваются или уменьшаются, то следствием их является не более высокая или более низкая цена, а более высокая или более низкая рента. С этой точки зрения все налоги на батраков фермы, лошадей или земледельческие орудия являются в действительности земельными налогами, бремя которых падает на фермера в продолжение всего срока аренды, а затем, когда срок аренды истекает и договор должен быть возобновлён, - на землевладельца. Таким же образом все усовершенствованные сельскохозяйственные орудия, дающие фермеру возможность сократить издержки, как молотилки, жатвенные машины, а также всё, что облегчает ему сношения с рынком, как, например, хорошие дороги, каналы и мосты, - всё это, хотя и уменьшает первоначальные издержки производства хлеба, не уменьшает его рыночной цены. Следовательно, всё, что сберегается путём этих усовершенствований, принадлежит землевладельцу как часть его ренты" <Buchanan, v. IV, р. 37-38. - Прим. ред.> Очевидно, что, если мы признаем основу, на которой г-н Бьюкенен строит всю свою аргументацию, правильной, если мы согласимся, что цена хлеба всегда даёт ренту, мы должны будем признать и все следствия, которые, по его мнению, вытекают из этого факта. Налоги на фермера падали бы тогда не на потребителя, а на ренту, и все улучшения в сельском хозяйстве приводили бы к повышению ренты. Но я, надеюсь, достаточно ясно показал, что, пока в стране ещё не вся земля обработана и притом не в самой высокой степени, в ней всегда существует часть капитала, затраченная на землю, которая не приносит ренты, и что именно эта часть капитала, продукт которой, как и в обрабатывающей промышленности, делится между прибылью и заработной платой, регулирует цену хлеба. А так как на цену хлеба, не дающего ренты, влияют издержки его производства, то последние не могут уплачиваться из ренты. Следовательно, результатом возрастания этих издержек явится именно более высокая цена, а не более низкая рента <"Обрабатывающая промышленность увеличивает количество своих продуктов пропорционально спросу, и цены падают, но количество продуктов земли не может быть увеличено этим путем, и высокая цена всегда необходима для предупреждения превышения потребления над предложением". (Buchanan, v. IV, р. 40.) Может ли г-н Бьюкенен серьёзно утверждать, что количество продукта земли не может быть увеличено, если спрос возрастёт?>. Замечательно, что и Адам Смит и г-н Бьюкенен, которые в полном согласии друг с другом признают, что налоги на сырые материалы, земельный налог и десятина - все падают на ренту с земли, а не на потребителей сырых материалов, допускают всё-таки, что налог на солод упадёт на потребителя пива, а не на ренту землевладельца. Аргументация Адама Смита представляет такую удачную защиту той точки зрения, с которой я рассматриваю налог на солод и всякий налог на сырые материалы, что я не могу удержаться от желания познакомить с ней читателя. "Рента и прибыль с земли, засеваемой ячменём, всегда должны быть приблизительно равны ренте и прибыли с других одинаково плодородных и одинаково хорошо возделываемых земель. Если бы они были меньше, некоторая часть земли под ячменём была бы скоро обращена на какую-нибудь другую цель, а если бы они были больше, большее количество земли скоро было бы обращено под посев ячменя. Когда обычная цена какого-либо продукта земли представляет собою, так сказать, монопольную цену, налог на него обязательно понижает ренту и прибыль <Я предпочёл бы, чтобы слово "прибыль" было опущено. Д-р Смит, очевидно, предполагает, что прибыль арендаторов ценных виноградников должна быть выше общей нормы прибыли. Если бы она не была выше, они не платили бы налога только в том случае, если бы им удалось переложить его на землевладельца или потребителя> с земли, на которой он растёт. Налог на продукт тех роскошных виноградников, на которых производство вина настолько меньше действительного спроса на него, что его цена всегда превышает естественный уровень цены продукта других, одинаково плодородных и одинаково хорошо возделываемых земель, неизбежно понизит ренту и прибыль <См. предыдущее примечание> с этих виноградников. Поскольку цена этих вин уже достигает максимума, который может быть получен за обычно отправляемое на рынок количество их, она не может быть увеличена ещё больше без уменьшения этого количества, а последнее не может быть сделано без еще большей потери, потому что земли не могут быть обращены на производство какого-либо другого столь же ценного продукта. Ввиду этого вся тяжесть налога должна ложиться на ренту и прибыль <То же.>, собственно говоря, на ренту с виноградника". "Обычная цена ячменя никогда не была монопольной, а рента и прибыль с земли под ячмень никогда не превышали естественного уровня ренты и прибыли с других земель, одинаково плодородных и одинаково хорошо обрабатываемых. Различные налоги, какими облагались солод, пиво и эль, никогда не вели к понижению цены ячменя, никогда не понижали ренты и прибыли с земли под ячменём. Цена солода, в которую он обходился пивовару, постоянно повышалась соответственно налогам, взимавшимся с него, и эти налоги вместе с различными акцизами на пиво и эль постоянно или повышали цену, или, что сводится к тому же, понижали качество этих продуктов для потребителя. Конечная уплата этих налогов всегда ложилась на потребителя, а не на производителя" <Адам Смит, Исследование о природе и причинах богатства народов, т. II, стр. 401-402. - Прим. ред.>. По поводу этого места г-н Бьюкенен замечает: "Акциз на солод не может никогда понизить цену ячменя, потому что если бы ячмень, превращённый в солод, давал при продаже меньше, чем ячмень в сыром виде, то требуемое количество не было бы доставлено на рынок. Ясно поэтому, что цена солода должна подниматься пропорционально налогу на него, так как иначе спрос не был бы удовлетворён. Но цена ячменя является постольку же монопольной, поскольку таковой будет цена сахара; оба они приносят ренту, и рыночная цена обоих одинаково потеряла всякую связь с первоначальными издержками производства" <Buchanan, v. III, p. 386. - Прим. ред.>. Итак, г-н Бьюкенен, повидимому, думает, что налог на солод повысит цену солода, но налог на ячмень, из которого приготовляется солод, не увеличит цены ячменя и что, следовательно, в случае обложения солода налог будет уплачен потребителем, а если будет обложен ячмень, то налог будет уплачен землевладельцем, который получит меньшую ренту. По мнению г-на Бьюкенена, ячмень, таким образом, продаётся по монопольной цене, т. е. по высшей цене, которую покупатели готовы дать за него, но солод, приготовленный из ячменя, не продаётся по монопольной цене, и, следовательно, цена его может быть повышена пропорционально налогу, которым он обложен. Этот взгляд г-на Бьюкенена на действия налога на солод находится, как мне кажется, в резком противоречии с его же взглядом на аналогичный налог - на налог на хлеб. "Налог на хлеб будет в конце концов уплачен не путём повышения цены, а путём уменьшения ренты" <Buchanan, v. III, p. 355. - Прим. ред.>. Если налог на солод повышает цену пива, то налог на хлеб должен повысить цену хлеба. Следующая аргументация г-на Сэя покоится на тех же основаниях, что и аргументация г-на Бьюкенена: "Количество вина или хлеба, производимого участком земли, останется почти одинаковым, как бы ни был велик налог, который падает на этот участок. Налог может отнять половину или даже три четверти его чистого продукта или, если хотите, его ренты, но земля будет тем не менее обрабатываться и дальше ради остальной половины или четверти, не поглощённой налогом. Рента или, иначе говоря, доля землевладельца будет только несколько ниже. Мы поймём причины этого явления, если примем во внимание, что в предположенном случае количество продукта, полученного от земли и посланного на рынок, останется всё-таки без изменения. С другой стороны, причины, обусловливающие спрос на продукт, также остаются прежними. И вот, если предлагаемое количество продукта и требуемое продолжают по необходимости оставаться неизменными, несмотря на обложение земли налогом или увеличение его, то и цена продуктов тоже останется без изменения. А если цена не изменится, то потребитель не будет платить ни малейшей доли этого налога. Но, может быть, скажут, что фермер, доставляющий труд и капитал, будет нести вместе с землевладельцем тягость этого налога? Наверное, нет: введение налога не уменьшило числа арендуемых ферм и не увеличило числа фермеров. Пока и в этом случае предложение и спрос остаются неизменёнными, не подвергнется изменениям и рента, получаемая с ферм. Пример солевара, который может переложить на потребителей только часть налога, а также землевладельца, который не может вознаградить себя ни в малейшей степени, показывает всю ошибочность взгляда тех, кто в противоположность экономистам <Здесь имеются в виду физиократы. - Прим. ред.> утверждает, что всякий налог в конце концов падает на потребителей" (т. II, стр. 338). Если бы налог "отнимал половину или даже три четверти чистого продукта земли" и цена продукта не возросла бы, то каким образом получили бы обычную прибыль на капитал те фермеры, которые платят очень умеренную ренту? Ведь они располагают только теми земельными участками, которые требуют для получения того же количества продукта более значительного количества труда, чем более плодородные участки. Если бы им уступили даже всю ренту, они всё же получали бы меньшую прибыль, чем в других отраслях промышленности, и они прекратили бы поэтому обработку земли, если бы они не могли повысить цены её произведений. Если бы налог падал на фермеров, уменьшилось бы количество фермеров, согласных арендовать фермы; если бы налог падал на землевладельца, многие фермы вовсе не отдавались бы в аренду, ибо они не приносили бы никакой ренты. Но из какого источника платили бы налог те, кто производит хлеб, не уплачивая никакой ренты? Вполне ясно, что налог должен падать на потребителя. Каким образом могла бы платить налог в одну половину или три четверти всего её продукта земля, которую г-н Сэй описывает в следующих словах: "В Шотландии мы встречаем бедные земли, которые обрабатываются собственниками и которые не могли бы обрабатываться никем другим. Таким же образом мы находим в отдалённых областях Соединённых Штатов обширные и плодородные земли, дохода с которых не хватает на прокормление их собственника. И всё-таки они обрабатываются. Но необходимо, чтобы собственник обрабатывал их сам, или, другими словами, к ренте, которая представляет ничтожную величину или совсем отсутствует, он должен прибавить прибыль с своего капитала и труда, чтобы иметь возможность жить в довольстве. Хорошо известно, что земля, хотя бы и обрабатываемая, не доставит никакого дохода землевладельцу, если ни один фермер не захочет платить за неё ренту. Это доказывает, что такая земля даёт только прибыль на капитал и труд, необходимые для её обработки" (Say, v. II, р, 127). Глава 18. Налоги в пользу бедных
Мы видели, что налоги на сырые материалы и на прибыль фермера падают на потребителей сырых материалов. Если бы фермер не мог вознаградить себя путём повышения цены, то прибыль его понизилась бы вследствие налога в сравнении с общим уровнем прибыли, и он был бы вынужден перейти со своим капиталом в какую-нибудь другую отрасль. Мы видели, кроме того, что он не может посредством вычета из ренты переложить этот налог с себя на землевладельца, так как фермер, который не платит никакой ренты, будет так же затронут налогом, как и арендатор лучшей земли, будет ли этот налог падать на сырые материалы или на прибыль фермера. Я пытался также показать, что, если бы налог был всеобщим и затрагивал одинаково прибыль фабрикантов и прибыль фермеров, он не оказал бы никакого действия на цены товаров или сырых материалов, а непосредственно, да и в конечном счёте, падал бы на производителей. Было отмечено также, что налог на ренту падал бы исключительно на землевладельца и никоим образом не мог бы быть переложен на арендатора. Налог в пользу бедных соединяет свойства всех этих налогов и при различных обстоятельствах падает на потребителя сырых материалов и промышленных товаров, на прибыль с капитала и на земельную ренту. Это - налог, который с особенной силой падает на прибыль фермера и потому может быть рассматриваем как налог, влияющий на цену сырых материалов. В той мере, в какой он падает одинаково на прибыль в обрабатывающей промышленности и в сельском хозяйстве, он представляет всеобщий налог на прибыль с капитала и не вызывает никаких изменений в цене сырых материалов и промышленных товаров. Поскольку фермер не может вознаградить себя путём повышения цены сырых материалов за ту часть налога, которая падает специально на него, налог в пользу бедных будет налогом на ренту и будет уплачен землевладельцем. Поэтому, чтобы определить влияние налога в пользу бедных в течение какого-либо периода, мы должны исследовать, затрагивает ли он в это время прибыль фабриканта и фермера в одинаковой или в неодинаковой степени и может ли фермер при данных условиях повысить цену на сырые материалы. Некоторые думают, что налоги в пользу бедных взимаются с фермера пропорционально выплачиваемой им ренте, и в соответствии с этим фермер, который платит маленькую ренту или не платит никакой, будет платить небольшой налог или совсем не будет платить его. Если бы это было верно, то налог в пользу бедных, поскольку он выплачивался бы земледельческим классом, падал бы целиком на землевладельца и не мог бы перелагаться на потребителя сырых материалов. Но я думаю, что это неверно. Налог в пользу бедных взимается вовсе не пропорционально ренте, которую фермер платит в данный момент землевладельцу, - он всегда пропорционален годовой стоимости его земли, придаётся ли эта годовая стоимость земле с помощью капитала землевладельца или же капитала арендатора. Если бы два фермера арендовали земельные участки различного качества в одном и том же приходе и один платил бы ежегодно ренту в 100 ф. ст. за 50 акров самой плодородной земли, а другой тоже 100 ф. ст. за 1 тыс. акров наименее плодородной земли, то они платили бы одинаковый налог в пользу бедных, раз никто из них не пытался бы улучшить землю. Но если фермер, арендующий плохую землю, решается в расчёте на очень долгий арендный срок увеличить, несмотря на большие расходы, производительные силы своей земли с помощью удобрения, дренажа, огораживания и т. д., он будет платить налог в пользу бедных пропорционально не ренте, уплачиваемой им в данное время землевладельцу, а всей действительной годовой стоимости земли. Налог мог бы равняться или даже быть больше ренты, но так или иначе ни одна часть налога не была бы уплачена землевладельцем. Фермер предварительно рассчитал бы всё это: если бы цена продукта не была достаточна, чтобы возместить ему все его расходы вместе с добавочным расходом на налог в пользу бедных, он не предпринял бы улучшений. Таким образом, очевидно, что в этом случае налог уплачивается потребителем. Ибо если бы налога не было, то эти улучшения были бы предприняты, и обычная общая норма прибыли была бы получена на затраченный капитал при более низкой цене хлеба. Ни малейшей разницы не получилось бы и в том случае, если бы землевладелец сам ввёл все эти улучшения и вследствие этого повысил бы свою ренту со 100 до 500 ф. ст. Налог был бы также переложен на потребителя, ибо решение вопроса о том, затратит ли землевладелец большую сумму денег на свою землю, зависело бы от величины ренты - или того, что называется рентой, - которую он получил бы как вознаграждение за землю. А это опять зависело бы от цены на хлеб или другие сырые материалы, т. е. от того, достаточно ли высоки были бы эти цены, чтобы не только покрыть добавочную ренту, но и налог, которым была бы обложена земля. Если бы капитал обрабатывающей промышленности принимал в то же время участие в уплате налога в пользу бедных в той же пропорции, как и капитал, затраченный фермером или землевладельцем на улучшение земли, то налог в пользу бедных превратился бы из специального налога на прибыль с капитала фермера или землевладельца в налог на капитал производителей всех категорий. Он, следовательно, не мог бы быть переложен ни на потребителя сырых материалов, ни на землевладельца. Прибыль фермера была бы затронута налогом не больше, чем прибыль фабриканта, и первый так же мало, как и последний, мог бы ссылаться на налог, как на основание для повышения цены своих товаров. Не абсолютное понижение прибыли удерживает людей от приложения капитала в какой-нибудь отдельной отрасли промышленности, а её относительное понижение: именно разница в прибыли гонит капитал из одной отрасли в другую. Следует, однако, признать, что при современной организации налога в пользу бедных на фермера падает пропорционально его прибыли более значительная сумма налога, чем на фабриканта; ведь фермер облагается в соответствии с действительным количеством продукта, который он получает, а фабрикант - в соответствии со стоимостью здания, в котором он работает, без всякого отношения к стоимости машин, труда и капитала, которыми он пользуется. Отсюда следует, что фермер имеет возможность повысить цену своих продуктов на всю эту разность. Так как налог падает неравномерно и падает в особенности на прибыль фермера, то у последнего было бы меньше побуждения посвящать свой капитал обработке земли, и он скорее поместил бы его в какое-нибудь другое предприятие, если бы не повысилась цена сырых материалов. Напротив, если бы налог падал с большей тяжестью не на фермера, а на фабриканта, то последний тоже мог бы повысить цену своих товаров на всю разность на том же самом основании, на каком фермер повысил бы при подобных условиях цену сырых материалов. Следовательно, когда в обществе, которое расширяет своё земледелие, налог в пользу бедных падает с особенной тяжестью на землю, он будет отчасти уплачен теми, кто вложил капитал и чья прибыль понизится, отчасти же потребителями, которые должны платить более высокие цены за сырые материалы. При таком положении вещей налог может даже быть при некоторых обстоятельствах скорее выгодным, чем убыточным, для землевладельцев. Если налог, уплачиваемый теми, кто обрабатывает худшую землю, был бы по отношению к количеству полученного продукта выше, чем налог, уплачиваемый арендаторами более плодородных земель, то повышение цены хлеба, которое распространилось бы на весь хлеб, более чем достаточно вознаградило бы последних за налог. Этой выгодой они пользовались бы в течение всего срока аренды, но затем она пошла бы на пользу землевладельца. Таковы были бы результаты налога в пользу бедных в прогрессирующем обществе. Что же касается страны, переживающей состояние застоя или упадка, то, поскольку капитал не мог бы быть извлечён из земли при всяком увеличении налога на содержание бедных, та часть его, которая падает на земледелие, уплачивалась бы в продолжение арендного срока фермерами, но по истечении этого срока она почти целиком падала бы на землевладельцев. Если бы во время прежней аренды фермер затратил свой капитал на улучшение земли и эта земля продолжала бы оставаться в его руках, то при новом увеличении налога он был бы обложен пропорционально новой стоимости, которую земля приобрела вследствие улучшения. Он был бы вынужден платить эту сумму в течение всего срока аренды, хотя прибыль его упала бы благодаря этому ниже общей нормы прибыли, потому что затраченный им капитал так тесно сросся бы с землёй, что не мог бы быть извлечён. Действительно, если бы он или его землевладелец (если бы капитал был затрачен последним) мог извлечь свой капитал из земли и уменьшить таким образом её годовую стоимость, то налог упал бы в таком же отношении, а так как количество продукта в то же время уменьшилось бы, то цена его поднялась бы. Он вознаградил бы себя за налог, переложив его на потребителя, и ни одна часть этого налога не упала бы на ренту. Но это невозможно, по крайней мере для некоторой части капитала, и, следовательно, налог будет уплачиваться в соответствующей пропорции фермерами в течение всего срока аренды, а землевладельцами - по окончании этого срока. Если бы этот добавочный налог падал с особенной тяжестью на фабрикантов, чего на самом деле нет, то при таких обстоятельствах он был бы прибавлен к цене товаров, ибо нет никакого основания, в силу которого прибыль их упала бы ниже общей нормы, раз они легко могут перевести свои капиталы в земледелие. <В предыдущей части этого труда я отметил разницу между собственно рентой и тем вознаграждением, которое под названием ренты уплачивается землевладельцу за выгоды, доставленные его капиталом арендатору. Но я, быть может, недостаточно ясно показал разницу, являющуюся результатом различных способов приложения этого капитала. Так как часть капитала, однажды затраченная на улучшение фермы, неразрывно срастается с землёй и направлена на увеличение производительных сил последней, то вознаграждение, уплачиваемое землевладельцу за пользование ею, носит полностью характер ренты и подчиняется всем законам ренты. Сделано ли это улучшение за счёт землевладельца или арендатора, оно прежде всего не было бы введено, если бы не было большой вероятности, что доход будет по крайней мере равен прибыли, которая может быть получена путём затраты другого капитала тех же размеров. Но раз это улучшение сделано, то полученный доход будет в дальнейшем всегда иметь всецело характер ренты и подвергнется всем изменениям, свойственным ренте. Однако некоторые из этих издержек улучшают землю только на определённый период и увеличивают её производительные силы не навсегда. Так, если они затрачены на здания и другие улучшения преходящего, они должны постоянно возобновляться и поэтому не доставляют землевладельцу какой-нибудь постоянной прибавки к его действительной ренте.> Глава 19. О внезапных переменах в ходе торговли
Большая страна с развитой промышленностью особенно подвергается временным затруднениям и осложнениям, вызываемым передвижениями капитала из одного занятия в другое. Спрос на сельскохозяйственные продукты однообразен; он не находится под влиянием моды, предрассудков или капризов. Для поддержания жизни необходима пища, и поэтому спрос на пищу существует постоянно, во всякую эпоху и во всех странах. Иначе обстоит дело с обрабатывающей промышленностью: спрос на тот или иной промышленный товар находится в зависимости не только от потребностей, но и от вкусов и капризов покупателей. Кроме того, новый налог может уничтожить сравнительное преимущество, которым страна прежде пользовалась в производстве данного товара. Или же вследствие войны могут так сильно возрасти фрахт и страховка при пересылке этого товара, что он не сможет уже больше конкурировать с товарами тех стран, в которые он до того времени вывозился. Во всех таких случаях всем, кто занят в производстве этих товаров, придётся испытывать значительные затруднения и, без сомнения, некоторые потери. Это неблагоприятное влияние будет чувствоваться ими не только в самый момент такой перемены, но и в течение всего периода перемещения как их капиталов, так и находящегося в их распоряжении труда из одного занятия в другое. Но эти затруднения будет испытывать не только страна, в которой они возникли. Их в такой же степени испытывают и страны, в которые до того времени вывозились данные товары. Ни одна страна не может ввозить долго что-либо, если она сама также не вывозит каких-нибудь товаров, и, наоборот, она не может долго вывозить их, если она не ввозит в обмен на них другие товары. Поэтому, если в силу какого-нибудь обстоятельства страна на долгое время лишается возможности ввозить обычное количество иностранных товаров, она по необходимости должна будет уменьшить производство некоторых из тех товаров, которые она обыкновенно вывозила. Хотя общая сумма стоимости всех продуктов страны, по всей вероятности, уменьшится только в очень незначительной степени, поскольку тот же капитал будет всё ещё применяться, всё-таки количество продуктов не будет так же обильно и они не будут так же дёшевы. Значительные затруднения будут испытываться также вследствие перехода капитала из одной отрасли промышленности в другую. Если, вложив капитал в 10 тыс. ф. ст. в производство хлопчатобумажных изделий для вывоза, мы ввозили бы ежегодно 3 тыс. пар шёлковых чулок стоимостью в 2 тыс. ф. ст. и если вследствие приостановки внешней торговли мы были бы вынуждены извлечь этот капитал из хлопчатобумажной промышленности и употребить его на производство чулок, то - при условии, чтобы ни одна часть капитала не погибла, - мы продолжали бы получать на 2 тыс. ф. ст. чулок, но в таком случае вместо 3 тыс. пар мы могли бы получить только 2 500. Итак, передвижение капитала из хлопчатобумажной промышленности в производство шёлковых чулок сопровождалось бы многими затруднениями, но оно не уменьшило бы в значительной степени стоимость национального имущества, хотя бы при этом передвижении уменьшилось количество ежегодно производимых нами товаров. <"Торговля даёт нам возможность получать товар в том месте, где он производится, и доставлять его туда, где он будет потреблён. Она поэтому даёт нам возможность увеличить стоимость товара на всю разницу между ценою его в одном месте и ценою его в другом" (Say, v. II, р. 458). Верно, но каким образом товар получает эту добавочную стоимость? Путём прибавления к издержкам производства, во-первых, издержек по доставке, во-вторых, прибыли на капитал, авансированный торговцем. Данный товар будет, следовательно, стоить больше по той же самой причине, по которой и всякий другой товар будет стоить больше, если на производство и доставку его будет затрачено больше труда ещё до того, как он был куплен потребителем. Но это не следует считать одним из преимуществ торговли. Если мы исследуем этот предмет внимательнее, мы увидим, что все выгоды торговли сводятся к тому; что она даёт нам средства приобрести не более дорогие предметы, а более полезные. [Это примечание сделано только к третьему изданию.]>. Война, вспыхнувшая после долгого мира, или мир, последовавший за продолжительной войной, обыкновенно вызывают значительное замешательство в промышленности и торговле. Такие события в значительной степени изменяют характер занятий, в которых прежде применялись соответственные капиталы различных стран. В течение промежутка времени, который проходит, пока капитал найдёт для себя применение, наиболее выгодное при новых обстоятельствах, значительная часть основного капитала остаётся без приложения, а может быть, и совсем погибает, и многие рабочие остаются без работы. Это бедствие будет длиться более или менее долгое время в зависимости от того, насколько сильно нежелание большинства людей отказаться от того применения своего капитала, с которым они давно уже свыклись. И оно часто затягивается ещё больше вследствие различных ограничений и запрещений, порождаемых бессмысленной завистью, которая господствует в отношениях между различными государствами торгового мира. Очень часто бедствие, причиняемое внезапным изменением в ходе торговли, смешивают ошибочно с бедствием, которым сопровождаются уменьшение национального капитала и застой в развитии общества. Между ними, быть может, трудно провести точную разграничительную линию. Но если мы знаем, что такое бедствие непосредственно последовало за переходом от войны к миру, то мы имеем основание думать, что фонды на содержание труда были скорее отвлечены от своего обычного направления, чем подверглись существенному уменьшению, и что после временных страданий нация снова двинется вперёд по пути процветания. Кроме того, не следует забывать, что состояние упадка всегда представляет собой ненормальное состояние для общества. За периодом юности у человека следует период расцвета сил, затем силы его слабеют, и он умирает. Совсем иначе совершается развитие наций. Когда нация достигает периода наиболее полного развития своих сил, она, правда, может задержаться на этой ступени, но естественная тенденция её развития заключается в том, что в течение ряда веков она продолжает поддерживать своё благосостояние и население на одном и том же уровне. В богатых и могущественных странах, в которых огромные капиталы затрачены на машины, внезапное изменение в ходе торговли вызывает больше бедствий, чем в более бедных странах, в которых имеется пропорционально гораздо меньше основного капитала и гораздо больше оборотного и где, следовательно, значительная часть работы производится человеческим трудом. Оборотный капитал гораздо легче извлекается из какого-нибудь занятия, чем основной. Часто совершенно невозможно приспособить машины, построенные для одной отрасли промышленности, для обслуживания другой. Наоборот, одежда, пища и жилище рабочего могут служить ему и в другой отрасли промышленности или тот же самый рабочий может получить ту же пищу, одежду и жилище, хотя бы он переменил своё занятие. Но зло это такого характера, что всякая богатая нация должна с ним волей-неволей мириться. Жаловаться на него было бы так же резонно, как горевать богатому купцу о том, что его корабль подвергается всем опасностям на море, тогда как лачуга его бедного соседа безопасна от таких случайностей. Но от таких осложнений, хотя и в меньшей степени, не избавлено даже сельское хозяйство. Война, которая мешает сношениям торговой нации с другими народами, очень часто задерживает также вывоз хлеба из тех стран, где он производится сравнительно дёшево, в страны, находящиеся в менее благоприятном положении. При таких условиях в сельское хозяйство притекает необычное количество капитала, и страна, которая прежде ввозила хлеб, теперь уже больше не нуждается в иностранной помощи. По окончании войны препятствия, мешавшие ввозу, устраняются, и отечественный производитель становится жертвой убийственной конкуренции, от которой он может избавиться, только пожертвовав большой частью своего капитала. Со стороны государства в этом случае наиболее целесообразной политикой является установление на определённое число лет налога на ввоз иностранного хлеба - налога, сумма которого время от времени будет уменьшаться, чтобы дать отечественному производителю возможность постепенно извлечь свой капитал из земли <В последнем томе дополнения к "Британской энциклопедии" в статье "Хлебные законы и торговля" мы находим следующие превосходные указания и замечания: "Если бы мы захотели в будущем пересмотреть предпринятые нами шаги, то мы могли бы принять постепенно понижающуюся шкалу пошлин, чтобы дать время для извлечения капиталов из бедных участков и вложить их в более прибыльные предприятия. Цена, при которой допускается беспошлинный ввоз иностранного хлеба, могла бы ежегодно уменьшаться на 4 или 5 шилл. за квартер, пока вместо 80 шилл., которые служат теперь пределом, она достигла бы 50 шилл. Тогда можно было бы вполне безопасно открыть все порты и навсегда отменить запретительную систему. Когда наступит это счастливое время, не будет уже никакой необходимости насиловать природу. Капитал и предприимчивость нашей страны обратятся к тем отраслям промышленности, в которых естественные условия, национальный характер или политические учреждения обеспечивают за нами особенные преимущества. Хлеб Польши и сырой хлопок Каролины будут обмениваться на металлические изделия Бирмингама и муслин Глазго. Истинный коммерческий дух, который всегда обеспечивает благосостояние народа, несовместим с тайной и мелочной политикой монополий. Нации всего мира подобны провинциям одного и того же королевства, а свободные, ничем не стесняемые сношения одинаково полезны с точки зрения как общей выгоды, так и частной". Статья в целом заслуживает особого внимания: она очень поучительна, хорошо написана и показывает, что автор её вполне владеет предметом. [Это примечание имеется только во втором и третьем изданиях.]>. Поступая таким образом, страна, может быть, не достигает наиболее выгодного распределения своего капитала; однако временный налог, которому она подчинилась бы, принёс бы выгоду определённому классу, чей капитал был распределён с большой пользой для страны: он обеспечивал предложение пищевых продуктов в то время, когда ввоз их был приостановлен. Если бы такие усилия, сделанные в критический момент, сопровождались риском разорения сейчас же по окончании затруднений, то капитал избегал бы такого применения. Кроме обычной прибыли на капитал, фермеры рассчитывали бы на вознаграждение за риск, которому они подвергались вследствие внезапного притока хлеба. Следовательно, цена хлеба для потребителя - и как раз в такие моменты, когда последний больше всего нуждается в хлебе, - повысилась бы не только вследствие более высоких издержек производства хлеба внутри страны, но ещё и в силу необходимости оплатить в цене хлеба страхование за особый риск, которому подвергается подобное приложение капитала. Вот почему, хотя для страны было бы гораздо выгоднее разрешить ввоз дешёвого хлеба, какими бы жертвами капитала ни сопровождался этот ввоз, было бы более целесообразно установить на несколько лет пошлину на ввоз хлеба. При исследовании вопроса о ренте мы пришли к заключению, что при всяком возрастании количества предлагаемого хлеба и падении вследствие этого его цены капитал был бы извлечён из более бедных земель и мерилом, которым регулировалась бы естественная цена хлеба, служила бы более плодородная земля, которая тогда не приносила бы ренты. При цене в 4 ф. ст. за квартер могла бы обрабатываться земля низшего качества, которую мы можем обозначить N 6; при цене в 3 ф. ст. 10 шилл. обрабатывалась бы земля N 5, при цене в 3 ф. ст. - N 4 и т. д. Если бы цена хлеба вследствие постоянного избытка упала до 3 ф. ст. 10 шилл., капитал, вложенный в N 6, был бы извлечён, так как только при цене в 4 ф. ст. он мог бы получить обычную прибыль, даже если бы он не платил ренты. Он, следовательно, был бы употреблён на производство тех товаров, в обмен на которые был бы куплен и ввезён хлеб, до того производившийся на земле N 6. В новом предприятии капитал необходимо должен приносить своему собственнику больше выгоды, иначе он не был бы отвлечён от прежнего применения. Ибо если собственник этого капитала не мог бы купить на товары, произведённые им, больше хлеба, чем он получал с земли, за которую он не платил ренты, то цена хлеба не могла бы упасть ниже 4 ф. ст. Однако иные утверждают, что капитал не может быть извлечён из земли, так как он затрачивается в таких формах - удобрение, огораживание, дренаж и т.д., - в которых он неразрывно срастается с землёй. До некоторой степени это верно; но капитал, который заключается в рогатом скоте, овцах, в амбарах для хлеба и сена, телегах и т. д., может быть освобождён. Простой расчёт решит, стоит ли, несмотря на низкую цену хлеба, попрежнему употреблять эти предметы для обработки земли или их следует продать и полученную за них стоимость затратить на другое предприятие. Предположим, однако, что факт констатирован верно, что ни одна часть капитала не может быть освобождена <Всякий капитал, закреплённый в земле, необходимо превращается по окончании аренды в собственность землевладельца, а не арендатора. Какое бы вознаграждение ни получил землевладелец, вновь пересдавая эту землю, оно примет форму ренты, но никто не платил бы ренты, если бы с помощью данного капитала можно было получить из-за границы больше хлеба, чем вырастить на этой земле внутри страны. Если условия существования общества требуют ввоза хлеба, причём 1 тыс. квартеров могут быть получены путём затраты данного капитала, данная же земля при затрате того же капитала будет доставлять 1 100 квартеров, то 100 квартеров неизбежно составят ренту. Но если из-за границы можно получить 1 200 квартеров, то обработка этой земли будет прекращена, ибо она перестанет давать даже общую норму прибыли. Но это не представляет никакой невыгоды, как бы ни был велик капитал, который был затрачен на эту землю. Этот капитал был затрачен для того, чтобы увеличить количество продукта: такова была - и мы не должны забывать этого - главная цель. И разве для общества не всё равно, если половина его капитала понизилась в стоимости или была даже уничтожена совсем, раз оно получает ежегодно большее количество продуктов? Кто оплакивает потерю капитала в этом случае, тот приносит цель в жертву средствам. [Это примечание сделано только к третьему изданию.]>. Фермер продолжал бы производить хлеб и притом в точно таком же количестве, какова бы ни была цена хлеба. Ему было бы невыгодно производить меньше, так как, если бы он не употребил свой капитал таким образом, он вовсе не получил бы никакого дохода. Хлеб нельзя было бы ввозить, потому что фермер предпочёл бы скорее продавать его дешевле 3 ф. ст. 10 шилл., чем вовсе не продавать. А при предположенных нами условиях импортёр не мог бы продавать хлеб дешевле этой цены. Пусть фермеры, которые обрабатывали землю указанного разряда, действительно пострадали бы тогда от падения меновой стоимости произведённого ими товара, - как это отразилось бы на всей стране? Мы имели бы точно такое же количество всякого рода товаров, но сырые материалы и хлеб продавались бы по более дешёвым ценам. Капитал страны состоит из её товаров, а так как количество их осталось без изменения, то и воспроизводство будет совершаться тем же темпом. Однако такая низкая цена хлеба будет давать только обычную прибыль с участка N 5, который тогда не платил бы ренты, а рента с лучших земель упала бы. Упала бы также заработная плата, а прибыль поднялась бы. Но как бы низко ни упала цена хлеба, всё-таки, если бы капитал нельзя было извлечь из земли, а спрос не увеличился бы, ввоз хлеба был бы невозможен, потому что внутри страны производилось бы то же количество, что и прежде. Хотя при этом произошло бы совершенно иное разделение продукта и некоторые классы выиграли бы, тогда как другие пострадали бы, общая сумма всего производства осталась бы без изменения, и страна как коллектив не стала бы ни богаче, ни беднее. Но относительно низкая цена хлеба всегда приносит ещё и другую выгоду: разделение наличного продукта приведёт вероятнее всего при этом к увеличению фонда на содержание труда, так как большая часть под именем прибыли придётся на долю производительного класса, а меньшая под именем ренты - на долю непроизводительного класса. Это верно даже в том случае, если капитал не может быть извлечён из земли, если он должен быть либо применён в земледелии, либо совсем остаться без употребления. Но если большая часть капитала может быть извлечена, - а это, очевидно, возможно, - то капитал будет освобождён только в том случае, когда это освобождение принесёт его собственнику больше выгоды, чем если бы этот капитал остался в земле. Следовательно, капитал будет освобождён только тогда, когда в другом занятии он может быть применён более производительно и для собственника и для населения. Собственник капитала соглашается на понижение стоимости той части капитала, которая не может быть отделена от земли, потому что с помощью другой части, которую он может освободить, он может получить большую стоимость и большее количество сырых материалов, чем в случае несогласия его на понижение стоимости первой части капитала. Он находится в таком же точно положении, как человек, который успел затратить большие средства на установку машин на своей фабрике, когда вдруг новые изобретения настолько усовершенствовали машины этого рода, что стоимость производимых им товаров очень сильно понизилась. Простой расчёт должен и в этом случае решить вопрос, стоит ли совсем бросить старые машины и заменить их новыми, более производительными, теряя всю стоимость старых, или же лучше продолжать пользоваться сравнительно слабой мощностью старых машин. Кто стал бы советовать ему при таких условиях отказаться от применения лучших машин только потому, что он таким образом уменьшил бы или уничтожил стоимость старых? А именно так аргументируют все, кто желает запретить ввоз хлеба потому, что иначе была бы ущерблена или уничтожена часть капитала фермера, которая навсегда срослась с землёй. Они не понимают, что цель всякой торговли заключается в увеличении производства, что, увеличивая производство, вы увеличиваете общее благосостояние, хотя вы при этом можете причинить ущерб отдельным лицам. Если бы они хотели быть последовательными, они должны были бы попытаться остановить всякий прогресс в земледелии и обрабатывающей промышленности и всякие усовершенствования в машинах. Ведь всякое новое изобретение, хотя оно способствует развитию общего благосостояния, а следовательно, и общего счастья, в момент своего применения всегда уменьшает или уничтожает стоимость части наличного капитала фермеров и фабрикантов <К наиболее дельным работам, доказывающим всю нецелесообразность политики запрещения ввоза хлеба, можно отнести "Опыт о внешней хлебной торговле" ("Essay on the External Corn Trade") майора Торренса. Его аргументы не встретили серьёзных возражений, и, по моему мнению, они неопровержимы. [Это примечание имеется только во втором и третьем изданиях.]>. Как и все другие занятия, земледелие - особенно в торговых странах - переживает периоды реакции, которые следуют в прямо противоположном направлении за периодами наиболее интенсивной деятельности. Так, когда война задерживает ввоз хлеба, повышение цены последнего привлекает к земле капитал, дающий при таком применении большую прибыль. Это, вероятно, приведёт к чрезмерному увеличению капитала, занятого в земледелии, и на рынок будет выброшено большее количество сырых материалов, чем требует страна. В таком случае цена хлеба упадёт вследствие переполнения рынка, и земледелие будет терпеть большие затруднения до тех пор, пока среднее предложение не будет поставлено на один уровень со средним спросом. Глава 20. Стоимость и богатство, их отличительные свойства
"Каждый человек богат или беден, - говорит Адам Смит, - в зависимости от того, в какой степени он может пользоваться предметами необходимости, удобства и удовольствия" <Адам Смит, Исследование о природе и причинах богатства народов, т. I, стр. 30. - Прим. ред.>. Стоимость существенно отличается, следовательно, от богатства, ибо она зависит не от изобилия, а от трудности или лёгкости производства. Труд 1 млн. человек на фабриках всегда произведёт одну и ту же стоимость, но он не произведёт всегда одно и то же богатство. Изобретение новых машин, усовершенствование квалификации рабочего, лучшее разделение труда или открытие новых рынков, где можно более выгодно обменивать товары, - всё это даёт возможность 1 млн. человек производить при одном состоянии общества вдвое или даже втрое больше богатства - предметов "насущной необходимости, удобства и удовольствия", - чем при другом. Но на этом основании они ещё не прибавили бы ничего к стоимости, так как стоимость каждого предмета повышается или падает пропорционально лёгкости или трудности его производства, или, другими словами, пропорционально количеству труда, затраченного на его производство. Предположим, что труд известного числа людей произвёл при помощи данного капитала 1 тыс. пар чулок и что вследствие изобретения машины то же самое число людей может произвести 2 тыс. пар или что, продолжая производить 1 тыс. пар, они могут, кроме того, производить 500 шляп. В этом случае стоимость 2 тыс. пар чулок или 1 тыс. пар чулок и 500 шляп была бы не больше и не меньше, чем стоимость 1 тыс. пар чулок до введения машин, так как они были бы продуктом того же самого количества труда. Но стоимость общей массы продуктов тем не менее уменьшилась бы. Конечно, стоимость возросшего количества, произведённого благодаря улучшениям в машинах, была бы точно такая же, как и стоимость меньшего количества, которое было бы произведено, если бы не было введено никаких улучшений. Но это изменение произвело бы также своё действие и на ту часть не потреблённых ещё товаров, которые были произведены до усовершенствования машин: стоимость этих товаров уменьшится, поскольку она должна упасть до уровня стоимости такого же точно количества товаров, произведённых уже после введения улучшений. Таким образом, общество, несмотря на возросшее количество товаров, несмотря на возросшее богатство, несмотря на увеличение количества предметов удовольствия, имело бы в своём распоряжении меньшую сумму стоимости. Увеличивая непрестанно лёгкость производства, мы в то же время уменьшаем стоимость некоторых из товаров, произведённых прежде, хотя этим же путём мы увеличиваем не только национальное богатство, но и производительные силы будущего. Многие заблуждения в политической экономии объясняются ошибочными взглядами на этот предмет, а именно отождествлением возрастания богатства с возрастанием стоимости и слабо обоснованными понятиями о том, что является стандартной мерой стоимости. Одни считают такой мерой деньги, и, по их мнению, нация становится богаче или беднее, смотря по большему или меньшему количеству денег, на которое обмениваются все её товары. Другие полагают, что деньги являются очень удобным мерилом для целей обмена, но не могут служить хорошей мерой для определения стоимости других предметов. Но их мнению, действительной мерой стоимости является хлеб <Адам Смит говорит, что "различие между действительной и номинальной ценой товаров и труда имеет не только чисто теоретическое значение, но нередко имеет и важное практическое значение". Я вполне согласен с ним, но нередко действительная цена труда и товаров определяется их ценою в продуктах - в этой действительной мере Адама Смита - не в большой степени, чем их ценою в золоте и серебре - их номинальной мере. Рабочий только тогда получает действительно высокую цену за свой труд, когда на свою заработную плату он может купить продукт большого количества труда>, и страна согласно этому богата или бедна, смотря по тому, на большее или меньшее количество хлеба обмениваются её товары <Так, г-н Сэй (т. I, стр. 108) говорит, что серебро теперь имеет такую же стоимость., как и в царствование Людовика XIV, "потому что то же самое количество серебра может купить такое же количество хлеба">. Но есть и такие, которые думают, что страна богата или бедна, смотря по количеству труда, какое она может купить. Но почему золото или хлеб, или труд могут быть стандартной мерой стоимости скорее, чем уголь или железо, скорее, чем одежда, мыло, свечи и другие предметы жизненной необходимости рабочего? Или, короче говоря, почему один какой-либо товар или все товары вместе должны служить эталоном, если этот эталон сам подвергается колебаниям в своей стоимости? Стоимость хлеба, точно так же как и стоимость золота, может изменяться в сравнении с другими предметами вследствие трудности или лёгкости производства на 10, 20 или 30%. Почему мы должны во всех этих случаях говорить, что изменилась стоимость других предметов, а не стоимость хлеба? Неизменной стоимостью обладал бы только тот товар, на производство которого во все времена требуется одинаковое количество труда и усилий. Такой товар нам совершенно неизвестен, но о существовании его мы можем рассуждать и говорить гипотетически, как если бы он существовал. Мы можем дополнить наши научные познания, показав ясно безусловную непригодность всех тех мер, какие предлагались до сих пор. Но если бы мы даже допустили, что один из названных товаров может служить правильной мерой стоимости, он всё-таки не будет мерой богатства, ибо богатство не зависит от стоимости. Человек богат или беден, смотря по количеству предметов насущной необходимости и роскоши, находящихся в его распоряжении. Как бы ни изменялась меновая стоимость этих предметов по отношению к деньгам, хлебу или труду, как бы высока или низка ни была она, все они одинаково будут доставлять удовольствие их собственнику. Только вследствие смешения понятий стоимости и богатства или благосостояния можно было утверждать, что богатство может быть увеличено путём уменьшения количества товаров, т. е. предметов необходимости, удобства и удовольствия. Если бы стоимость была мерой богатства, мы должны были бы с этим согласиться, потому что стоимость товаров возрастает вследствие их редкости; но если прав Адам Смит, если богатство заключается в предметах необходимости и удовольствия, то богатство не может возрасти путём уменьшения их количества. Конечно, человек, владеющий редким товаром, богаче, если с помощью этого товара он может получить более значительное количество предметов необходимости и удовольствия. Но так как общая сумма предметов, из которой берётся богатство каждого человека, уменьшилась на всё количество, взятое из неё отдельным человеком, то доля других людей необходимо уменьшится на столько, сколько может присвоить себе лицо, поставленное в более благоприятное положение. "Если вода сделается редким предметом, - говорит лорд Лодердаль, - и станет монопольной собственностью одного человека, то богатство его возрастёт, потому что вода приобретёт тогда стоимость, и если общее богатство составляется из суммы индивидуальных богатств, то этим путём возрастает также и общее богатство" <См. Lauderdale, An Inquiry into the Nature and Origin of Public Wealth, Edinburgh 1804, p. 44. - Прим. ред.>. Несомненно, богатство этого человека возрастёт, но так как фермер должен будет продавать часть своего хлеба, а сапожник - часть обуви, так как все люди должны будут отдавать часть своей собственности только для того, чтобы получить воду, за которую они прежде ничего не платили, то они станут беднее на всё количество товаров, которые они должны будут затратить с этой целью. Таким образом, собственник воды выиграет ровно столько, сколько другие проиграют. Всё общество будет пользоваться тем же самым количеством воды и тем же самым количеством товаров, но они будут иначе распределены. Однако такое положение возможно скорее в случае монополии на воду, чем недостатка в ней. Если бы вода имелась в недостаточном количестве, богатство страны и отдельных лиц действительно уменьшилось бы, поскольку страна лишилась бы части одного из предметов необходимости. Так, фермер имел бы не только меньше хлеба для обмена на другие товары, которые могут быть для него необходимы или желательны, но он, как и всякое другое лицо, должен был бы ограничить потребление одного из наиболее важных предметов своего обихода. В этом случае мы имели бы дело не только с различным распределением богатства, но и с действительной его потерей. Таким образом, мы можем сказать, что две страны, владеющие совершенно одинаковым количеством предметов жизненной необходимости и комфорта, одинаково богаты, но что стоимость богатства каждой из них зависит от сравнительной лёгкости или трудности его производства. Если усовершенствованная машина даёт нам возможность производить без затраты добавочного труда две пары чулок вместо одной, то 1 ярд сукна будет обмениваться на двойное количество чулок. Если бы такое же усовершенствование сделано было в производстве сукна, чулки и сукно обменивались бы в том же отношении, что и прежде, хотя стоимость их одинаково упала бы, так как пришлось бы отдавать двойное количество их в обмен на шляпы, золото или всякие другие товары. Если бы это усовершенствование распространилось на производство золота и всех других товаров, то все стоимости вернулись бы к своим прежним соотношениям. Количество товаров, производимых ежегодно в стране, удвоилось бы, следовательно, удвоилось бы также и богатство страны, но стоимость этого богатства не возросла бы. Хотя Адам Смит дал верное определение богатства, которое я не раз уже приводил, он в дальнейшем даёт ещё другое определение. Так, он говорит, что "человек богат или беден, смотря но количеству труда, которое он в состоянии купить" <У Смита сказано: "в зависимости от количества того труда, которым он может распоряжаться или которое он может купить". (Адам Смит, Исследование о природе и причинах богатства народов, т. I, стр. 30.). - Прим. ред.>. Но это определение существенно отличается от первого и совершенно неверно. Предположим, что рудники стали более производительными, так что стоимость золота и серебра вследствие большей лёгкости производства упала. Или предположим, что на производство бархата требуется настолько меньше труда, чем прежде, что стоимость его понизилась вдвое. Богатство всех, кто покупал эти товары, увеличилось бы: один мог бы увеличить количество своей металлической посуды, другой мог бы купить двойное количество бархата. Но на добавочное количество посуды и бархата они могли бы купить не больше труда, чем прежде, так как вследствие понижения меновой стоимости бархата и посуды они должны были бы отдать пропорционально большую часть богатства этого рода, чтобы купить день труда. Итак, богатство не может быть измеряемо количеством труда, которое оно может купить. Из всего сказанного следует, что богатство страны может возрастать двояким путём: оно может быть увеличено путём употребления более значительной части дохода на содержание производительного труда, который увеличил бы не только количество, но и стоимость всей массы товаров, или же оно может быть увеличено без затраты дополнительного количества труда, если то же самое количество труда станет более производительным и увеличит только количество, а не стоимость товаров. В первом случае увеличилось бы не только богатство страны - возросла бы также и стоимость этого богатства. Страна разбогатела бы путем бережливости - она уменьшила бы расходы на предметы роскоши и комфорта и употребила бы эти сбережения на воспроизводство. Во втором случае не было бы ни уменьшения расходов на предметы роскоши и комфорта, ни увеличения количества затраченного производительного труда. То же самое количество труда производило бы больше продуктов: возросло бы богатство, но не стоимость. Из этих двух способов увеличения богатства следует предпочесть последний, так как он произведёт тот же самый эффект и в то же время не будет сопровождаться лишениями и уменьшением предметов комфорта, которые необходимо связаны с первым способом. Капитал представляет собой ту часть богатства страны, которая затрачивается в целях будущего производства и может быть увеличена тем же способом, что и богатство. Добавочный капитал будет столь же действителен при производстве будущего богатства, всё равно, получается ли он путём усовершенствования квалификации рабочего и машин или путём производительного употребления более значительной части дохода. Богатство ведь всегда зависит от количества произведённых товаров безотносительно к лёгкости, с какой могут быть произведены орудия, применяемые в производстве. Известное количество предметов одежды и пищевых продуктов будет содержать и давать занятие тому же числу человек для выполнения того же количества работы независимо от того, произведены ли эти предметы трудом 100 или 200 человек. Разница только в том, что они будут стоить вдвое больше, если на их производство затрачен был труд 200 человек. Несмотря на поправки, сделанные г-ном Сэем в четвёртом и последнем издании его труда "Traite d'Economie Politique", я считаю всё же его определение богатства и стоимости исключительно неудачным. [Он считает эти два понятия синонимами. По его мнению, человек богат постольку, поскольку он увеличивает стоимость своего имущества и может распоряжаться большим количеством товаров. "Стоимость дохода возрастает в том случае, - замечает он, - если он может доставить - всё равно, каким путём, - большее количество продуктов". Г-н Сэй утверждает, что если трудность производства сукна увеличится в два раза и сукно, следовательно, будет обмениваться на вдвое большее количество товаров, чем прежде, то это значит, что стоимость его удвоилась. С этим положением я вполне согласен. Но если бы увеличилась почему-либо лёгкость производства всех товаров и не возросла бы трудность производства сукна, если бы, следовательно, сукно, как и прежде, обменивалось на двойное количество товаров, то г-н Сэй продолжал бы утверждать, что удвоилась стоимость сукна, тогда как, согласно моему взгляду на этот предмет, он должен был бы сказать, что сукно сохранило свою прежнюю стоимость и что упала наполовину стоимость остальных товаров. Не противоречит ли себе г-н Сэй, когда он говорит, что вследствие лёгкости производства два мешка хлеба могут быть произведены там, где прежде производился один, и что, следовательно, стоимость каждого мешка упадёт наполовину, и вслед за этим утверждает, что фабрикант сукна, обменивающий своё сукно на два мешка хлеба, получает вдвое большую стоимость, чем прежде, когда он мог получить в обмен на своё сукно только один мешок хлеба? Если два мешка стоят столько же, сколько прежде один, то он, очевидно, получает ту же стоимость, но не больше. Он действительно получает двойное количество богатства, двойное количество полезности или двойное количество того, что Адам Смит называет потребительною стоимостью, но не двойное количество стоимости. Поэтому г-н Сэй неправ, считая стоимость, богатство и полезность синонимами. Конечно, я мог бы сослаться на многие места в труде г-на Сэя, которые говорят в защиту моей теории о существенных различиях между стоимостью и богатством, но должен в то же время признать, что там встречаются и другие места, в которых он поддерживает противоположный взгляд. Я не в состоянии согласовать их друг с другом. Поэтому я решил отметить их и сопоставить, чтобы г-н Сэй, если он окажет мне честь и обратит внимание на мои замечания, мог в одном из следующих изданий своего труда дать объяснения, которые устранили бы трудности, встреченные как мною, так и другими при истолковании его взглядов
Если дороговизна в действительности проистекает только от издержек производства (см. § 2), то каким образом может увеличиться стоимость товара (см. § 5), если не увеличились издержки его производства? Неужели только потому, что он обменивается на большее количество дешёвого товара - на большее количество товара, издержки производства которого уменьшились? Если я за фунт золота даю в 2 тыс. раз больше сукна, чем за фунт железа, значит ли это, что полезность, которую я приписываю золоту, в 2 тыс. раз больше полезности железа? Конечно, нет. Это доказывает только, - с чем соглашается, впрочем, и сам г-н Сэй (см. § 4), - что издержки производства золота в 2 тыс. раз больше, чем издержки производства железа. Если бы издержки производства двух металлов были одинаковы, я дал бы за них одинаковую цену, но, если бы мерой их стоимости служила полезность, я, вероятно, дал бы больше за железо. Именно конкуренция производителей, "которые постоянно сравнивают издержки производства со стоимостью произведённого предмета" (см. § 4), регулирует стоимость различных товаров. Поэтому если я даю 1 шилл. за кусок хлеба и 21 шилл. за одну гинею, то это ещё но служит доказательством, что такова именно, по моей оценке, сравнительная мера их полезности. В § 4 г-н Сэй почти без всяких изменений подтверждает защищаемую мною теорию стоимости. В свои производительные услуги он включает услуги, оказанные землёю, капиталом и трудом; я включаю только капитал и труд и совершенно исключаю землю. Наше разногласие проистекает от различия наших взглядов на ренту: по моему мнению, рента есть результат частной монополии; она не только не регулирует цену, но, скорее, сама является следствием её. Я убеждён, что если бы даже землевладельцы отказались от ренты, то товары, полученные с земли, не стали бы дешевле: ведь какая-нибудь часть этих товаров всегда добывается с земли, не платящей ренты, ибо прибавочный продукт её достаточен только для уплаты прибыли на капитал. Наконец, я не могу также согласиться с г-ном Сэем, что стоимость какого-нибудь товара лучше всего измеряется количеством товаров, которые даются в обмен на него, хотя я высоко ценю все выгоды, которые проистекают для всех классов потребителей от изобилия и дешевизны товаров. Я вполне разделяю мнение такого замечательного писателя, как г-н Дестю де-Траси, который говорит, что "для измерения какого-нибудь предмета требуется сравнить его с определённым количеством того предмета, который мы принимаем за эталон сравнения, за единицу меры. Следовательно, чтобы измерить длину, вес, стоимость, необходимо определить, сколько заключается в них метров, граммов, франков, одним словом, единиц одного и того же рода". Франк является мерой стоимости не для всякого предмета, а только для известного количества металла, из которого сделан франк, если только франк и предмет, подлежащий измерению, не могли бы быть оба сравниваемы с какой-либо другой мерой, общей для них обоих. Такая мера, по моему мнению, существует, так как оба они являются результатом труда. Следовательно, труд есть общая мера, с помощью которой могут быть определены как действительная, так и относительная стоимость предметов. Я очень рад, что это мнение разделяется, невидимому, и г-ном Дестю де-Траси <Destutt de Tracy, Elemens d'ideologie, v. IV, p. 99. В этом труде г-н де-Траси дал очень полезный и дельный очерк принципов политической экономии. Я должен только прибавить, к моему сожалению, что он поддерживает своим авторитетом определения, которые г-н Сэй дал словам "стоимость", "богатство" и "полезность">. Он говорит: "Так как вполне очевидно, что наши физические и духовные способности представляют наше единственное первоначальное богатство, то применение этих способностей, т. е. труд, является нашим единственным первоначальным сокровищем. Только это применение создаёт все предметы, которые мы называем богатством, - предметы самой насущной необходимости и предметы, служащие только для нашего удовольствия. Ясно также, что все эти предметы представляют только труд, создавший их, и если они имеют стоимость или даже две различные стоимости, то они проистекают только от труда, от которого они берут своё начало"]. <Вместо текста на стр. 231-234 (начиная со слов: "Он считает эти два понятия синонимами" и кончая словами: "от труда, от которого они берут своё начало") в первом и втором изданиях сказано было: "Мне кажется, что г-н Сэй был в высшей степени неудачлив в своем определении богатства и стоимости, данном в первой главе его прекрасного труда. Вот сущность его аргументации. "Богатство, - замечает он, - состоит только из вещей, имеющих сами по себе стоимость; богатство велико, если сумма стоимостей, из которых оно составлено, велика. Богатство невелико, если сумма стоимостей невелика. Две вещи, имеющие одинаковую стоимость, представляют равновеликие богатства. Они имеют одинаковую стоимость, если в силу общего соглашения они свободно обмениваются друг на друга. Так вот, если человечество приписывает вещи стоимость, то только в силу той пользы, которую можно извлечь из её применения... Эту способность удовлетворять различные нужды человечества, которую имеют известные вещи, я называю полезностью. Создавать предметы, которые имеют какую-либо стоимость, значит создавать богатство, так как полезность вещей - первооснова их стоимости, и именно стоимость вещей составляет богатство. Но мы не создаём предметы: всё, что мы можем сделать, это воспроизводить материю в другой форме - таким образом мы можем ей придать полезность. Итак, производство есть создание не материи, а полезности, и последняя измеряется стоимостью, возникающей из полезности произведённого предмета. Полезность какого-либо предмета определяется согласно общей оценке количеством других товаров, на которые он может быть обменён. Это определение стоимости, возникающее из общей оценки, создаваемой обществом, говорит о том, что Адам Смит называет меновой стоимостью, что Тюрго называет оценочной стоимостью и что мы более коротко назвали бы термином стоимость". Вот в чём заключается мнение г-на Сэя. Однако в своём анализе стоимости и богатства он смешивает две вещи, которые необходимо всегда различать и которые Адам Смит называет потребительной стоимостью и меновой стоимостью. Если при помощи усовершенствования машины я могу при том же количестве труда выработать две пары чулок вместо одной, я нисколько не ущербляю полезность одной пары чулок, хотя я уменьшаю их стоимость. Если я получаю при этом точно такое же количество сюртуков, башмаков, чулок и всех других вещей, что и прежде, то я буду иметь то же самое количество и остальных предметов и буду, следовательно, так же богат, если мерой богатства является полезность; однако я буду иметь меньшее количество стоимости, ибо мои чулки имеют теперь только половину своей прежней стоимости. Поэтому полезность не может служить мерой меновой стоимости. Когда мы спрашиваем г-на Сэя, в чём заключается богатство, он отвечает нам, что это - владение предметами, имеющими стоимость. Когда мы затем спрашиваем его, что он подразумевает под стоимостью, он повествует нам, что предметы имеют стоимость постольку, поскольку они обладают полезностью. И когда мы снова просим его объяснить нам, каким путём мы можем судить о полезности предметов, он отвечает, что на основании их стоимости. Таким образом, мерой стоимости служит полезность, а мерой полезности - стоимость".> Говоря о достоинствах и недостатках великого труда Адама Смита, г-н Сэй обвиняет его в том, что "он приписывает одному только труду человека способность производить стоимость. Более точный анализ показывает нам, что стоимость обязана своим происхождением действию труда или, скорее, трудолюбию человека в соединении с действием сил природы и капитала. Незнакомство г-на Смита с этим принципом помешало ему установить истинную теорию влияния машин на производство богатства". В противоположность Адаму Смиту г-н Сэй в четвёртой главе говорит о стоимости, придаваемой товарам естественными факторами, как солнце, воздух, давление атмосферы и т. д., которые иногда заменяют труд человека, а иногда оказывают ему содействие в производстве <"Первый человек, который научился плавить металлы в огне, не был творцом стоимости, которую этот процесс придал расплавленному металлу. Эта стоимость является результатом физического действия огня, прибавленного к труду и капиталу тех людей, которые воспользовались этим открытием". "Вследствие этой ошибки г-н Смит сделал ложный вывод, что стоимость всех продуктов представляет настоящий или прошлый труд человека, или, другими словами, что богатство есть только накопленный труд, а отсюда он делает другой столь же ложный вывод, что труд есть единственная мера богатства или стоимости продуктов" (гл. IV, стр. 31). Заключительные выводы, которые приводит г-н Сэй, принадлежат ему, а не д-ру Смиту. Они верны, если не делать никакого различия между богатством и стоимостью, а в указанном месте г-н Сэй такового не делает. Но хотя Адам Смит, по мнению которого богатство заключается в предметах необходимости, удобства и удовольствия, согласился бы, что машины и естественные факторы в значительной степени увеличивают богатство страны, он не мог бы согласиться с тем, что они прибавляют что-нибудь к стоимости этого богатства. [В первом и втором изданиях сказано: "к меновой стоимости".]>. Но эти естественные факторы придают товарам только потребительную стоимость, а не меновую, о которой говорит г-н Сэй. Как только с помощью машин или знания естественных наук мы заставляем силы природы выполнять работу, которая прежде совершалась человеком, меновая стоимость этой работы соответственно понижается. Если до сих пор мельница приводилась в движение трудом 10 человек, а в дальнейшем открыто, что действие воздуха или воды может сберечь труд этих 10 человек, то стоимость муки, которая частично является продуктом работы мельницы, немедленно падает соответственно количеству сбережённого труда. Общество стало бы богаче на всю сумму товаров, которые могли бы быть произведены трудом 10 человек, так как фонд, назначенный на их содержание, нисколько не уменьшился бы. [Г-н Сэй всё время не замечает существенной разницы между потребительной стоимостью и меновой стоимостью.] <Вставка сделана во втором и третьем изданиях. - Прим. ред.> Г-н Сэй обвиняет д-ра Смита в том, что последний не заметил стоимости, которая придаётся товарам естественными факторами и машинами потому, что он полагает, что все предметы получают свою стоимость от человеческого труда. Но этот упрёк кажется мне неосновательным, так как Адам Смит никогда не впадает в недооценку услуг, которые оказывают нам естественные факторы и машины. Но он очень точно различает природу стоимости, которую они придают товарам; они оказывают нам услуги, увеличивая количество продуктов, они делают человека более богатым, увеличивая количество потребительных стоимостей, но они выполняют эту работу даром, так как за пользование воздухом, теплотой и водой мы ничего не платим. Поэтому содействие их ничего не прибавляет к меновой стоимости. <В первом и втором изданиях дальше следовало несколько абзацев, выпущенных в третьем издании: "В первой главе второй книги г-н Сэй сам даёт схожее определение стоимости, ибо он говорит, что "полезность есть основа стоимости, что товары являются предметом желания, потому что они в той или другой форме полезны, но что их стоимость зависит не от их полезности, не от степени, в которой они представляют предмет желания, но от количества труда, необходимого для их производства". "Полезность товара, понимаемая в таком смысле, делает его предметом человеческого желания, заставляет стремиться к нему и определяет спрос на него. Если для получения воды достаточно пожелать её, то она может быть рассматриваема как часть естественного богатства, данного человеку в неограниченном количестве и используемого им без всякой затраты на него; таковы воздух, вода, свет солнца. Если бы он мог получить таким способом все предметы, удовлетворяющие его нужды и потребности, он был бы бесконечно богат: он не нуждался бы ни в чём. Но, к несчастью, дело обстоит иначе. Большая часть вещей, пригодных и приятных для него, равно как и те, которые ему безусловно необходимы в общественном состоянии, для которого человек, повидимому, специально создан, не достаётся ему даром; они могут быть получены только при помощи некоторого количества труда, применения известного капитала и во многих случаях использования земли. Это - препятствия на пути дарового пользования, препятствия, которые обусловливают действительную затрату производства, так как мы обязаны платить за содействие этих агентов производства". "Только в том случае, когда полезность была таким образом сообщена вещи (т. е. трудом, капиталом, землёй), она становится продуктом и представляет стоимость. Именно её полезность является основой спроса на неё, но жертвы и тяготы, необходимые для получения её, или, другими словами, её цена, ограничивают размер этого спроса". Путаница, которая возникает в результате смещения терминов "стоимость" и "богатство", лучше всего выявляется в следующих рассуждениях г-на Сэя <Say, Catechisme d'Economie politique, p. 99>. Его ученик замечает: "Вы, кроме того, сказали, что богатства общества составляются из общей суммы стоимости, которой оно владеет; мне кажется, из этого следует, что снижение стоимости какого-либо продукта, например чулок, уменьшая общую сумму стоимости, принадлежащей обществу, уменьшает массу его богатства". На это даётся следующий ответ: сумма общественного богатства ещё не уменьшается в силу этого. Две пары чулок производятся теперь вместо одной, и две пары по 3 фр. представляют одинаковую стоимость с одной парой в б фр. Доход общества остаётся без изменения, потому что фабрикант заработал столько же на двух парах по 3 фр., сколько прежде на одной паре в 6 фр. Хотя г-н Сэй и ошибается, но по крайней мере он последователен. Если стоимость есть мера богатства, то общество одинаково богато, потому что стоимость всех его товаров та же, что и прежде. Обратимся, однако, к его выводам: "Но когда доход остаётся без изменения, а продукты падают в цене, общество действительно обогащается. Если одинаковое понижение имеет место для всех товаров в одно и то же время, что не является безусловно невозможным, то общество, получив для себя за половину прежней цены все предметы своего потребления, не потеряв ни одной части своего труда, стало бы действительно в два раза богаче, чем прежде, и могло бы купить двойное количество благ". В одном случае нам говорят, что если каждая вещь упадёт в силу изобилия до половины своей стоимости, то общество будет одинаково богато, потому что будет налицо одинаковое количество товаров по половинной цене или, другими словами, будет налицо та же самая стоимость. В другом случае нам рассказывают, что путём удвоения количества товаров, хотя бы стоимость каждого из них уменьшилась наполовину и, следовательно, стоимость всех вместе была бы точно такая же, как и прежде, общество станет вдвое богаче, чем прежде. В первом случае богатство оценивается количеством стоимости, во втором оно оценивается изобилием товаров, способствующих человеческим наслаждениям. Г-н Сэй говорит дальше, что "человек бесконечно богат, не имея стоимости, если он может за ничто получить все предметы, которых он желает"; в другой же раз нам говорят, что "богатство состоит не в самих продуктах, ибо они не представляют богатства, если они не имеют стоимости, а в их стоимости" (т. II, стр. 2)">. Глава 21. Влияние накопления на прибыль и процент
Мы уже показали выше на основе анализа прибыли, получаемой с капитала, что накопление последнего не может надолго понизить прибыль, если при этом не существует какой-либо постоянной причины, вызывающей повышение заработной платы. Если бы фонды на содержание труда удвоились, утроились или учетверились, то было бы нетрудно найти требуемое количество рук, которые могли бы быть использованы с помощью этих фондов. Но вследствие возрастающей трудности увеличивать постоянно количество пищевых продуктов страны фонды, имеющие ту же стоимость, вероятно, не будут уже достаточны для содержания того же количества труда. Если бы количество предметов жизненной необходимости для рабочего могло возрастать с той же самой лёгкостью, то, в каких бы размерах ни происходило накопление капитала, нормы прибыли или заработной платы не подвергались бы постоянным изменениям. Однако Адам Смит не обращает никакого внимания на возрастающую трудность добывания пищи для добавочного числа рабочих, занимаемых добавочным капиталом, и неизменно приписывает падение прибыли накоплению капитала и возникающей отсюда конкуренции. "Возрастание капитала, - говорит он, - увеличивающее заработную плату, ведёт к понижению прибыли. Когда капиталы многих богатых купцов вкладываются в одну и ту же отрасль торговли, их взаимная конкуренция, естественно, ведёт к понижению их прибылей; а когда во всех отраслях торговли данного общества происходит такое же увеличение капитала, та же конкуренция должна произвести подобное действие во всех отраслях" <Адам Смит, Исследование о природе и причинах богатства народов, т. I, стр. 80. - Прим. ред.>. Адам Смит говорит в этом месте о росте заработной платы, но рост этот - временный, вызываемый тем, что фонды на содержание труда возросли раньше, чем увеличилось население. Он, повидимому, не замечает, что в то самое время, когда возрос капитал, возросла в том же самом отношении работа, выполняемая капиталом. Однако г-н Сэй доказал весьма удовлетворительно, что нет такой суммы капитала, которая не могла бы найти себе применения в стране, потому что спрос ограничивается только производством. Каждый человек производит только для продажи или для потребления, и он продаёт всегда только с целью купить какой-нибудь другой товар, который мог бы быть ему непосредственно полезен или мог бы способствовать будущему производству. Таким образом, всякий производитель необходимо становится или потребителем собственных товаров, или покупателем и потребителем товаров какого-нибудь другого производителя. Нельзя предположить, что он будет в течение долгого времени плохо осведомлён о том, какие товары он может производить с наибольшей выгодой для того, чтобы достичь своей цели, а именно: приобрести другие товары. Мало вероятно поэтому, чтобы он продолжал производить товар, на который нет спроса <Адам Смит указывает на пример Голландии, где произошло падение прибыли вследствие накопления капитала и переполнения им всех отраслей промышленности. "Правительство занимает деньги из 2%, а частные лица, пользующиеся прочным кредитом, из 3%". (См. Адам Смит, Исследование о природе и причинах богатства народов, т. I, стр. 83.) Но следует помнить, что Голландия вынуждена ввозить почти весь хлеб, потребляемый ею, и что вследствие обложения тяжёлыми налогами предметов насущной необходимости для рабочего заработная плата там очень высока. Одни эти факты вполне достаточно объясняют низкую норму прибыли и процента в Голландии>. Невозможно, следовательно, чтобы капитал, накопленный в любых размерах в данной стране, не мог быть применён в ней производительно до тех пор, пока заработная плата не повысится вследствие роста цен на предметы необходимости в такой сильной степени и для прибыли с капитала не останется так мало, что исчезнет всякое побуждение к накоплению <Не противоречит ли следующее положение г-на Сэя его же собственной теории: "Чем обильнее свободные капиталы в сравнении с возможностью найти для них применение, тем больше падает норма процента на ссужаемый капитал" (т. II, стр. 108). Если любая сумма капитала может найти для себя в стране применение, то можно ли сказать, что в стране слишком много капиталов в сравнении с возможностью найти для них применение?>. Пока прибыль с капитала высока, существует и побуждение к накоплению. Пока человек не удовлетворил ещё вполне все свои потребности, спрос, предъявляемый им на товары, будет всё ещё расти. И спрос этот будет платёжеспособным, пока он может предложить в обмен за них какую-нибудь новую стоимость. Если человеку, имеющему 100 тыс. ф. ст., дадут ещё 10 тыс. ф. ст. в год, то он не спрячет их в сундук: он или увеличит свои расходы на 10 тыс. ф. ст., или употребит их производительно, или, наконец, отдаст их для той же цели кому-нибудь другому взаймы. И в том и в другом случае спрос возрастёт, хотя и на различные предметы. Если бы он увеличил свои расходы, то его платёжеспособный спрос, вероятно, направился бы на такие предметы, как дома, мебель или какие-нибудь другие предметы комфорта. Но если бы он употребил свои 10 тыс. ф. ст. производительно, то его платёжеспособный спрос направился бы на предметы пищи, одежду и сырой материал, с помощью которых новые рабочие могли бы взяться за работу. Это опять-таки создаст спрос. <Адам Смит говорит: "Когда продукт какой-либо отдельной отрасли промышленности превышает спрос страны на него, избыток должен отправляться за границу и обмениваться на другие товары, на которые в данной стране имеется спрос. Без такого вывоза должна быть приостановлена часть производительного труда страны, и стоимость годового продукта страны уменьшится. Земля и труд Великобритании производят обычно больше хлеба, шерстяных и металлических изделий, чем это требуется существующим на её внутреннем рынке спросом. Поэтому избыток их должен отправляться за границу и обмениваться на какие-либо товары, требующиеся внутри страны. Только посредством такого вывоза этот избыток может приобрести стоимость, достаточную для оплаты труда и издержек, затраченных на его производство". [Адам Смит, Исследование о природе и причинах богатства народов, т. I, стр. 315.] Цитированное место заставляет думать, что, по мнению Адама Смита, мы почему-то поставлены в необходимость производить излишек хлеба, шерстяных и металлических изделий и что капитал, произведший эти товары, не мог бы найти другого применения. Но в действительности только от нас зависит выбор способа употребления капитала, и поэтому никакой товар не может быть излишним в течение сколько-нибудь продолжительного времени. В противном случае цена его упала бы ниже своей естественной цены, и капитал переместился бы в более прибыльное занятие. Ни один экономист не показал так удовлетворительно и дельно, как Адам Смит, что капитал имеет всегда тенденцию уходить из таких отраслей промышленности, в которых цена произведённых товаров не оплачивает всех издержек производства и доставки на рынок, включая обычную прибыль>. Продукты всегда покупаются за продукты или услуги; деньги служат только мерилом, при помощи которого совершается этот обмен. Какой-нибудь отдельный товар может быть произведён в излишнем количестве, и рынок будет до такой степени переполнен, что не будет даже возмещён капитал, затраченный на этот товар. Но это не может случиться одновременно со всеми товарами. Спрос на хлеб ограничивается числом ртов, которые должны есть его, спрос на башмаки и сюртуки - числом лиц, которые будут их носить. Правда, общество - или часть общества - могло бы иметь столько хлеба и столько шляп и башмаков, сколько оно может или желает потребить. Но этого нельзя сказать о всех товарах, производимых природой или искусством человека. Некоторые потребляли бы большее количество вина, если бы они имели средства на приобретение его. Другие, у которых имеется достаточно вина, хотели бы увеличить количество или улучшить качество своей мебели. Третьи, наконец, желали бы украсить свои парки или расширить свои дома. Желание сделать всё это или что-нибудь подобное присуще всякому человеку; для этого требуются лишь средства, а эти средства могут быть доставлены только ростом производства. Если бы в моём распоряжении были пища и предметы первой необходимости, я не долго испытывал бы нужду в рабочих, которые доставили бы мне некоторые из предметов, наиболее полезные или наиболее желательные мне. Понизится ли прибыль вследствие роста производства и вызванного этим расширения спроса или нет, зависит исключительно от роста заработной платы, а повышение последней, за исключением короткого периода, зависит от лёгкости производства предметов пищи и жизненной необходимости. Я говорю: за исключением короткого периода, потому что трудно найти лучше доказанное положение, чем то, что предложение рабочих всегда в конце концов будет пропорционально имеющимся средствам на их содержание. Есть только один случай, да и тот временный, в котором накопление капитала при низкой цене пищевых продуктов может привести к падению прибыли. Это бывает тогда, когда фонды на содержание труда возрастают гораздо быстрее, чем население: заработная плата в этом случае будет высока, а прибыль низка. Если бы каждый человек отказался от потребления предметов роскоши и думал только о накоплении, то возможно, что было бы произведено такое количество предметов насущной необходимости, которое не могло бы немедленно найти потребителей. За этим, несомненно, могло бы последовать общее переполнение рынка товарами, число которых ограничено, и, значит, могло бы не быть спроса на добавочное количество их, а применение дополнительного капитала не дало бы прибыли. Если бы люди перестали потреблять, они перестали бы производить. Это допущение не опровергает общего принципа. Трудно предположить, что в такой стране, например, как Англия, имеется стремление посвятить весь капитал и труд страны на производство одних только предметов насущной необходимости. Если купцы вкладывают свои капиталы во внешнюю торговлю или транспорт, то они поступают так не в силу необходимости, а в силу свободного выбора; они делают это потому, что прибыль в этой отрасли торговли несколько выше, чем во внутренней. Адам Смит справедливо заметил: "Стремление к пище ограничивается у каждого человека небольшой вместимостью человеческого желудка, но стремление к удобствам и украшению жилища, одежды, домашней обстановки и утвари не имеет, невидимому, предела или определённых границ" <Адам Смит, Исследование о природе и причинах богатства народов, т. I, стр. 148. - Прим. ред.>. Поэтому природа неизбежно ограничивает размеры капитала, который может быть с выгодой затрачен на земледелие, но она не поставила никаких границ размерам капитала, который может быть затрачен на производство предметов "удобства и украшения" жизни. Доставить себе максимальное количество этих удобств - вот цель, которая имеется в виду. И только потому, что внешняя торговля или транзит приводят к этой цели скорее, люди предпочитают заниматься ими, а не производством требуемых товаров или их заменителей в самой стране. Но если какие-нибудь особенные обстоятельства помешают нам вложить капитал во внешнюю торговлю или транзит, мы должны будем, хотя и с меньшей выгодой, найти ему употребление внутри страны. А так как "стремление к удобствам и украшению жилища, одежды" не знает никаких границ, то и размеры капитала, который может быть затрачен на их производство, не знают никаких других пределов, кроме тех, которые ставятся размерами наших средств на содержание рабочих, производящих эти предметы. Но Адам Смит говорит о транзите не как о деле свободного выбора, а как о необходимости; как будто капитал, который не был вложен в него, остался бы иначе без применения, как будто капитал, вложенный во внутреннюю торговлю, мог бы переполнить её каналы, если бы количество его не было ограничено известными размерами. Он замечает: "Когда масса капиталов в какой-либо стране возрастает до таких размеров, что они не могут быть целиком использованы в области обслуживания потребления и поддержки производительного труда этой страны, избыточная часть их, естественно, отливает в транзитную торговлю и употребляется для выполнения таких же функций в интересах других стран". "Около 96 тысяч бочек табаку покупается ежегодно в Виргинии и Мэриленде на часть избыточного продукта британской промышленности. Но спрос на табак в Великобритании не требует, может быть, более 14 тыс. бочек. Поэтому, если бы нельзя было переотправлять остающиеся 82 тыс. бочек за границу и обменять на такие товары, на которые имеется большой спрос внутри страны, то должен немедленно прекратиться ввоз табаку, а вместе с этим должен остановиться производительный труд всех тех жителей Великобритании, которые в настоящее время заняты изготовлением товаров, на какие ежегодно приобретаются эти 82 тыс. бочек табаку" <Адам Смит, Исследование о природе и причинах богатства народов, т. I, стр. 315-316. - Прим. ред.>. Но разве эта часть производительного труда Великобритании не могла быть затрачена на производство какого-нибудь другого товара, на который можно было бы купить что-нибудь, на что в стране имеется большой спрос? А если бы это было невозможно, то разве мы не могли бы употребить этот производительный труд, хотя бы и с меньшей выгодой, на производство товаров, на которые имеется спрос в стране, или по крайней мере их заменителей? Если бы мы нуждались в бархате, то разве мы не могли бы попробовать сами заняться его производством? А если бы нам это не удалось, то разве мы не могли бы производить больше сукна или других предметов, на которые существует спрос? Мы производим товары и покупаем на них товары за границей, потому что мы можем этим путём получить более значительное количество таких товаров, чем если бы мы производили их внутри страны. Отнимите у нас эту торговлю, и мы, несомненно, начнём опять производить их для себя. Но приведённое мнение Адама Смита противоречит всему его учению об этом предмете. "Если какая-либо чужая страна может снабжать нас каким-нибудь товаром по более дешёвой цене, чем мы сами в состоянии изготовлять его, гораздо лучше покупать его у неё на некоторую часть продукта нашего собственного промышленного труда, прилагаемого в той области, в которой мы обладаем некоторым преимуществом. Общая сумма промышленного труда страны, будучи всегда пропорциональна капиталу, который пользуется им, от этого не уменьшится... ему придётся лишь искать область, в которой он может быть употреблён с наибольшей выгодой" <Адам Смит, Исследование о природе и причинах богатства народов, т. II, стр. 33. - Прим. ред.>. И снова: "Поэтому те, кто обладает большим количеством пищи, чем могут сами потребить, всегда готовы обменять излишек её или, что то же самое, цену его на удовлетворение указанных потребностей другого рода. Всё то, что остаётся после удовлетворения потребностей, имеющих определённую границу, затрачивается на удовлетворение тех потребностей, которые не могут быть полностью удовлетворены, а кажутся вообще не имеющими границ. Бедняк для того, чтобы добыть пищу, изощряется в удовлетворении этих прихотей богатых; и для того, чтобы добыть её наверняка, он соперничает с другими такими же бедняками в дешевизне и совершенстве своего труда. Число работников возрастает вместе с возрастанием количества пищи или с развитием улучшения и обработки земель; и так как самая природа их занятия допускает величайшее разделение труда, то количество материала, которое они могут обработать, возрастает в ещё большей степени, чем число самих работников. Отсюда возникает спрос на материалы всякого рода, какие только в состоянии употреблять человеческая изобретательность в полезных целях или для украшения, в строительстве, в одежде, в нарядах или домашней обстановке и утвари; спрос на ископаемые и минералы, содержащиеся в недрах земли, на драгоценные металлы и драгоценные камни" <Адам Смит, Исследование о природе и причинах богатства народов, т. I, стр. 148-149. - Прим. ред.>. [Из этих допущений следует, что нет никаких границ для спроса на капитал - для его применения до тех пор, пока он приносит какую-нибудь прибыль, и что, в каком бы изобилии ни имелся капитал, единственной подлинной причиной падения прибыли является повышение заработной платы. Следует прибавить ещё, что единственной достаточной и подлинной причиной повышения заработной платы является возрастающая трудность добывания пищи и предметов жизненной необходимости для возросшего числа рабочих.] <Вставка во втором и третьем изданиях. - Прим. ред.> Адам Смит справедливо заметил, что в высшей степени трудно определить норму прибыли с капитала. "Прибыль так сильно колеблется, что человек, ведущий какое-нибудь торговое дело, не всегда может сам сказать вам, какова в среднем его годовая прибыль... Установить, какова средняя прибыль всех различных отраслей торговли, существующих в обширном королевстве, должно быть много труднее, а судить с некоторой степенью точности о том, какова она могла быть раньше или в отдалённые от нас периоды, должно быть вообще невозможно" <Адам Смит, Исследование о природе и причинах богатства народов, т. I, стр. 80. - Прим. ред.>. Но так как очевидно, что за пользование деньгами будут платить тем больше, чем больше можно сделать с помощью этих денег, то он полагает, что "рыночная норма процента может дать нам некоторое понятие о норме прибыли, а история движения процента может дать нам понятие об истории движения прибыли". Несомненно, если бы мы знали в точности размеры рыночной нормы процента за какой-либо значительный период времени, мы имели бы достаточно верный критерий для того, чтобы установить пути движения прибыли. Но во всех странах правительство, руководясь ошибочными принципами политики, вмешивалось в этот процесс. Оно мешало установлению справедливой и свободной рыночной нормы процента, налагая тяжёлые и разорительные штрафы на всех, кто взимал более высокий процент, чем установленный законами. Во всех странах такие законы, вероятно, обходились, но сохранившиеся записи дают нам очень мало сведений об этом предмете, они скорее отмечают законный и постоянный процент, чем его рыночную норму. В продолжение последней воины учёт кредитных обязательств казначейства и морского ведомства часто производился из такого высокого процента, что давал их покупателям 7, 8 или даже ещё более высокий процент на затраченные деньги. Правительство заключало займы более чем из 6%, а частные лица бывали зачастую вынуждены, пользуясь всякими обходными путями, платить более 10% по своим займам. А между тем в течение всего этого периода законная норма процента всё время составляла неизменно 5. Мало достоверны, следовательно, данные о том, что считается законным и постоянным процентом, раз он так сильно отличается от рыночной нормы. Адам Смит сообщает нам, что, начиная с 37-го года царствования Генриха VIII и вплоть до 21-го года царствования Якова I, законную норму процента составляли 10. Вскоре после реставрации она понизилась до 6%, а в 12-й год царствования Анны упала до 5%. Он предполагает, что законная норма следовала за рыночной, а не наоборот. До американской войны английское правительство заключало займы из 3%, а люди кредитоспособные могли иметь деньги как в столице, так и во многих других частях королевства из 3 1/2, 4 и 4 1/2 % <См. Адам Смит, Исследование о природе и причинах богатства народов, т. I, стр. 81. - Прим. ред.>. Но хотя норма процента всегда регулируется в конечном счёте нормой прибыли, она подвержена, однако, временным колебаниям ещё и в силу других причин. С каждым колебанием количества и стоимости денег изменяются, естественно, и цены товаров. Как мы уже показали раньше, они изменяются также вследствие изменений в соотношении спроса и предложения, хотя бы при этом трудность производства не увеличилась и не уменьшилась. Когда рыночные цены падают вследствие роста предложения, вследствие уменьшения спроса или вследствие повышения стоимости денег, фабрикант, естественно, скопляет у себя необычное количество готовых товаров, так как он не желает продавать их по слишком низким ценам. И вот, чтобы заплатить по векселям, которые он прежде покрывал продажей товаров, он прибегает к кредиту, за который ему приходится давать возросшую норму процента. Однако это только временное явление: или расчёты фабриканта были основательны, и рыночная цена его товаров опять поднимается, или он убеждается, что уменьшение спроса будет продолжаться, и он уже больше не борется с ходом торговых дел. Тогда цены падают, и деньги, точно так же как и проценты, возвращаются снова к своей действительной стоимости. Если вследствие открытия нового рудника, злоупотреблений банков или в силу какой-нибудь другой причины количество денег значительно возрастает, то в результате этого процесса цены товаров повысятся пропорционально возросшему количеству денег. Но при этом, вероятно, имеется всегда промежуток времени, в течение которого норма процента также испытывает некоторое изменение. Курс государственных займов не может служить постоянным критерием для определения нормы процента. Во время войны фондовый рынок настолько обременяется непрерывными займами правительства, что курсы ценных бумаг не имеют достаточно времени для стабилизации на надлежащем уровне, так как каждая новая кредитная операция или ожидание политических осложнений колеблют их курс. Напротив, в мирное время операции фонда погашения и нежелание известного разряда лиц переместить свои средства в новое дело, отказавшись от старого, - к которому они привыкли и считают верным и при котором они получают свои дивиденды в высшей степени регулярно, - приводит к повышению курса ценных бумаг и, следовательно, понижает процент на них ниже уровня его общей рыночной нормы. Кроме того, следует заметить, что правительство платит неодинаковый процент за разные ценные бумаги. В то время как капитал в 100 ф. ст. в пятипроцентных бумагах продаётся за 95 ф. ст., билет казначейства в 100 ф. ст. иногда продаётся за 100 ф. ст. 5 шилл., хотя последний приносит в год не больше 4 ф. ст. 11 шилл. 3 пенс. Одна бумага приносит её покупателю при указанных ценах более 5 1/4 %, а другая - лишь немного более 4 1/4 %. Дело в том, что банкиры предъявляют спрос на известное количество билетов казначейства, как на верное и легко реализуемое помещение для денег. Но если бы это количество билетов казначейства значительно превысило спрос на них, они подверглись бы такому же обесценению, как и пятипроцентные бумаги. Бумага, приносящая ежегодно 3 %, будет всегда продаваться по относительно более высокой цене, чем пятипроцентная, потому что капитальная сумма долга и той и другой может быть уплачена только al pari, т. е. по 100 ф. ст. монетой за 100 ф. ст. в бумагах. Рыночная норма процента может упасть до 4, и правительство уплатит тогда держателю пятипроцентных бумаг его капитал по паритету, если только он не согласится получать 4% при норме процента, упавшей несколько ниже 5. Но правительству было бы невыгодно поступить так по отношению к держателю трёхпроцентных бумаг до тех пор, пока рыночная норма процента не упала ниже 3. Для уплаты процентов по национальному долгу четыре раза в год из обращения извлекаются на несколько дней огромные суммы денег. Но так как этот спрос на деньги является только временным, то он редко затрагивает цены. Обыкновенно он удовлетворяется путём уплаты высокой нормы процента. <"Государственные займы всякого рода, - замечает г-н Сэй, - сопровождаются неудобствами в том отношении, что они отвлекают капитал или части капитала от производительного использования, чтобы посвятить его потреблению; если же они заключаются в стране, правительство которой не внушает большого доверия, они, кроме того, влекут за собою и такое неудобство, как повышение процента на капитал. Кто согласится ссужать свой капитал сельскому хозяину, фабриканту или торговцу из 5%, когда он может найти заёмщика, который готов ему платить 7 или 8%? Таким образом, тот вид дохода, который называется прибылью на капитал, увеличился бы в ущерб потребителям. Повышение цены продуктов сократило бы их потребление. Кроме того, понизился бы спрос на другие производительные услуги, и они оплачивались бы хуже. Вся нация, за исключением капиталистов, пострадала бы при таком положении вещей". На вопрос: "Кто согласится ссужать свой капитал сельскому хозяину, фабриканту или торговцу из 5%, когда он может найти заёмщика, который готов ему платить 7 пли 8%", я отвечаю, что согласится всякий благоразумный и рассудительный человек. Если норма процента составляет там, где заимодавец рискует очень сильно, 7 или 8, то почему эта норма должна быть так же высока в тех местах, где такого риска нет? Г-н Сэй допускает, что норма процента зависит от нормы прибыли, но из этого ещё не следует, что норма прибыли зависит от нормы процента. Первая является причиной, вторая - следствием, и никакие обстоятельства не могут заставить их поменяться местами.> Глава 22. Премии за вывоз и запрещение ввоза
Премия за вывоз хлеба имеет тенденцию понижать его цену для иностранного потребителя, но она не оказывает постоянного действия на цену его на внутреннем рынке. Предположим, что цена хлеба, при которой на капитал получается обычная средняя прибыль, должна составлять в Англии 4 ф. ст. за квартер. В этом случае невозможно было бы вывозить хлеб в чужие страны, где он продаётся по 3 ф. ст. 15 шилл. за квартер. Но если бы за вывоз хлеба выдавалась премия в 10 шилл. с квартера, то хлеб мог бы продаваться на внешнем рынке за 3 ф. ст. 10 шилл. Следовательно, производитель хлеба получит одинаковую прибыль, будет ли он продавать свой хлеб за 3 ф. ст. 10 шилл. на внешнем рынке пли за 4 ф. ст. на внутреннем. Таким образом, премия, которая понизила бы цену, по которой британский хлеб продаётся в чужих странах ниже издержек производства хлеба в этих странах, увеличила бы, конечно, спрос на британский хлеб и уменьшила бы спрос на их собственный хлеб. Такое возрастание спроса на британский хлеб не преминуло бы повысить временно цену его на внутреннем рынке и помешало бы на всё это время падению цены его на внешнем до того уровня, к какому стремится свести его вывозная премия. Но причины, влияющие, таким образом, на рыночную цену хлеба в Англии, не произвели бы никакого действия на его естественную цену или на действительные издержки производства. На производство хлеба не требовалось бы больше капитала или больше труда. Следовательно, если прибыль на капитал фермера до того времени равнялась прибыли на капитал других промышленников, то после повышения цен она поднялась бы значительно выше последней. Повышая прибыль на капитал фермера, премия действует как поощрение земледелия, и поэтому капитал будет извлекаться из обрабатывающей промышленности, чтобы быть вложенным в земледелие, до тех пор, пока не будет удовлетворён увеличившийся спрос для внешнего рынка. Тогда на внутреннем рынке опять установится естественная и необходимая цена хлеба, а прибыль снова вернётся к своему обычному и установившемуся уровню. Возрастание предложения зерна, оказывая своё действие на внешний рынок, понизит также цену зерна в той стране, в которую оно вывозится, и ограничит, следовательно, прибыль экспортёра самой низкой нормой, при которой он только согласится продолжать торговлю. Итак, конечным результатом премии за вывоз хлеба является не повышение или понижение цены его на внутреннем рынке, а понижение цены его для иностранного потребителя. При этом цена может понизиться на всю сумму премии, если она прежде не была ниже на внешнем рынке, чем на внутреннем, и в меньшей степени, если цена хлеба на внутреннем рынке была выше цены его на внешнем. Автор статьи в "Edinburgh Review", т. V, о премиях за вывоз хлеба показал очень ясно, какое влияние они имеют на спрос внутри страны и за границей. Он также справедливо заметил, что они не могут не способствовать развитию земледелия в экспортирующей стране, но он, невидимому, усвоил себе ошибочный взгляд, который уже ввёл в заблуждение д-ра Смита и многих других экономистов, занимавшихся этим предметом. По его мнению, цена хлеба - именно потому, что она в конечном счёте регулирует заработную плату, - регулирует также цену всех товаров. Он говорит: "Повышая прибыль фермеров, премия поощряет развитие сельского хозяйства. Повышая цену хлеба для потребителей внутри страны, она на время уменьшает их покупательную силу по отношению к предметам жизненной необходимости и сокращает, таким образом, их реальное богатство. Очевидно, однако, что последнее действие может быть только временным: заработная плата потребителей-рабочих была уже установлена раньше путём конкуренции; тем же путём будет снова восстановлена старая норма благодаря увеличению денежной цены труда и через её посредство цены всех других товаров в соответствии с денежной ценой хлеба. Следовательно, премия за вывоз в конце концов повысит денежную цену хлеба на внутреннем рынке, но не прямым путём, а через посредство расширившегося спроса на внешнем рынке и последовавшего за этим повышения действительной цены хлеба внутри самой страны. А это повышение денежной цены, как только оно распространится на другие товары, не преминет, конечно, упрочиться". Но если мне удалось показать, что возрастание денежной заработной платы не повышает цены товаров, а только уменьшает всегда прибыль, то из этого следует, что премия никогда не может привести к повышению цен товаров. Но временное повышение цены хлеба, вызванное увеличением заграничного спроса, не произведёт никакого действия на денежную цену [труда] <В первом и втором изданиях - "заработной платы". - Прим. ред.>. Повышение цены хлеба вызывается борьбой за то количество его, которое прежде предназначалось исключительно для внутреннего рынка. Рост прибыли привлекает в земледелие добавочный капитал, и в результате предложение увеличивается. Но, пока это не произойдёт, высокая цена является безусловной необходимостью, чтобы восстановить соотношение между потреблением и предложением, нарушенное повышением заработной платы. Повышение цены хлеба является следствием его скудости и служит в то же время средством для уменьшения спроса со стороны покупателей внутри страны. Если бы заработная плата возросла, увеличилась бы также конкуренция, и дальнейшее повышение цены хлеба опять явилось бы необходимым. В нашем исследовании действия, производимого премией, мы не предполагали какого-либо повышения в естественной цене хлеба, которой в конечном счёте управляется его рыночная цена. Мы не предполагали, что для получения данного количества продукта требуется добавочное количество труда, а между тем только это может вызвать повышение естественной цены хлеба. Если бы естественная цена сукна составляла 20 шилл. за ярд, то большое расширение заграничного спроса могло бы увеличить его цену до 25 шилл. или больше; но прибыль, которую получал бы в этом случае фабрикант сукна, не преминула бы привлечь капитал в производство сукна, и, хотя спрос удвоился, утроился или даже учетверился бы, требуемое количество сукна в конце концов было бы получено, и, следовательно, цена сукна опять упала бы до его естественной цены, т. е. до 20 шилл. за ярд. Так, хотя бы мы ежегодно вывозили 200 тыс., 300 тыс. или 800 тыс. квартеров хлеба, необходимое количество его в конце концов производилось бы по естественной цене, которая изменяется только с изменением количества труда, требующегося для производства хлеба. Быть может, ни одна часть заслуженно знаменитого труда Адама Смита не даёт повода к стольким возражениям, как именно глава о премиях. Во-первых, он говорит о хлебе, как о товаре, производство которого не может увеличиться вследствие премии за вывоз; он неизменно предполагает, что премия действует только на уже произведённое количество хлеба и не служит стимулом к дальнейшему производству. "...В урожайные годы, - говорит он, - премия, вызывая чрезмерный вывоз, необходимо удерживает цену хлеба на внутреннем рынке на более высоком уровне, чем тот, на котором она естественно держалась бы. Достичь этого было признанной целью введения премии. Хотя в неурожайные годы премия часто временно отменяется, однако увеличение вывоза, вызываемое ею в годы урожайные, часто препятствует тому, чтобы изобилие одного года уравновесило скудость другого. Таким образом, как в годы урожайные, так и в годы неурожайные премия неизбежно ведёт к несколько большему повышению денежной цены хлеба на внутреннем рынке, чем это было при отсутствии премии". <В другом месте он говорит: "...Всякое расширение внешнего рынка, обусловленное премией, должно происходить в каждом данном году за счёт внутреннего рынка, так как каждый бушель хлеба, который вывозится благодаря премии и который при её отсутствии не вывозился бы, оставался бы на внутреннем рынке, увеличивая потребление и понижая цену этого продукта. Премия на хлеб, следует заметить, как и всякая другая вывозная премия, налагает на народ два различных налога: во-первых, налог, который он вынужден вносить, чтобы выплачивать премию, и, во-вторых, налог, который порождается высокой ценой этого продукта на внутреннем рынке и который, поскольку вся масса народа является покупателем хлеба, должен быть оплачиваем при покупке этого продукта всем народом. Таким образом, этот второй налог, уплачиваемый на этом особом товаре, гораздо тяжелее первого". "Следовательно, на каждые 5 шилл., вносимые народом на уплату первого налога, он должен затрачивать 6 фунтов 4 шиллинга на уплату второго". "Таким образом, чрезмерный вывоз хлеба, вызываемый премией, не только в каждом отдельном году уменьшает внутренний рынок и потребление ровно настолько, насколько расширяет внешний, но, сокращая население и промышленность страны, cвоей конечной тенденцией имеет остановку роста и задержку постепенного расширения внутреннего рынка, а потому, в конечном счёте, скорее уменьшение, чем увеличение общего рынка и потребления хлеба". [Адам Смит, Исследование о природе и причинах богатства народов, т. II, стр. 77, 78.]>. Адам Смит, повидимому, прекрасно знал, что правильность его аргументации всецело зависит от того, будет ли повышение "денежной цены хлеба, делая этот товар более выгодным для фермера... необходимо поощрять его производство. На это я возражаю, - говорит он, - что это было бы так, если бы следствием премии являлось повышение действительной цены хлеба или предоставление фермеру возможности содержать на прежнее количество хлеба большее число рабочих таким же образом (более щедро, умеренно или скудно), как обычно содержатся в его местности остальные рабочие" <Адам Смит, Исследование о природе и причинах богатства народов, т. II. стр. 78. - Прим. ред.>. Если бы рабочий не потреблял ничего, кроме хлеба, и если бы его доля хлеба была наименьшей, требующейся для поддержания его жизни, то мы имели бы некоторые основания предполагать, что количество, уплачиваемое рабочему, ни при каких условиях не может быть уменьшено. Но на самом деле денежная заработная плата иногда совсем не повышается и никогда не повышается прямо пропорционально денежной цене хлеба, потому что хлеб составляет, правда, важный, но всё же не единственный предмет потребления рабочего. Предположим, что одна половина заработной платы тратится на хлеб, а другая - на мыло, свечи, топливо, чай, сахар, одежду и т. д., т. е. на такие товары, цена которых, по нашему предположению, не повысилась; тогда рабочий будет, очевидно, одинаково хорошо оплачиваться, получая l 1/2 бушеля пшеницы при цене её в 16 шилл. за бушель или 2 бушеля при цене в 8 шилл. за бушель, получая деньгами 24 шилл. или, как прежде, 16 шилл. Его заработная плата возросла бы только на 50%, хотя цена хлеба увеличилась на 100%. А это было бы вполне достаточным побуждением для привлечения большего капитала к обработке земли при условии, что прибыль в других отраслях промышленности остаётся на том же уровне. Но такое повышение заработной платы побудило бы также фабрикантов извлечь свои капиталы из обрабатывающей промышленности и употребить их на обработку земли. В то время как фермер поднял бы цену своих продуктов на 100%, а заработную плату только на 50, фабрикант был бы также вынужден повысить заработную плату на 50%, но за это увеличение издержек производства он не получил бы никакого вознаграждения в форме повышения цены его изделий. Вследствие этого капитал начнёт приливать из обрабатывающей промышленности в земледелие до тех пор, пока предложение не понизит опять цену хлеба до 8 шилл. за бушель, а заработную плату до 16 шилл. в неделю. Тогда фабрикант будет получать такую же прибыль, как и фермер, и передвижение капитала из одной отрасли в другую прекратится. Именно так происходит всегда расширение земледелия и удовлетворяются возросшие нужды рынка. Фонд на содержание труда возрастает, и заработная плата поднимается. Благоприятное положение рабочего стимулирует браки, население увеличивается, и спрос на хлеб поднимает его цену в сравнении с другими товарами. Растёт капитал, выгодно применяемый в земледелии; он продолжает приливать сюда до тех пор, пока предложение не сравняется со спросом, цены опять не упадут, а прибыль в обрабатывающей промышленности не поднимется опять до одного уровня с прибылью в земледелии. Сохранит ли заработная плата после повышения цены хлеба свои прежние размеры, поднимется ли она слегка или очень сильно, это не имеет в данном случае никакого значения, потому что заработная плата выдаётся одинаково и фабрикантом и фермером. Следовательно, в этом отношении повышение цены хлеба одинаково затрагивает и того и другого. Но совершенно иначе отражается это повышение на их прибыли: фермер продаёт свой товар по повышенной цене, тогда как фабрикант продаёт свои изделия по старой пене. А между тем именно различие в норме прибыли является всегда стимулом к передвижению капитала из одного занятия в другое. Вот почему будет производиться больше хлеба и меньше промышленных изделий. Цена последних не будет увеличиваться, потому что производство их уменьшится: известное количество их будет ведь получаться в обмен за вывозимый хлеб. Если премия увеличивает цену хлеба, то она или повышает сё в сравнении с ценами других товаров, или не повышает. В первом случае нельзя отрицать, что прибыль фермера значительно повысится и что капитал будет приливать в земледелие, пока цена хлеба не понизится снова вследствие обильного предложения. Но если премия не повышает цены хлеба в сравнении с ценами других товаров, то какой убыток терпит отечественный потребитель, кроме неудобства, которое сопряжено с уплатой налога? Если фабрикант платит более высокую цену за свой хлеб, то он получает вознаграждение в повышенной цене, по которой он продаёт свой товар, а за этот товар он в конце концов покупает свой хлеб. Ошибка Адама Смита вытекает из того же самого источника, что и ошибка автора статьи в "Edinburgh Review". Оба они одинаково думают, что "денежная цена хлеба определяет цену всех других товаров внутреннего производства" <Того же взгляда придерживается и г-н Сэй (т. II, стр. 335)>. "Она определяет, - говорит Адам Смит, - денежную цену труда, которая всегда должна быть такова, чтобы давать возможность рабочему покупать количество хлеба, достаточное для содержания его самого и его семьи в изобилии, умеренности или скудости, в зависимости от того, находится ли общество в состоянии процветания, застоя или упадка... Но, определяя денежную цену всех других видов сырого продукта земли, она вместе с тем определяет и цену материалов почти всех мануфактурных изделий. Определяя денежную цену труда, она определяет цену мануфактурного труда и искусства, а определяя их, она определяет денежную цену готового мануфактурного изделия. Денежная цена труда и всего того, что представляет собою продукт земли или труда, должна неизбежно повышаться или понижаться соответственно повышению или понижению денежной цены хлеба" <Адам Смит, Исследование о природе и причинах богатства народов, т. II, стр. 79. - Прим. ред.>. Я уже прежде пытался опровергнуть это мнение Адама Смита. Считая повышение цен товаров необходимым последствием повышения цены хлеба, он рассуждает так, как будто нет другого фонда, из которого может быть уплачена эта прибавка к цене. Он совершенно пренебрёг исследованием прибыли, а между тем именно за счёт прибыли, без повышения цены товаров, и образуется этот фонд. Если бы мнение д-ра Смита было вполне обосновано, то прибыль никогда не могла бы понизиться в действительности, каково бы ни было накопление капитала. Если при повышении заработной платы фермер может повысить цену своего хлеба, если фабриканты сукна, шляп, обуви и все другие фабриканты могут также повысить цены своих товаров пропорционально повышению заработной платы, то даже при увеличении денежной цены всех этих товаров их относительная стоимость продолжала бы оставаться неизменной. Представитель каждой из этих отраслей промышленности получил бы такое же количество товаров, произведённых в других отраслях, как и прежде. А именно это обстоятельство больше всего интересует их, так как не деньги, а товары составляют богатство. Таким образом, повышение цен сырых материалов и других товаров было бы убыточно только для тех лиц, имущество которых состоит из золота и серебра, или тех, кто получает свой ежегодный доход в виде определённого количества этих металлов в форме слитков или монеты. Предположим, что люди отказались от употребления денег и что вся торговля совершается путём непосредственного обмена. Может ли при таких обстоятельствах меновая стоимость хлеба подняться по отношению к другим предметам? Если может, то неверно, что стоимость хлеба регулирует стоимость всех других товаров, так как для этого необходимо, чтобы его относительная стоимость не изменялась. Если не может, то мы имеем право утверждать, что независимо от того, получается ли хлеб с плодородной или с тощей земли, при помощи большого количества труда или малого, при помощи машин или без них, он всегда будет обмениваться на одинаковое количество всех других товаров. Я не могу, однако, не отметить, что, хотя общее учение Адама Смита находится в полном согласии с только что цитированным местом, в одной из частей своего труда он всё же характеризует правильно природу стоимости. "Соотношение между стоимостью золота и серебра и стоимостью товаров всякого рода зависит во всех случаях... - говорит он, - от соотношения между количеством труда, необходимого для доставления определённого количества золота и серебра на рынок, и количеством труда, нужного для того, чтобы доставить туда же определённое количество того или иного рода товаров" <Адам Смит, Исследование о природе и причинах богатства народов, т. I, стр. 277. - Прим. ред.>. Разве он не признаёт в этом месте полностью, что при увеличении количества труда, необходимого для доставки на рынок товаров одного рода, и неизменном количестве труда, необходимого для доставки туда же товаров другого рода, относительная стоимость первого товара возрастает? Если для доставки на рынок сукна или золота требовалось бы не больше труда, чем прежде, то их относительная стоимость не изменилась бы, но если бы для доставки на рынок хлеба и обуви потребовалось больше труда, то разве не изменилась бы стоимость хлеба и обуви по отношению к сукну и золотой монете? Адам Смит полагает опять-таки, что следствием вывозной премии явится также частичное понижение стоимости денег. "Уменьшение стоимости серебра, - говорит он, - которое является результатом богатства рудников и которое действует равномерно или почти равномерно в большей части торгового мира, весьма мало задевает каждую отдельную страну. Обусловливаемое им повышение всех денежных цен, хотя и не делает в действительности более богатыми тех, кто получает их, но и не делает их в действительности более бедными. Серебряный сервиз становится действительно более дешёвым, а все остальные предметы обладают той же точно действительной стоимостью, какою обладали и до того" <Адам Смит, Исследование о природе и причинах богатства народов, т. II, стр. 79-80. - Прим. ред.>. Это замечание в высшей степени правильно. "Но такое уменьшение стоимости серебра, которое, будучи результатом особого положения или политических учреждений отдельной страны, происходит только в этой стране, имеет очень большое значение и, далеко не делая кого-либо действительно богаче, делает каждого действительно более бедным. Повышение денежной цены всех товаров, которое в таком случае характерно для этой страны, имеет тенденцию более или менее задерживать развитие всех отраслей промышленности, существующих в ней, и давать другим нациям возможность конкурировать с ними не только на внешнем, но даже и на её внутреннем рынке, поскольку они могут доставлять почти все виды товаров в обмен на меньшее количество серебра, чем могут это делать её собственные производители" <Там же, стр. 80. - Прим. ред.>. В другом месте я уже пытался показать, что частичное понижение стоимости денег, которое затронуло бы одинаково сельскохозяйственные продукты и промышленные изделия, не может быть продолжительным. Сказать, что деньги в этом смысле потеряли часть своей стоимости, значит сказать, что все товары продаются по высоким ценам. Но так как золото и серебро могут без всяких препятствий употребляться для покупок на самом дешёвом рынке, то они будут вывозиться в обмен на более дешёвые товары других стран, а затем уменьшение их количества повлечёт за собой повышение их стоимости внутри страны. Тогда цены товаров вернутся к своему обычному уровню и товары, приспособленные для внешнего рынка, начнут вывозиться, как и прежде. Я думаю поэтому, что на этом основании нельзя возражать против премий. Итак, если премия повышает цену хлеба в сравнении со всеми другими предметами, то фермер будет получать больше прибыли, и в обработку начнут поступать новые участки земли; но если премия не повышает стоимости хлеба в сравнении с другими предметами, то она не будет сопровождаться никаким другим неудобством, кроме необходимости платить её, - неудобством, значение которого я не желаю ни отрицать, ни уменьшать. Д-р Смит констатирует, что "наши землевладельцы, вводя высокие пошлины на ввозимый иностранный хлеб, которые в годы среднего урожая равносильны запрещению ввоза, и устанавливая премию, подражали, повидимому, поведению владельцев наших мануфактур" <Адам Смит, Исследование о природе и причинах богатства народов, т. II, стр. 83. - Прим. ред.>. И те и другие одинаково старались повысить стоимость своих товаров с помощью одних и тех же средств. Но землевладельцы "вероятно, не обратили внимания на большое и существенное различие, самой природой установленное между хлебом и почти всеми другими товарами. Когда посредством монополии на внутреннем рынке или вывозной премии вы даёте владельцам наших шерстяных или полотняных мануфактур возможность продавать их товары по несколько более высокой цене, чем они могли бы без этого получить за них, вы повышаете не только номинальную, но и действительную цену этих товаров... Вы увеличиваете не только номинальную, но и действительную прибыль, действительное богатство и доход этих владельцев мануфактур... Вы оказываете этим владельцам мануфактур действительное поощрение и направляете к ним большее количество труда страны, чем это, вероятно, было бы при естественном ходе вещей. Но когда посредством таких же мероприятий вы повышаете номинальную или денежную цену хлеба, вы не повышаете его действительную стоимость - вы не увеличиваете действительное богатство, действительный доход наших фермеров или землевладельцев, вы не поощряете производства хлеба... По самой природе вещей, хлеб имеет определённую действительную стоимость, которая не может быть изменена одним лишь изменением его денежной цены... Во всём мире стоимость эта равна количеству труда, которому она может дать содержание" <Там же, стр. 83-84. - Прим. ред.>. Я уже старался показать, что рыночная цена хлеба будет вследствие возрастания спроса под влиянием премии выше его естественной цены до тех пор, пока не будет получено требуемое добавочное количество, и что тогда она опять сравняется с естественной ценой. Но естественная цена хлеба устанавливается иначе, чем естественная цена товаров, так как при большом добавочном спросе на хлеб придётся обратиться к обработке земли худшего качества и затратить для получения данного количества продукта больше труда, чем прежде. В результате естественная цена хлеба поднимется. Следовательно, при постоянной премии за вывоз хлеба создаётся тенденция к постоянному повышению его цены, а это, как я уже показал прежде <См. главу "О ренте">, не преминет повысить ренту. Вот почему землевладельцы не только временно, но и постоянно заинтересованы в запрещении ввоза хлеба и в премиях за вывоз его. Что же касается фабрикантов, то они только временно заинтересованы в введении высоких ввозных пошлин и премий за вывоз товаров. Несомненно, что премия за вывоз промышленных изделий повысит на время, как думает и Адам Смит, их рыночную цену, но она не окажет никакого влияния на их естественную цену. Труд 200 человек произведёт в два раза больше товаров, чем прежде труд 100 человек. Поэтому, когда будет затрачено количество капитала, требуемое для производства добавочного количества промышленных изделий, цена последних опять сравняется с их естественной ценой и исчезнут все выгоды, связанные с высокой рыночной ценой. Следовательно, фабриканты будут пользоваться высокой прибылью только до тех пор, пока рыночная цена промышленных изделий будет ещё высока и добавочное количество не будет доставлено на рынок. А как только цены вновь понизятся, прибыль фабрикантов также вернётся к своему обычному уровню. Поэтому я не только не могу согласиться с Адамом Смитом, что землевладельцы меньше заинтересованы в запрещении ввоза хлеба, чем фабриканты в запрещении ввоза промышленных изделий, но, напротив, думаю даже, что первые заинтересованы в нём гораздо больше, потому что их выигрыш - постоянный, тогда как выигрыш фабрикантов - только временный. Д-р Смит замечает, что природа установила крупное и существенное различие между хлебом и другими предметами, но вывод, который вытекает из этого обстоятельства, прямо противоположен тому, который делает он. Именно в силу этого различия создаётся рента, и землевладельцы заинтересованы в повышении естественной цены хлеба. Вместо того чтобы сравнивать интересы фабриканта с интересами землевладельца, д-р Смит должен был бы сравнить интересы фабриканта с интересами фермера, сильно отличающимися от интересов землевладельца. Как фабриканты мало заинтересованы в повышении цены своих товаров, так и фермеры мало заинтересованы в повышении цены хлеба или сырых материалов, хотя и те и другие выигрывают в том случае, когда рыночная цена продуктов выше их естественной цены. Напротив, землевладельцы очень сильно заинтересованы в повышении естественной цены хлеба, ибо повышение ренты является необходимым следствием трудности производства сырых материалов, без которой не может увеличиться естественная цена хлеба. А так как премии за вывоз и запрещение ввоза хлеба увеличивают спрос на него и заставляют нас переходить к обработке более бедных земель, то они неминуемо влекут за собой возрастание трудности производства. Единственным последствием высоких ввозных пошлин на промышленные изделия и хлеб или премии за их вывоз является отлив капитала в такие отрасли производства, в которые он при естественном ходе вещей не направился бы. Это приводит к крайне пагубному распределению общих фондов общества, так как такой отлив вводит фабриканта в искушение продолжать дело или даже начинать его в сравнительно невыгодной отрасли производства. Пошлины и премии представляют притом же худший вид обложения, потому что они не отдают даже чужой стране всего, что они берут у собственной: баланс причиняемых ими потерь определяется наименее выгодным распределением всего капитала. Так, если цена хлеба в Англии составляет 4 ф. ст., а во Франции 3 ф. ст. 15 шилл., то премия в 10 шилл. уменьшит в конечном счёте цену хлеба во Франции до 3 ф. ст. 10 шилл., а в Англии будет поддерживать ту же цену в 4 ф. ст. За каждый квартер вывозимого хлеба Англия платит налог в 10 шилл. На каждом квартере хлеба, ввозимого во Францию, она выигрывает только 5 шилл., так что стоимость в 5 шилл. на квартер безусловно теряется для всего мира благодаря такому распределению его фондов, которое приводит к сокращению производства, вероятно, не хлеба, а какого-нибудь другого предмета необходимости или удовольствия. Г-н Бьюкенен видел, повидимому, что аргументация д-ра Смита в вопросе о премиях не совсем правильна. Он совершенно справедливо замечает по поводу места, которое я цитировал выше: "Утверждая, что природа придала хлебу такую реальную стоимость, которая не может быть изменена путём одного только изменения денежной цены, д-р Смит просто смешивает потребительную стоимость с меновой. Бушель пшеницы в неурожайный год прокормит не больше людей, чем в урожайный. Но бушель пшеницы при неурожае будет обмениваться на большее количество предметов роскоши и комфорта, чем в урожайный год. Поэтому землевладельцы, которые располагают излишком хлеба, в неурожайные годы обогащаются, так как они обменивают свой излишек на более значительную стоимость в других предметах, чем в урожайный год. Нельзя, следовательно, утверждать, что если премия форсирует вывоз хлеба, то она но вызывает также и реального роста цены". Мне лично вся аргументация г-на Бьюкенена по вопросу о премиях кажется вполне ясной и удовлетворительной. Впрочем, по вопросу о влиянии повышения цены труда на промышленные изделия г-н Бьюкенен, по моему мнению, разделяет ошибочные взгляды д-ра Смита и автора статьи в "Edinburgh Review". Исходя из своей особенной точки зрения, уже отмеченной мною раньше, он думает, что цена "труда не находится ни в какой связи с ценой хлеба и что, следовательно, реальная стоимость хлеба может возрастать и возрастает, нисколько не влияя на цену труда. Но если бы цена труда действительно возросла, то г-н Бьюкенен утверждал бы вместе с Адамом Смитом и автором статьи в "Edinburgh Review", что цена промышленных изделий также поднялась бы. Я не вижу, однако, каким образом он сумел бы отличить такое повышение цены хлеба от повышения его в силу падения стоимости денег или каким путём он мог прийти к другому заключению, чем Адам Смит. В примечании к стр. 276 первого тома "Богатства народов" г-н Бьюкенен замечает, что "цена хлеба не регулирует денежную цену всех других частей сырого продукта земли. Она не регулирует ни цены металлов, ни цены других полезных материалов, как уголь, дерево, камень и т. д. А так как она не регулирует цену труда, то она не регулирует и цену промышленных изделий. Таким образом, премия, поскольку она повышает цену хлеба, несомненно, доставляет фермеру действительный выигрыш. Следовательно, на этом основании ещё нельзя защищать политику премии. Мы можем допустить, что премии, повышая цену хлеба, поощряют развитие земледелия. Но тогда возникает вопрос, следует ли поощрять развитие земледелия таким путём?". Итак, по мнению г-на Бьюкенена, премия доставляет фермеру выигрыш, потому что не повышает цены труда. А если бы она произвела это действие, то она подняла бы соответственно цены всех остальных товаров и в таком случае но являлась бы для земледелия особенным поощрением. Впрочем, следует признать, что премия за вывоз какого-нибудь товара имеет тенденцию поднимать в небольшой степени стоимость денег. Всё, что облегчает вывоз, способствует накоплению денег в стране. И, наоборот, всё, что мешает вывозу, имеет тенденцию уменьшать количество денег в стране. Всякий налог, повышая цены обложенных товаров, имеет тенденцию уменьшать вывоз и, следовательно, задерживать приток денег. В силу того же принципа премия усиливает приток денег. Всё это было объяснено нами более полно при общем рассмотрении вопроса о налогах. Вредные последствия меркантилистской системы были подробно изложены д-ром Смитом. Единственная цель этой системы состояла в повышении цен товаров на внутреннем рынке путём исключения иностранной конкуренции. Но для земледельческих классов эта система была не более вредна, чем для какой-либо другой части общества. Толкая капитал в такие каналы, в которые он при других условиях не направился бы, она уменьшала общую сумму производимых товаров. Хотя цены товаров были постоянно высокими, они держались на этой высоте не вследствие недостатка в товарах, а благодаря трудности их производства. Поэтому, хотя продавцы этих товаров и продавали их по более высоким ценам, они перестали бы получать более высокую прибыль, как только на производство товаров было бы затрачено требуемое количество капитала. <По мнению г-на Сэя, выгоды отечественных фабрикантов были бы не только временными. "Правительство, безусловно запрещающее ввоз определённых иностранных товаров, устанавливает монополию в пользу тех, кто производит эти товары внутри страны, и в ущерб тем, кто потребляет их; другими словами, отечественные производители, пользуясь исключительной привилегией при продаже своих товаров, могут поднять цены этих товаров выше их естественной цены, а потребители, не имея возможности приобрести эти товары в другом месте, вынуждены покупать их по более высоким ценам" (т. I, стр. 201). Но каким образом могут эти производители постоянно поддерживать рыночную цену своих товаров выше их естественной цены, если каждый из их сограждан может свободно заняться тем же промыслом? Они гарантированы только от иностранной конкуренции, но не от внутренней. Действительное зло, которое возникает для страны вследствие таких монополий, если только в данном случае можно употребить этот термин, заключается не в повышении рыночной цены таких товаров, а в повышении их действительной и естественной цены. Вследствие возрастания издержек производства часть труда страны будет применена менее производительно.> Но и сами фабриканты как потребители должны платить добавочную цену за такие товары. Будет поэтому неправильно сказать, что "повышение цены, вызванное обоими факторами (законодательством о корпорациях и высокими пошлинами на ввоз иностранных товаров), в конце концов всюду оплачивается землевладельцами, фермерами и рабочими данной страны". Мы считаем тем более необходимым сделать это замечание, что в настоящее время землевладельцы ссылаются на авторитет Адама Смита при защите таких же высоких пошлин на ввоз иностранного хлеба. На том основании, что ошибки законодательства привели к увеличению издержек производства, а вместе с ними и цен различных промышленных товаров для потребителей, нам предлагают во имя справедливости спокойно подчиниться новым поборам. На том основании, что все мы платим добавочную цену за наше полотно, муслин, а также бумажные ткани, считается справедливым, чтобы мы платили добавочную цену и за наш хлеб. На том основании, что при общем распределении труда всего мира мы лишили себя возможности получать большинство продуктов путём приложения нашего труда в обрабатывающей промышленности, мы должны ещё и дальше наказывать себя, уменьшая производительные силы общего труда при производстве сырых материалов. Мы поступили бы мудрее, если бы сознали свои заблуждения, к которым нас привела ошибочная политика, и немедленно начали бы постепенно переходить к здравым принципам всеобщей свободной торговли <"Страна, которая подобно Великобритании изобилует самыми разнообразными промышленными изделиями, товары которой могут удовлетворить потребности всякого общества, нуждается только в свободе торговли, чтобы быть гарантированной от недостатка в хлебе. Народы, живущие на земле, вовсе не осуждены бросать жребий, кому из них подвергнуться бедствиям голода. В мире всегда имеется изобилие пищевых продуктов. Чтобы наслаждаться постоянным изобилием, нам достаточно отказаться от всяких ограничений и запрещений и перестать противодействовать благожелательной мудрости провидения" (статья "Хлебные законы и торговля" в дополнительном томе "Encyclopedia Britannica"). [Это примечание имеется только во втором и третьем изданиях.]>. "Я уже имел случай заметить, - пишет г-н Сэй, говоря о том, что неправильно называется торговым балансом, что если купец находит более выгодным вывозить в другие страны не товары, а драгоценные металлы, то это выгодно и для самого государства, так как последнее выигрывает или теряет только через посредство своих граждан. Что касается внешней торговли, то выгода частного лица является также выгодой государства. Поэтому всякая попытка ставить какие-либо препятствия вывозу драгоценных металлов частными лицами приведёт только к тому, что они вынуждены будут вывозить какой-нибудь другой товар, но уже с меньшей прибылью как для себя самих, так и для государства. Впрочем, следует заметить, что я говорю только о внешней торговле, потому что прибыль, которую получают купцы, имея дело со своими согражданами, так же как и прибыль, получаемая от монопольной торговли с колониями, не является всецело выигрышем государства. В торговле между гражданами одной и той же страны нет другого выигрыша, кроме стоимости произведённой полезности, que la valeur d'une utilite produite" (т. I, стр. 401) <Не противоречат ли приведённому выше взгляду г-на Сэя следующие отрывки: "Помимо этого внутренняя торговля, хотя на неё обращают меньше внимания (потому что она находится в руках самых различных людей), является наиболее значительной по своим размерам, а следовательно, и наиболее прибыльной. Товары, обмениваемые в этой торговле, обязательно являются продуктами той же самой страны" (т. I, стр. 84). "Английское правительство не заметило, что наиболее прибыльными продажами являются те, которые совершаются внутри самой страны, так как они не могут иметь места без того, чтобы нация не произвела две стоимости: стоимость, которая продаётся, и стоимость, за которую она покупается" (т. I, стр. 221). В гл. XXVI я исследую доброкачественность этой теории.>. Я не могу уловить различия, делаемого здесь между прибылью, получаемой во внутренней торговле, и прибылью, получаемой во внешней. Цель всякой торговли заключается в увеличении количества продуктов. Если для покупки бочки вина я имел бы возможность вывезти слиток серебра, который был куплен за продукт стоимостью в 100 дней труда, но правительство, запретив вывоз слитков, заставило бы меня купить вино за товар стоимостью в 105 дней труда, то я - а вместе со мною и правительство - потерял бы продукт пяти дней труда. Но если бы такие сделки были заключены между частными лицами, живущими в различных провинциях одной и той же страны, то и для них и для страны было бы одинаково выгодно, чтобы они были свободны в выборе товаров, с помощью которых они делают покупки; наоборот, как для них, так и для страны было бы одинаково невыгодно, чтобы правительство заставило их расплачиваться наименее выгодным для них товаром. Если бы с помощью одного и того же капитала фабрикант мог обработать больше железа там, где уголь находится в изобилии, чем там, где в угле чувствуется недостаток, то страна оказалась бы в выигрыше на всю разницу. Но если бы недостаток в угле чувствовался всюду и предприниматель ввозил бы железо, производя для получения добавочного количества последнего с помощью того же капитала и труда какой-нибудь товар, то он также доставил бы своей стране выигрыш в размере добавочного количества железа. В шестой главе этого труда я старался уже доказать, что всякая торговля, внутренняя или внешняя, приносит выгоду не тем, что она увеличивает стоимость продуктов, а тем, что она увеличивает их количество. Мы не получим более значительную стоимость, будем ли мы вести самую выгодную внешнюю и внутреннюю торговлю или же вследствие запретительных законов будем вынуждены довольствоваться наименее выгодной. Как норма прибыли, так и произведённая стоимость останутся без изменения. Выгода всегда сведётся к тому, что г-н Сэй, повидимому, считает преимуществом одной только внутренней торговли. В обоих случаях выигрыш один и тот же: это - стоимость какой нибудь utilite produite. Глава 23. Премии за производство
Будет, пожалуй, небесполезно рассмотреть также влияние, оказываемое премией за производство сырых материалов и других товаров. Мы могли бы при этом проследить действие принципов, которые я старался установить по вопросам о прибыли с капитала, о разделении годового продукта земли и труда и об относительных ценах на промышленные изделия и сырые материалы. Предположим сначала, что на все товары устанавливается налог с целью образования фонда, из которого правительство могло бы выдавать премии за производство хлеба. Так как ни одна часть этого налога не будет израсходована правительством, так как всё, что будет получено от одного класса общества, будет возвращено другому, то нация как коллектив ничего не выиграет и не потеряет от такого налога и премии. Всякий легко согласится, что налог на товары, из которого образуется фонд, поднимет цены обложенных товаров. Поэтому все потребители этих товаров будут в одинаковой степени способствовать созданию такого фонда; другими словами, так как повысилась естественная или необходимая цена товаров, то повысится также и их рыночная цена. Но по тем же причинам, в силу которых повысилась естественная цена этих товаров, понизится естественная цена хлеба. До установления премии за производство фермеры получали за свой хлеб столь большую цену, что она оплачивала ренту и расходы и давала им обычную норму прибыли. После установления премии они будут получать более высокую прибыль, если только цена хлеба не упадёт на сумму, равную по крайней мере премии. Таким образом, следствием налога и премии явится повышение цены товаров на сумму, равную налогу, который взимается с них, и понижение цены хлеба на сумму, равную выплачиваемой премии. Следует ещё заметить, что в распределении капитала между земледелием и обрабатывающей промышленностью не может произойти какое-либо длительное изменение, ибо, раз не произойдёт никакого изменения ни в количестве капитала, ни в численности населения, спрос на хлеб и на промышленные изделия останется точно таким же, как и прежде. Прибыль фермера после падения цены хлеба будет не выше общего уровня, и прибыль фабриканта не понизится после повышения цены промышленных изделий. Таким образом, премия не увеличит количества капитала, употребляемого на производство хлеба, и не уменьшит количества капитала, затраченного на производство промышленных изделий. Но как отразится премия на интересах землевладельца? Согласно тем же принципам, в силу которых налог на сырые материалы понижает хлебную ренту с земли, оставляя без изменения денежную ренту, премия за производство, представляющая прямую противоположность налогу, повысит хлебную ренту, но оставит без изменения денежную ренту <См. главу IX>. Получая ту же самую денежную ренту, землевладелец платил бы более высокие цены за промышленные изделия и более низкие за хлеб, поэтому он, вероятно, не стал бы ни богаче, ни беднее. Остаётся теперь исследовать, какое влияние премия окажет на заработную плату. Для этого нужно решить вопрос, будет ли рабочий при покупке товаров уплачивать в виде налога столько же, сколько он получает вследствие понижения цены хлеба, последовавшего за установлением премии. Если эти две суммы будут равны, то заработная плата останется без изменения, но если обложенные товары не принадлежат к числу тех, которые потребляются рабочим, его заработная плата понизится, и вся разница пойдёт в пользу предпринимателя. Но для последнего это не является действительной выгодой. Конечно, норма прибыли его повысится, как это всегда происходит в случае падения заработной платы. Но чем меньше рабочий будет участвовать в образовании фонда, из которого выплачиваются премии и который, это следует помнить, должен быть собран с помощью налога, тем больше должен будет платить предприниматель. Другими словами, предприниматель будет участвовать в уплате налога своими расходами ровно настолько же, насколько он выиграет от премии и более высокой нормы прибыли, вместе взятых. Он получает более высокую норму прибыли, которая должна возместить ему уплату не только его собственной доли налога, но и доли его рабочего. Вознаграждение, которое он получает за уплату доли рабочего, выражается в уменьшенной заработной плате или, что то же самое, в возросшей прибыли, а вознаграждение за долю налога, уплачиваемую им за себя лично, выражается благодаря премии в уменьшении цены потребляемого им хлеба. Теперь вполне уместно будет отметить различное действие, которое оказывают на прибыль с капитала изменение действительной трудовой или естественной стоимости хлеба и изменение относительной стоимости хлеба в результате обложения, а также премий. Если цена хлеба понизилась вследствие изменения его трудовой цены, то изменится не только норма прибыли с капитала, [но улучшится также положение капиталиста. Несмотря на увеличение его прибыли, он будет платить за предметы, на которые он расходовал её, не больше, чем прежде] <В первом и втором изданиях было сказано: "но и абсолютная прибыль". - Прим. ред.>, но, как мы только что видели, этого не будет, если понижение вызывается искусственной премией. При действительном падении стоимости хлеба, происходящем оттого, что на производство этого наиболее важного для потребления человека предмета требуется меньше труда, последний становится более производительным. При помощи того же капитала затрачивается тот же труд, а в результате получается увеличение количества продуктов. Тогда не только изменяется норма прибыли, [но улучшается также и положение того, кто получает эту прибыль] <В первом и втором изданиях было сказано: "но и абсолютная прибыль с капитала". - Прим. ред.>. Каждый капиталист будет иметь не только более значительный денежный доход при использовании того же денежного капитала, но и при расходовании этих денег он получит за них большее количество товаров, а значит и больше предметов удовольствия. В случае установления премии выгода, которую он получает от падения цены одного товара, компенсируется невыгодой, которая проистекает для него вследствие необходимости платить за другой товар цену, возросшую в ещё большем отношении. Он получает более высокую норму прибыли, чтобы иметь возможность платить более высокую цену. Таким образом, его действительное положение хотя и не ухудшается, всё-таки нисколько не улучшается. Он, правда, получает более высокую норму прибыли, но он не имеет в своём распоряжении более значительного количества продукта земли и труда своей страны. Если падение стоимости хлеба вызвано естественными причинами, то действие его не парализуется повышением цены других товаров. Напротив, стоимость последних падает вследствие падения стоимости сырого материала, из которого они сделаны. Когда же падение стоимости хлеба вызвано искусственным путём, оно всегда парализуется реальным повышением стоимости некоторых других товаров. И если хлеб в этом случае может быть куплен дешевле, то другие товары стоят дороже. Итак, мы имеем ещё одно доказательство того, что налоги на предметы насущной необходимости не представляют никаких особенных неудобств, поскольку речь идёт о повышении заработной платы и понижении нормы прибыли. Прибыль действительно понижается, но только на сумму, равняющуюся доле рабочего в уплате налога, а эта доля должна быть уплачена во всяком случае или предпринимателем, или потребителем продукта труда рабочего. Будете ли вы вычитать ежегодно 50 ф. ст. из дохода предпринимателя или прибавите 50 ф. ст. к цене потребляемых им товаров, - это обстоятельство имеет для него или для общества значение лишь постольку, поскольку оно может затронуть одинаково и все остальные классы общества. Если бы эта сумма была присоединена к цене товаров, скряга мог бы уклониться от налога, воздержавшись от потребления, но если бы она была вычтена из дохода каждого человека косвенным путём, то наш скряга не мог бы уклониться от уплаты справедливо падающей на него доли государственных повинностей. Таким образом, премия за производство хлеба не оказала бы никакого действительного воздействия на годовой продукт земли и труда страны, хотя она сделала бы хлеб относительно дешёвым, а промышленные изделия относительно дорогими. Но предположим теперь, что принята противоположная мера, что устанавливается налог на хлеб с целью собрать фонд, из которого выплачивалась бы премия за производство товаров. Очевидно, что в этом случае хлеб будет дорог, а остальные товары - дёшевы. Цена труда осталась бы без изменения, если бы рабочий выиграл вследствие дешевизны промышленных товаров ровно столько, сколько он теряет вследствие дороговизны хлеба. Но если бы случилось иначе, заработная плата повысилась бы, а прибыль упала бы, между тем как денежная рента сохранила бы свои прежние размеры. Прибыль упала бы потому, что, как мы только что объяснили, предприниматель уплачивал бы часть налога, причитающуюся на долю рабочего, именно таким способом. Повышение заработной платы вознаградило бы рабочего за налог, который он уплачивает благодаря увеличению цены хлеба. Если бы он не тратил ни одной части своей заработной платы на промышленные товары, он не получил бы ни одной части премии. Последняя была бы целиком получена предпринимателями, и налог был бы отчасти уплачен рабочими, которые получили бы вознаграждение в форме прибавки к заработной плате за новую тяжесть, возложенную на них. Норма прибыли, таким образом, понизилась бы. В этом случае мы имели бы дело с очень сложным мероприятием, которое не привело бы ни к каким последствиям для нации. При рассмотрении этого вопроса мы намеренно оставили вне нашего анализа влияние такого мероприятия на внешнюю торговлю. Мы скорее предполагали, что имеем дело с изолированной страной, не имеющей никаких торговых связей с другими странами. Мы видели, что при неизменном спросе страны на хлеб и на другие товары капитал не будет иметь никакого побуждения передвигаться из одной отрасли в другую, какое бы направление ни приняла премия. Но всё изменилось бы, если бы существовала внешняя торговля и если бы эта торговля была свободна. Изменяя относительную стоимость товаров и хлеба, оказывая могучее воздействие на их естественные цены, мы дали бы сильный толчок вывозу тех товаров, естественные цены которых понизились, и такой же толчок ввозу товаров, естественные цены которых повысились. Таким образом, рассматриваемая финансовая мера могла бы полностью изменить естественное распределение различных занятий. Это принесло бы выгоду иноземным странам и принесло бы разорение той стране, в которой была бы принята такая бессмысленная политика. Глава 24. Учение Адама Смита о земельной ренте
"Сельскохозяйственные продукты, - говорит Адам Смит, - могут, в виде правила, поступать на рынок только в таком количестве, чтобы обычная цена их была достаточна для возмещения капитала, необходимого для доставления их туда, и для оплаты обычной прибыли. Если обычная цена превышает эту норму, излишек её, естественно, приходится на долю земельной ренты; если она не превышает эту норму, то, хотя товар и может доставляться на рынок, он не приносит никакой ренты землевладельцу. От спроса зависит, превышает ли цена этот уровень или нет" <Адам Смит, Исследование о природе и причинах богатства народов, т. I, стр. 131. - Прим. ред.>. Эта цитата должна была бы, конечно, привести читателя к выводу, что автор хорошо понял природу ренты и что он должен был знать также, что качество земли, обработки которой могут потребовать нужды общества, зависит от "обычной цены её продукта", от того, будет ли она "достаточна для возмещения капитала, необходимого для доставления их туда, и для оплаты обычной прибыли". Но автор в то же время полагает, что "на некоторую часть сельскохозяйственного продукта спрос всегда должен быть таков, чтобы обеспечивать более высокую цену, чем это необходимо для доставления его на рынок" <Там же. - Прим. ред.>. Он считал пищу одной из таких частей. Он утверждает, что "земля почти при всех условиях производит большее количество пищи, чем это необходимо для содержания всего того количества труда, которое затрачивается на доставление этой пищи на рынок, хотя бы этот труд содержался самым щедрым образом. При этом получающийся излишек всегда более чем достаточен для возмещения капитала, затрачиваемого на применение этого труда, и для получения прибыли на него. Поэтому всегда некоторый излишек остаётся на долю ренты землевладельца" <Адам Смит, Исследование о природе и причинах богатства народов, т. I, стр. 132. - Прим. ред.>. Какое же доказательство приводит д-р Смит в защиту этого взгляда? Одно только утверждение, что "в самых безлюдных местностях Норвегии и Шотландии имеются пастбища для скота, который доставляет молоко и приплод в количестве, достаточном не только для содержания всего того количества труда, которое необходимо для ухода за этим скотом и для оплаты обычной прибыли фермера или владельца стад, но и для доставления небольшой ренты землевладельцу" <Там же. - Прим. ред.>. Так вот, я позволю себе усомниться в верности этого утверждения. Я с своей стороны полагаю, что пока что во всякой стране, от наименее культурной до наиболее цивилизованной, существует земля такого качества, которая не может доставлять количество продукта, более чем достаточное для возмещения затраченного на неё капитала, плюс обычная для этой страны прибыль. Все мы знаем, что так обстоит дело в Америке, и всё-таки никто не будет утверждать, что принципы, регулирующие ренту в Америке, совершенно другие, чем в Европе. Но если бы даже земледелие в Англии действительно достигло такой высокой ступени развития и у нас теперь не было бы ни одного клочка земли, который не приносил бы ренты, то не менее достоверно, что прежде такие земли должны были существовать. Впрочем, вопрос о том, существовали ли такие земли или нет, в данном случае не имеет никакого значения. Если только в Великобритании имеется какой-нибудь капитал, затраченный на землю, которая возмещает один лишь капитал плюс прибыль на него, то решительно всё равно, затрачен ли он на старую или на новую землю. Арендуя участок земли на срок в семь или четырнадцать лет, фермер может решить затратить на него капитал в 10 тыс. ф. ст., так как он знает, что при существующих ценах на зерно и сырые материалы он может возместить ту часть своего капитала, которую он обязан затратить, а затем уплатить ренту и получить общую норму прибыли. Но он не затратит 11 тыс. ф. ст., если только последняя тысяча фунтов стерлингов не может быть затрачена так производительно, чтобы дать ему обычную прибыль на капитал. Подсчитывая, стоит ли ему затратить дополнительный капитал или нет, он спрашивает только, будет ли цена сырых материалов достаточна, чтобы возместить его расходы и дать ему прибыль, так как он знает, что ему не придётся платить дополнительную ренту. Даже по окончании срока аренды рента не будет повышена, ибо если бы землевладелец хотел повысить ренту только потому, что на землю затрачен дополнительный капитал в 1 тыс. ф. ст., то фермер взял бы свой капитал обратно. Ведь мы предположили, что, затратив этот капитал, фермер получит только установленную и обычную прибыль, которую он мог бы получить при всяком другом употреблении капитала. Следовательно, он не может согласиться платить добавочную ренту, если только цена сырых материалов не повысится ещё больше или, что сводится к тому же, если обычная средняя норма прибыли не упадёт. Если бы Адам Смит, с его проницательным умом, обратил внимание на этот факт, он не утверждал бы, что рента есть одна из составных частей цены сырых материалов: ведь цена их всюду регулируется доходом той последней части капитала, за которую не платится никакой ренты. Если бы ему был известен этот принцип, он не делал бы никакого различия между законами, которые регулируют ренту с рудников, и законами, которые регулируют земельную ренту. "Так, например, получение ренты с каменноугольной копи, - говорит д-р Смит, - зависит отчасти от обилия в ней угля, отчасти от её местоположения. Рудник или копь какого бы то ни было рода может быть признан богатым или бедным в зависимости от того, будет ли количество минералов, которое может быть извлечено из него при затрате определённого количества труда, больше или меньше того количества, которое может быть добыто при равной затрате труда из большей части других рудников того же рода. Некоторые каменноугольные копи, выгодно расположенные, не могут подвергаться разработке ввиду своей скудости. Получаемый продукт не оплачивает издержек. Они не могут давать ни прибыли, ни ренты. Существуют такие копи, продукт которых может покрывать лишь оплату труда и возмещение капитала, затрачиваемого при их разработке, вместе с обычной прибылью на него. Они приносят некоторую прибыль предпринимателю работ, но не дают ренты землевладельцу. Они могут разрабатываться с выгодой исключительно только землевладельцем, который, будучи сам предпринимателем работ, получает обычную прибыль на капитал, затрачиваемый им на это. Многие каменноугольные копи Шотландии разрабатываются таким именно образом и никаким другим способом не могут разрабатываться. Землевладелец никого не допустит к разработке, не потребовав уплаты некоторой ренты, а никто не будет в состоянии платить её. Другие каменноугольные копи в той же стране, достаточно богатые, не могут подвергаться разработке вследствие их положения. Из таких копей может быть добыто с затратой обычного или даже меньшего, чем обычно, количества труда такое количество минералов, которое достаточно для покрытия издержек производства; но в местности, далёкой от берега, редко населённой и не имеющей хороших путей сообщения или водных путей, это добытое количество не сможет быть продано" <Адам Смит, Исследование о природе и причинах богатства народов, т. I, стр. 149-150. - Прим. ред.>. Весь принцип ренты разъяснён здесь превосходно и вполне понятно, но каждое слово может быть отнесено с таким же основанием к земле, как и к рудникам. Однако Адам Смит утверждает, что "иначе обстоит дело с земельными владениями на поверхности земли. Стоимость их продукта и ренты пропорциональна их абсолютному, а не относительному плодородию" <Там же, стр. 157. - Прим. ред.>. Но предположим, что нет никакой земли, которая не приносила бы ренты. В этом случае рента с самой плохой земли должна быть пропорциональна избытку стоимости продукта над затратами капитала и обычной прибылью на капитал. Тот же самый принцип будет управлять рентой с земель несколько лучшего качества или лучше расположенных, и, следовательно, рента с этих земель будет вследствие их преимущества выше ренты с земель низшего качества. То же самое можно сказать о землях ещё более плодородных и т. д. вплоть до самых плодородных. Не очевидно ли после этого, что именно относительное плодородие земли определяет часть продукта, которая выплачивается в виде земельной ренты, точно так же как относительное богатство рудников определяет часть продукта, которая уплачивается в виде ренты с рудников? После того как Адам Смит заявил, что есть такие копи, которые могут разрабатываться только собственниками, ибо доставляемого ими количества продуктов хватает лишь на возмещение издержек обработки и обычную прибыль на затраченный капитал, мы были бы вправе ожидать, что, по его мнению, именно эти копи будут регулировать цены продукта, [добываемого из всех копей] <Вставка сделана только в третьем издании. - Прим. ред.>. Если старые копи не могут доставить всего требуемого количества, то цена угля поднимется и будет продолжать подниматься, пока собственник новой и более бедной копи не найдёт, что, разрабатывая её, он может получить обычную прибыль на свой капитал. Если она не принадлежит к числу очень бедных, то повышение цены угля не должно быть особенно значительным, чтобы собственник копи нашёл выгодным затратить свой капитал на её разработку. Но если копь принадлежит к числу очень бедных, то цена должна подниматься до тех пор, пока она даст собственнику копи возможность покрыть все расходы и получить обычную прибыль на капитал. Таким образом, цена угля, казалось бы, всегда регулируется наименее богатыми копями. Однако Адам Смит держится другого взгляда. Он замечает, что "наиболее богатая копь регулирует цену угля всех других копей в окрестности. Как владелец копи, так и предприниматель, разрабатывающий её, находят, что, продавая несколько дешевле своих соседей, они могут получить - первый большую ренту, второй - большую прибыль. Их соседи скоро оказываются вынужденными продавать свой уголь по такой же цене, хотя и не могут делать это без потерь и хотя это всегда уменьшает, а иногда и совсем сводит на нет их ренту и прибыль. Некоторые копи в результате этого забрасываются, другие же перестают приносить ренту и могут быть разрабатываемы только землевладельцем" <Адам Смит, Исследование о природой причинах богатства народов, т. I, стр. 151. - Прим. ред.>. Если спрос на уголь уменьшится или если благодаря усовершенствованию процесса добычи угля количество его увеличится, то цена его упадёт, и разработка некоторых копей прекратится. Но во всяком случае цена угля должна быть достаточна, чтобы оплатить расходы и прибыль по разработке копи, не обременённой рентой. Следовательно, цена регулируется наименее богатыми копями. Адам Смит, правда, сам соглашается с этим в другом месте, когда он говорит, что "низшая цена, по которой может продаваться уголь в течение сколько-нибудь продолжительного времени, должна, как и цена всякого другого товара, быть достаточной для возмещения капитала, затрачиваемого на его производство, и обычной прибыли на него. Цена угля, получаемого из копи, которая не даёт её собственнику ренту и которую он должен разрабатывать сам или же забросить, обычно должна приблизительно держаться на указанном уровне" <Там же. - Прим. ред.>. Но те же самые обстоятельства, т. е. изобилие и соответствующая дешевизна угля, какими бы причинами они ни вызывались, которые вынудили бы забросить копи, дающие только очень незначительную ренту или вовсе не дающие никакой ренты, заставили бы - при таком же изобилии и дешевизне сырых материалов - прекратить обработку земель, дающих только очень незначительную ренту или вовсе не дающих никакой ренты. Если бы, например, картофель стал таким же всеобщим и обычным предметом потребления народа, как рис в некоторых странах, то одна четверть или половина земли, находящейся теперь в обработке, была бы, вероятно, сейчас же заброшена. Если, как уверяет Адам Смит, "один акр земли под картофелем даёт 6 тыс. весовых единиц доброкачественной пищи, или втрое больше, чем один акр под пшеницей", то население не могло бы в течение продолжительного времени возрастать так сильно, чтобы потребить всё количество, которое может быть получено с земель, прежде бывших под пшеницей. Поэтому многие земли будут заброшены, и рента упадёт. Но когда население удвоится или утроится, можно будет обрабатывать такое же количество земли, как и прежде, и рента достигнет опять прежней высоты. Владелец земли не получит также более значительную часть валового продукта, будет ли этот продукт состоять из картофеля, который может прокормить 300 человек, или пшеницы, которая может прокормить только 100 человек. И вот почему: хотя издержки производства и уменьшились бы в очень значительной степени, если бы заработная плата регулировалась главным образом ценою картофеля, а не ценою пшеницы, хотя часть всего валового продукта, остающаяся после оплаты рабочим, значительно возросла бы, всё же ни одна часть добавочного продукта не пошла бы на увеличение ренты; вся добавка неизменно пошла бы целиком в пользу прибыли, которая всегда поднимается при падении заработной платы и падает при её повышении. Будет ли возделываться картофель или пшеница, рента всё равно управляется тем же самым принципом, и она всегда будет равняться разности между количествами продукта, полученными при помощи одинакового капитала с одной и той же земли или с земли различного качества. Следовательно, пока обрабатываются земли одного и того же качества, пока не произошло никакого изменения в их относительном плодородии или других преимуществах, рента будет всегда сохранять своё прежнее отношение к валовому продукту. Впрочем, Адам Смит утверждает, что часть, достающаяся землевладельцу, возросла бы вследствие уменьшения издержек производства и что, следовательно, он получил бы при изобилии продукта и более значительную часть и более значительное количество, чем если бы продукта было мало. "Рисовое поле, - говорит он, - производит гораздо большее количество пищи, чем самое плодородное хлебное поле. Как утверждают, с акра собирают обычно два урожая в год по 30-60 бушелей каждый. Хотя возделывание риса в соответствии с этим требует большего количества труда, однако после покрытия расходов на содержание всего этого труда остаётся гораздо больший излишек. В тех странах, где возделывается рис и где он является главной, и излюбленной пищей народа, где земледельцы питаются главным образом им, землевладельцы получают более значительную долю этого общего излишка, чем в странах, производящих хлеб" <Адам Смит, Исследование о природе и причинах богатства народов, т. I, стр. 144. - Прим. ред.>. Г-н Бьюкенен также замечает: "Очевидно, что если бы предметом общего потребления народа стал какой-нибудь другой продукт, доставляемый землёю в большем количестве, чем хлеб, то рента землевладельца увеличилась бы в соответствии с его большим изобилием". Если бы картофель стал обычной пищей всего населения, то землевладельцы в течение очень значительного промежутка времени должны были бы мириться с громадным понижением ренты. Они, вероятно, не получили бы даже такого же количества средств существования, какое они получают теперь, не говоря уже о том, что стоимость этих средств существования упала бы втрое против прежней их стоимости. Зато стоимость всех промышленных товаров, на которые затрачивается часть ренты землевладельца, упала бы лишь настолько, насколько понизилась бы стоимость сырого материала, из которого они сделаны, вследствие большего плодородия земли, предназначенной для добывания этого сырого материала. Если вследствие роста населения в обработку поступает земля такого же качества, как и прежде, то не изменяется ни часть продукта, которую получает владелец земли, ни стоимость этой части. Следовательно, рента сохранит свои прежние размеры, но прибыль значительно повысится, потому что значительно понизится цена пищи, а следовательно, и заработная плата. Высокая прибыль благоприятствует накоплению капитала. Спрос на труд будет возрастать всё больше, а землевладельцы будут всё время в выигрышном положении благодаря возрастающему спросу на землю. [И действительно, обработка тех же самых земель производилась бы ещё лучше, если бы с них можно было получать пищу в таком изобилии. Вследствие этого и рента с них по мере развития общества могла бы стать ещё выше, и та же самая земля поддерживала бы значительно большее население, чем прежде. Это не преминуло бы принести большие выгоды землевладельцам, что вполне согласно с принципом, который, как мне кажется, твердо установлен в результате нашего исследования, а именно: всякая экстраординарная прибыль по самой своей природе не может быть очень продолжительна, так как весь прибавочный продукт земли за вычетом из него лишь такой умеренной прибыли, какая достаточна для поощрения накопления, в конце концов достанется владельцу земли. При низкой цене труда, которая явится неизбежным следствием изобилия продуктов, земли, уже находящиеся в обработке, те только давали бы гораздо большее количество продукта, но на них был бы также затрачен и больший дополнительный капитал, и из них извлекалась бы большая стоимость. В то же время земли весьма низкого качества приносили бы большую прибыль к вящей выгоде как землевладельцев, так и всех потребителей. Машина, производящая самый важный предмет потребления, была бы усовершенствована и получила бы хорошее вознаграждение соответственно спросу на её услуги. В первую очередь всеми выгодами пользовались бы рабочие, капиталисты и потребители, но с ростом населения эти выгоды постепенно перешли бы в руки собственников земли. Независимо от этих улучшений, в которых общество заинтересовано самым непосредственным образом, а землевладельцы - только косвенно] <Эта вставка сделана только в третьем издании. - Прим. ред.>, интересы землевладельцев всегда противоположны интересам потребителей и фабрикантов. Высокая цена хлеба может сохраняться долго только в том случае, если на производство его требуется дополнительное количество труда, если увеличились издержки его производства. Но эта же причина неизменно повышает ренту, и поэтому увеличение издержек производства хлеба всегда в интересах землевладельца. Оно, однако, не в интересах потребителя. Он желал бы, наоборот, чтобы стоимость хлеба по отношению к деньгам и товарам была возможно ниже, так как хлеб всегда покупается на товары пли деньги. Высокая цена хлеба невыгодна также и для фабриканта, потому что она вызывает повышение заработной платы, но не повышение цены его товаров. Таким образом, фабрикант не только должен отдавать больше товаров, или, что то же самое, стоимость более значительного числа их, в обмен на потребляемый им хлеб, но, кроме того, и больше товаров, или стоимость большего количества их, в виде заработной платы рабочему, а за всё это он не получает никакого вознаграждения. Следовательно, все классы общества, за исключением землевладельцев, одинаково проиграли бы от возрастания цены хлеба. Сделки между землевладельцами и потребителями не имеют никакого сходства с торговыми сделками, в которых, как говорят, одинаково выигрывают продавец и покупатель. В них, наоборот, вся потеря достаётся одной стороне, а весь выигрыш - другой. А если бы благодаря ввозу хлеб можно было получить дешевле, то потеря вследствие запрещения ввоза была бы более значительной для одной стороны, чем выигрыш - для другой. Адам Смит никогда не проводит никакого различия между низкой стоимостью денег и высокой стоимостью хлеба и поэтому приходит к выводу, что интересы землевладельца не противоположны интересам остального общества. В первом случае стоимость денег низка, а во втором стоимость хлеба высока в сравнении со всеми товарами. В первом случае хлеб и другие товары сохраняют те же относительные стоимости, во втором стоимость хлеба выше по отношению как к товарам, так и к деньгам. Следующее замечание Адама Смита применимо к низкой стоимости денег, но оно совершенно не применимо к высокой стоимости хлеба: "Если бы ввоз всегда был свободен, наши фермеры и землевладельцы выручали бы, вероятно, за свой хлеб, в среднем за ряд лет, несколько меньше денег, чем выручают в настоящее время, когда ввоз почти всегда оказывается в действительности воспрещённым; но деньги, которые они получали бы, имели бы большую стоимость, на них можно было бы покупать больше всяких других товаров и занимать большее количество труда. Таким образом, их действительное богатство, их действительный доход были бы такими же, как и в настоящее время, хотя и выражались бы в меньшем количестве серебра; это не лишило бы их возможности и не помешало бы им производить хлеб в таком же количестве, как и теперь. Напротив, так как повышение действительной стоимости серебра в результате понижения денежной цены хлеба несколько понижает денежную цену всех других товаров, это создаёт для промышленности страны, где это имеет место, некоторое преимущество на всех иностранных рынках и потому ведёт к поощрению и развитию этой промышленности. Но размеры внутреннего рынка для хлеба должны соответствовать общим размерам промышленности страны, в которой он произрастает, или количеству тех, кто производит что-нибудь другое и потому обладает чем-нибудь другим, или, что то же самое, ценою чего-нибудь другого для обмена на хлеб. При этом внутренний рынок, будучи в каждой стране самым близким и наиболее удобным, является вместе с тем самым обширным и наиболее важным рынком для хлеба. Поэтому отмеченное повышение действительной стоимости серебра, являющееся следствием понижения средней денежной цены хлеба, ведёт к расширению самого большого и наиболее важного рынка для хлеба и таким образом поощряет его производство, а не ведёт к уменьшению последнего" <Адам Смит, Исследование о природе и причинах богатства народов, т. II, стр. 101-102. - Прим. ред.>. Высокая или низкая денежная цена хлеба, поскольку она зависит от изобилия и дешевизны золота и серебра, не имеет никакого значения для владельца земли, потому что в этом случае, как и отметил Адам Смит, понижение или повышение коснётся одинаково всех товаров. Но относительно высокая цена хлеба является во всех отношениях выгодной для владельца земли: во-первых, она даёт ему большее количество хлеба в виде ренты и, во-вторых, за каждую данную меру хлеба он может получить не только большее количество денег, но и большее количество всякого товара, который можно купить за деньги. Глава 25. О колониальной торговле
В своих замечаниях о колониальной торговле Адам Смит показал самым удовлетворительным образом все выгоды свободной торговли и всю несправедливость, которую терпят колонии вследствие того, что метрополия мешает им продавать свои продукты на самом дорогом рынке и покупать необходимые им фабрикаты и материалы на самом дешёвом. Он показал, что, позволяя каждой стране свободно обменивать продукты своего производства, где и когда ей угодно, мы способствуем наилучшему международному распределению труда и обеспечиваем людям изобилие предметов жизненной необходимости и удовольствия. Он пытался также показать, что свобода торговли соответствует не только интересам всего мира, но и каждой отдельной страны и что узкая политика, которая принята во всех странах Европы по отношению к их колониям, приносит метрополиям не меньший вред, чем колониям, интересы которых при этом приносятся в жертву. "Монополия колониальной торговли, - говорит он, - подобно всем другим низменным и завистливым мероприятиям меркантилистической системы, подавляет промышленность всех других стран, главным образом колоний, ни в малейшей степени не увеличивая, а, напротив, уменьшая промышленность страны, в пользу которой она устанавливается" <Адам Смит, Исследование о природе и причинах богатства народов, т. II, стр. 167. - Прим. ред.>. Впрочем, эта часть его замечаний изложена не таким ясным и убедительным образом, как та, в которой он указывает на несправедливость этой системы по отношению к колониям. [По моему мнению, позволительно сомневаться в том] <В первом и втором изданиях абзац начинался иначе: "Не утверждая или не отрицая, что существующая практика Европы по отношению к своим колониям убыточна для метрополий, я позволю себе усомниться в том". - Прим. ред.>, что метрополия не может иногда выиграть от стеснений, которым она подвергает свои колонии. Кто мог бы сомневаться, например, что, будь Англия колонией Франции, последняя выиграла бы от того, что Англия платила бы большую премию за вывоз хлеба, сукна или других товаров? Рассматривая вопрос о премиях, мы видели, что при цене 4 ф. ст. за квартер введение премии в 10 шилл. на квартер вывозимого из Англии хлеба уменьшило бы цену его во Франции до 3 ф. ст. 10 шилл. И вот если прежде хлеб продавался во Франции по 3 ф. ст. 15 шилл. за квартер, то французские потребители выиграют 5 шилл. на каждый квартер ввозимого хлеба, а если бы естественная цена хлеба во Франции составляла прежде 4 ф.ст., они выиграли бы на каждый квартер всю премию в 10 шилл. Франция, таким образом, выиграла бы то, что потеряла бы Англия, и притом не только часть, но всё, что потеряла бы последняя. Могут, однако, сказать, что вывозная премия есть мера внутренней политики и нелегко может быть установлена метрополией. Если бы для Ямайки и Голландии было выгодно обмениваться товарами, которые каждая из них производит, без всякого вмешательства Англии, то совершенно ясно, что при лишении их такой возможности интересы Ямайки и Голландии пострадали бы. Но если бы Ямайка была вынуждена посылать свои товары в Англию и обменивать их там на голландские, то английский капитал или английские агенты участвовали бы в торговле, в которой они при других условиях не принимали бы никакого участия. Они привлекаются в неё премией, которая уплачивается не Англией, а Голландией и Ямайкой. Адам Смит сам констатировал, что потеря, причиняемая невыгодным распределением труда между двумя странами, может оказаться выгодной для одной из них, в то время как другая понесёт большие потери, чем те, которые действительно вытекают из такого распределения. И если это верно, то отсюда следует, что мера, которая может принести колонии большой вред, окажется частично выгодной для метрополии. Говоря о торговых договорах, он замечает: "Когда какая-нибудь нация обязуется договором разрешать ввоз определённых товаров какой-нибудь другой страны, ввоз которых из всех остальных стран она воспрещает, или освобождать товары одной страны от уплаты пошлин, которыми она облагает товары всех остальных стран, страна или, по крайней мере, купцы и владельцы мануфактур страны, торговля которой получает такое преимущество, должны необходимым образом извлекать большую выгоду из подобного договора. Эти купцы и владельцы мануфактур пользуются своего рода монополией в стране, которая так предупредительна к ним. Эта страна становится и более обширным и более выгодным рынком сбыта для их товаров: более обширным потому, что ввиду устранения или обложения более тяжёлыми пошлинами товаров других наций она поглощает большее количество их товаров; более выгодным рынком потому, что купцы благоприятствуемой страны, пользуясь на нём своего рода монополией, могут часто продавать свои товары по лучшей цене, чем если бы им приходилось иметь дело с свободной конкуренцией всех других наций" <Адам Смит, Исследование о природе и причинах богатства народов, т. II, стр. 110. - Прим. ред.>. Допустим, что из двух стран, заключивших между собою торговый договор, одна представляет метрополию, а другая - колонию. Адам Смит, очевидно, допускает, что метрополия может выиграть от притеснения колоний. Могут, правда, сказать, что если только монополия на иностранном рынке не находится в руках привилегированной компании, то иностранные покупатели будут платить за товары не дороже, чем туземные. Цена, которую они заплатят, будет только немногим отличаться от естественной цены товаров в стране, где они производятся. Англия, например, при обыкновенных условиях всегда могла бы купить французские товары по их естественной цене во Франции, а Франция имела бы такую же привилегию покупать английские товары по их естественной цене в Англии. Но по таким ценам товары покупались бы и без договора. Какие же выгоды или невыгоды мог бы доставлять такой договор каждой из этих стран? Невыгоды этого договора для ввозящей страны заключались бы в следующем: она была бы обязана покупать какой-нибудь товар, хотя бы и по естественной цене его, скажем, в Англии, хотя она могла бы, пожалуй, купить его в другой стране по более низкой естественной цене. Таким образом, договор вызвал бы невыгодное распределение всего капитала, которое всей своей тяжестью пало бы на страну, обязанную по договору покупать товары на наименее производительном рынке. И в то же время, несмотря на предполагаемую монополию, предоставленную продавцу, договор не приносит последнему никаких выгод, потому что конкуренция соотечественников мешает продавцу продавать свой товар дороже его естественной цены, по которой он сбывал бы его, вывозя его во Францию, Испанию или Вест-Индию или продавая для внутреннего потребления. В чём же состоят тогда выгоды, доставляемые договором? В том, что те или иные товары не могли бы производиться в Англии для вывоза, если бы она не пользовалась привилегией монопольного обслуживания данного рынка, ибо конкуренция тех стран, где естественная цена таких товаров ниже, лишила бы Англию всякой возможности продавать их. Впрочем, это не имело бы особенного значения, если бы Англии была вполне обеспечена возможность продать на такую же сумму всяких других товаров, которые она может производить, то ли на французском рынке, то ли на каком-нибудь другом с одинаковой выгодой. Цель, которую ставит себе, например, Англия, состоит в том, чтобы купить известное количество французских вин стоимостью в 5 тыс. ф. ст. Она поэтому желает продать где-нибудь товары, за которые она могла бы получить 5 тыс. ф. ст., нужные ей для указанной цели. Если Франция предоставляет ей монополию на суконном рынке, Англия будет охотно вывозить для этой цели сукно, но если бы торговля была свободна, то при конкуренции других стран естественная цена сукна в Англии могла бы не быть достаточно низкой, чтобы доставить ей путём продажи этого сукна 5 тыс. ф. ст. и получить обычную прибыль на затраченный с этой целью капитал. Тогда промышленность Англии должна была бы взяться за производство какого-нибудь другого товара, но при этом могло бы случиться, что при существующей стоимости денег она не в состоянии была бы продавать ни одного из своих товаров по их естественной цене в других странах. Что же получится в результате? Потребители вина в Англии по-прежнему готовы отдать за него 5 тыс. ф. ст., и, следовательно, во Францию с этой целью будут вывезены 5 тыс. ф. ст. деньгами. Вследствие этого вывоза денег стоимость их повышается в Англии и понижается в других странах, а вместе с этим понизится и естественная цена всех товаров, производимых британской промышленностью. Повышение стоимости денег тождественно с понижением цены товаров. Но теперь для получения 5 тыс. ф. ст. можно будет вывозить британские товары, так как при пониженной естественной цене этих товаров они могут конкурировать с товарами других стран. Впрочем, теперь придётся продать больше товаров по низким ценам, чтобы получить требуемые 5 тыс. ф. ст., которые уже не могут доставить то же самое количество вина; в то время как вследствие уменьшения количества денег в Англии естественная цена всех товаров понизилась в этой стране, во Франции, наоборот, вследствие увеличения количества денег естественная цена всех товаров, в том числе и вина, поднялась. Поэтому в Англию при свободной торговле ввозилось бы в обмен на её товары меньше вина, чем в то время, когда Англия в силу торгового договора пользовалась бы особыми преимуществами. Однако норма прибыли не изменилась бы. Изменилась бы только относительная стоимость денег в этих двух странах. Выгода, полученная Францией, заключалась бы в том, что она в обмен на известное количество своих товаров получала бы теперь более значительное количество английских, а потеря Англии в том, что последняя получала бы в обмен на данное количество товаров гораздо меньшее количество французских товаров. Итак, поощряется ли развитие внешней торговли, ставят ли ей препятствия или она остаётся совершенно свободной, всё равно внешняя торговля будет продолжать существовать, какова бы ни была сравнительная трудность производства в различных странах. Внешняя торговля может регулироваться только путём изменения естественной цены, а не естественной стоимости товаров, по которой последние могут производиться в этих странах. А изменение естественной цены вызывается только изменением распределения драгоценных металлов. Это объяснение подтверждает высказанное мною в другом месте мнение, что нет такого налога, премии или запрещения вывоза или ввоза товаров, которые не привели бы к перераспределению драгоценных металлов и, следовательно, не изменили бы всюду как естественную, так и рыночную цену товаров. Ясно поэтому, что можно так регулировать торговлю с колонией, чтобы она в одно и то же время была менее выгодна для колонии и более выгодна для метрополии, чем совершенно свободная торговля. Как отдельный потребитель теряет, если он обязан закупать все товары в одной лавке, так и целая нация потребителей проигрывает, когда она вынуждена покупать необходимые ей товары только в одной стране. Если бы эта лавка или страна доставляли требуемые товары по самой дешёвой цене, они, наверное, продали бы их и без такой исключительной привилегии. А если они не могут продавать свои товары дешевле, то интересы всех требуют, чтобы их не поощряли продолжать торговлю, которую они не могут вести при таких же благоприятных условиях, как другие. Лавка или страна, продающие такие товары, могли бы проиграть при перемене занятия, но общая польза ничем не обеспечивается так полно, как наиболее производительным распределением общего капитала, т. е., иначе говоря, свободной торговлей во всём мире. Возрастание издержек производства какого-либо товара, являющегося предметом насущной необходимости, не необходимо сопровождается уменьшением его потребления, ибо, хотя покупательная сила потребителей уменьшается вследствие повышения цены любого товара, они могут отказаться от потребления какого-нибудь другого товара, издержки производства которого не увеличились. В этом случае как предлагаемое количество, так и требуемое могут остаться без изменения, возрастут только издержки производства; однако цена поднимется, да и должна подняться, чтобы поставить прибыль производителя товара, издержки производства которого возросли, на один уровень с прибылью, получаемой в других отраслях промышленности. Г-н Сэй признаёт, что издержки производства составляют основу цены, и всё же он утверждает в различных частях своего труда, что цена регулируется соотношением между спросом и предложением. Действительным и конечным регулятором относительной стоимости двух товаров являются издержки их производства, а не те количества каждого из них, которые могут быть произведены, и не конкуренция между покупателями. По мнению Адама Смита, колониальная торговля благодаря тому, что в неё мог быть вложен только британский капитал, повысила норму прибыли во всех остальных отраслях торговли. А так как он считает, что высокая прибыль, точно так же как и высокая заработная плата, повышает цены товаров, то он полагает, что колониальная торговля принесла метрополии вред, так как уменьшила способность последней продавать промышленные товары так же дёшево, как другие страны. Он говорит: "В результате же монополии рост колониальной торговли вызвал не столько увеличение торговли по сравнению с тою, которую Великобритания вела раньше, сколько полное изменение её направления. Эта монополия колониальной торговли неизбежно вела к повышению нормы прибыли во всех различных отраслях британской торговли сравнительно с тем, на каком уровне она стояла бы при допущении свободной торговли всех наций с британскими колониями". "Но всё то, что повышает в какой-либо стране обычную норму прибыли выше её нормального уровня, неизбежно ставит эту страну в абсолютно и относительно неблагоприятное положение во всех отраслях её торговли, в которых она не обладает монополией. Это ставит её в абсолютно неблагоприятное положение, потому что в таких отраслях торговли её купцы не могут получать эту повышенную прибыль, не продавая дороже, чем делали бы это при нормальных условиях, как иностранные товары, ввозимые ими в свою страну, так и товары своей страны, вывозимые ими в чужие государства. Их собственная страна должна и покупать и продавать по более дорогим ценам, должна и покупать и продавать меньше, должна и потреблять и производить меньше, чем это было бы при нормальных условиях" <Адам Смит, Исследование о природе и причинах богатства народов, т. II, стр. 156. - Прим. ред.>. "Наши купцы часто жалуются на высокую заработную плату британских рабочих как на причину того, что их товары вытесняются с иностранных рынков, но они молчат насчёт высоких прибылей на капитал. Они жалуются на чрезмерные барыши других, но ни слова не говорят о своих собственных. А между тем высокая норма прибыли на английский капитал может во многих случаях вести к повышению цены британских товаров в такой же степени, а в некоторых случаях ещё в большей степени, чем высокая заработная плата британских рабочих" <Адам Смит, Исследование о природе и причинах богатства народов, т. II, стр. 157. - Прим. ред.>. Я допускаю, что монополия колониальной торговли может изменить - и часто очень выгодным образом - направление капитала. Но из того, что сказано уже мною о прибыли, следует, что никакая замена одной отрасли внешней торговли другой или внутренней торговли внешней не может, очевидно, изменить норму прибыли. Вредные последствия такой замены я только что описал: распределение всего капитала и всей промышленности ухудшится, и, следовательно, произойдёт сокращение производства. Естественная цена товаров поднимется, и, хотя бы даже потребитель и был в состоянии купить столько же товаров по их денежной стоимости, он получит меньшее количество их. Ясно также, что, если бы даже при этом имело место повышение прибыли, цены ничуть не изменились бы, так как цены не регулируются ни заработной платой, ни прибылью. И разве Адам Смит не разделяет того же взгляда, когда он говорит, что "соотношение между стоимостью золота и серебра и стоимостью товаров всякого рода зависит во всех случаях... от соотношения между количеством труда, необходимого для доставления определённого количества золота и серебра на рынок, и количеством труда, нужного для того, чтобы доставить туда же определённое количество того или иного рода товаров" <Адам Смит, Исследование о природе и причинах богатства народов, т. I, стр. 277. - Прим. ред.>. Эти количества не изменятся от того, будет ли прибыль или заработная плата высока или низка. Каким же образом могут подняться цены вследствие повышения прибыли? Глава 26. О валовом и чистом доходе
Адам Смит постоянно преувеличивает выгоды, которые страна извлекает из большего валового дохода в сравнении с выгодами, доставляемыми большим чистым доходом. "...Чем больше та часть его (капитала. - Ред.), которая вложена в земледелие, тем больше будет количество производительного труда, который приводится им в движение внутри страны, равно как и стоимость, которую приложение его добавляет к годовому продукту земли и труда общества. После земледелия наибольшее количество труда приводит в движение и добавляет наибольшую стоимость к годовому продукту капитал, вложенный в мануфактуру. Тот же капитал, который уложен в вывозную торговлю, даёт наименьшие результаты". <[Адам Смит, Исследование о природе и причинах богатства народов, т. I, стр. 309.] Г-н Сэй разделяет мнение Адама Смита: "Самым производительным применением капитала для всей страны в целом после земледелия являются обрабатывающая промышленность и внутренняя торговля. Ибо этот капитал приводит в движение промыслы, прибыль с которых получается в самой стране, тогда как капитал, вложенный во внешнюю торговлю, увеличивает производительность промышленности и земли всех стран без всякого различия. Наименее выгодной для нации затратой капитала является торговля, занимающаяся переправкой продукта одной чужой страны в другую" (Say, v. II, р. 120)>. Допустим на время, что всё это верно. В чём же состоят выгоды, вытекающие для страны от использования большего количества производительного труда, если чистая рента и прибыль, вместе взятые, остаются неизменными независимо от того, занимает ли страна прежнее количество рабочих или меньшее? Весь продукт земли и труда каждой страны долится на три части; из них одна идёт на заработную плату, другая - на прибыль, третья - на ренту. Только из двух последних частей можно производить какие-нибудь вычеты на налоги или на сбережения; первая же, если размеры её умеренны, всегда составляет необходимые издержки производства <Это, быть может, слишком решительное выражение, так как под видом заработной платы рабочий обычно получает больше, чем составляют абсолютно необходимые издержки производства. В этом случае рабочий получает часть чистого продукта страны. Он может сберечь её или же израсходовать. Она может также дать рабочему возможность способствовать защите страны. [Это примечание сделано к третьему изданию.]>. Для человека, имеющего капитал в 20 тыс. ф. ст., приносящий ему ежегодно 2 тыс. ф. ст. прибыли, совершенно безразлично, доставляет ли его капитал занятия 100 или 1 тыс. человек, продаётся ли произведённый товар за 10 тыс. или за 20 тыс. ф. ст., если только прибыль, получаемая им, ни в каком случае не падает ниже 2 тыс. ф. ст. Не таков ли также и реальный интерес целой нации? Если только её чистый действительный доход, её рента и прибыль не изменяются, то не имеет никакого значения, состоит ли эта нация из 10 или 12 млн. людей. Её способность содержать армию и флот и всякого рода непроизводительный труд должна всегда быть пропорциональна её чистому доходу, а не валовому. Если 5 млн. человек могут производить столько предметов пищи и одежды, сколько необходимо для 10 млн., то пища и одежда для 5 млн. составляют чистый доход. Получит ли страна какую-либо выгоду, если для производства того же самого чистого дохода потребуется 7 млн. человек или, другими словами, если 7 млн. человек будут заняты производством одежды и пищи, достаточных для 12 млн. человек? Пища и одежда для 5 млн. продолжали бы оставаться чистым доходом. Использование более значительного числа людей не дало бы нам возможности увеличить число людей в армии и флоте ни на одного человека или внести хотя бы одну лишнюю гинею в виде налога. И если Адам Смит отдаёт преимущество такому употреблению капитала, при котором последний приводит в движение максимальное количество промышленного труда, то он это делает не потому, что, по его мнению, большое население доставляет какие-нибудь особенные выгоды или что при этом большее число человеческих существ может пользоваться благополучием. Нет, Адам Смит отдаёт предпочтение такому употреблению капитала только потому, что оно увеличивает могущество страны <Г-н Сэй меня совершенно не понял, предполагая, что я не придаю никакого значения благополучию столь значительного числа человеческих существ. Полагаю, что текст достаточно ясно показывает, что мои замечания относятся только к тем именно положениям, из которых исходит Адам Смит. [Это примечание сделано только к третьему изданию.]>. Так, он говорит: "Богатство каждой страны, а также могущество её, поскольку это последнее зависит от богатства, всегда должно находиться в соответствии со стоимостью её годового продукта, образующего фонд, за счёт которого в конечном счёте оплачиваются все налоги" <Адам Смит, Исследование о природе и причинах богатства народов, т. I, стр. 315. - Прим. ред.>. Но вполне очевидно, что налогоспособность страны пропорциональна не валовому, а чистому доходу. При распределении различных занятий между всеми странами капитал более бедных наций будет, естественно, применяться в таких отраслях производства, которые дают возможность содержать большое количество труда внутри страны, так как в таких странах очень легко получить предметы пищи и жизненной необходимости для растущего населения. Напротив, в богатых странах, где пища дорога, капитал при свободе торговли будет, естественно, притекать в такие отрасли, которые требуют содержания внутри страны минимального количества рабочих. Таковы транспорт, внешняя торговля с отдалёнными странами и производства, в которых требуются дорогие машины, одним словом, такие отрасли торговли и промышленности, в которых прибыль пропорциональна не количеству использованного труда, а количеству капитала <"Мы может считать большим счастьем, что естественный ход вещей привлекает капитал не в такие занятия, которые были бы наиболее прибыльными для него, а в такие, которые наиболее прибыльны для всего общества" (Say, v. II, p. 122). Г-н Сэй забыл только сказать нам, что это за занятия, которые являются наиболее прибыльными для отдельного лица и не являются прибыльными для государства. Если страны, имеющие очень мало капиталов, но очень много плодородной земли, не торопятся принять участие во внешней торговле, то причина этого заключается в том, что это менее прибыльно для отдельных лиц, а, следовательно, также и для государства>. Я вполне допускаю, что в земледелии определённый капитал, вкладываемый в силу природы ренты в какую угодно землю, но только не в ту, которая позже всех поступила в обработку, приводит в движение большее количество труда, чем такой же капитал, вложенный в обрабатывающую промышленность и торговлю; я, однако, не могу допустить, что есть какое-нибудь различие между количеством труда, применяемого капиталом, вложенным во внутреннюю торговлю, и таким же капиталом, вложенным во внешнюю торговлю. "Капитал, посылающий шотландские промышленные изделия в Лондон, - говорит Адам Смит, - и привозящий обратно в Эдинбург английский хлеб и английские изделия, при каждой такой операции возмещает два британских капитала, причём оба они вложены в сельское хозяйство или мануфактуры Великобритании. Капитал, употребляемый на покупку иностранных товаров для внутреннего потребления, когда эта покупка производится в обмен на продукты отечественной промышленности, при каждой такой операции тоже возмещает два различных капитала, но только один из них затрачивается на поддержку отечественной промышленности. Капитал, отправляющий британские товары в Португалию и ввозящий обратно в Великобританию португальские товары, при каждой такой операции замещает только один британский капитал, другой замещаемый им капитал - португальский. Поэтому, если бы даже обороты внешней торговли предметами потребления были столь же быстры, как и обороты внутренней торговли, капитал, употреблённый в ней, оказывал бы вдвое меньшее поощрение промышленности или производительному труду данной страны" <Адам Смит, Исследование о природе и причинах богатства народов, т. I, стр. 311-312. - Прим. ред.>. Эта аргументация кажется мне ошибочной. Если даже, согласно предположению Адама Смита, употребляются два капитала, из которых один английский, а другой португальский, то всё-таки капитал, затраченный на внешнюю торговлю, в два раза больше, чем капитал, затраченный на внутреннюю. Предположим, что Шотландия употребляет капитал в 1 тыс. ф. ст. на производство полотна, которое она обменивает на продукт одинакового капитала, затраченного на производство шёлковых изделий в Англии. Таким образом, обе страны затрачивают 2 тыс. ф. ст. капитала и занимают соответственное количество труда. Предположим теперь, что Англия узнает, что за шёлковые изделия, которые она прежде вывозила в Шотландию, она может получить гораздо больше полотна из Германии, а Шотландия узнает, что в обмен на своё полотно она из Франции может получить гораздо больше шёлковых изделий, чем из Англии. Разве в этом случае Англия и Шотландия не прекратили бы немедленно торговлю друг с другом и разве внутренняя торговля предметами потребления не превратилась бы немедленно во внешнюю? Разве, несмотря на то, что в этой торговле будут теперь принимать участие два новых капитала: один - германский, а другой - французский, - та же сумма шотландского и английского капитала не будет затрачиваться и в дальнейшем? И не будет ли она приводить в движение такое же количество промышленного труда, как если бы она была затрачена на внутреннюю торговлю? Глава 27. О денежном обращении в банках
Так много <В первом издании глава начиналась следующими словами: "Я не имею намерения утомлять читателя длинным рассуждением по вопросу о деньгах. Так много". - Прим. ред.> писали уже о денежном обращении, что из всех лиц, занимающихся вопросами этого рода, разве одни только предубеждённые игнорируют его истинные принципы. Я поэтому ограничусь только кратким очерком некоторых законов, регулирующих количество обращающихся денег и их стоимость. Стоимость золота и серебра, точно так же как и стоимость всех других товаров, пропорциональна количеству труда, необходимого для их производства и доставки на рынок. Золото почти в 15 раз дороже серебра не потому, что на него существует больший спрос, не потому, что предложение серебра в 15 paз больше, чем предложение золота, а исключительно потому, что для получения определённого количества золота необходимо в 15 раз больше труда, чем для получения соответствующего количества серебра. Количество денег, которое может быть употреблено в стране. зависит от их стоимости: если бы для обращения товаров употреблялось только одно золото, то количество его, которое потребовалось бы для этой цели, было бы в 15 раз меньше того количества серебра, которое было бы необходимо при использовании серебра для той же цели. Обращение никогда не может быть настолько обильным, чтобы выйти из берегов, ибо, уменьшая стоимость средств обращения, вы в том же отношении увеличиваете их количество, а увеличивая их стоимость, уменьшаете их количество. <В первом издании имелось следующее примечание: "Употребление золота и серебра устанавливает, таким образом, в каждой местности известную необходимость в этих товарах, и если страна обладает количеством, нужным для удовлетворения этой потребности, то всё, что ввозится свыше того, представляет, не встречая спроса, бесплатную стоимость, не приносящую пользы их собственникам" (Say, v. I, p. 187). На стр. 196 г-н Сэй говорит: "Предположим, что страна требует для нужд внутреннего сообщения 1 тыс. повозок, а на деле имеет 1 500. Тогда все повозки свыше 1 тыс. будут бесполезны". Отсюда он делает вывод, что если эта страна владеет большим количеством денег, чем это необходимо, то излишек не будет использован.>. Пока государство чеканит монету, не взимая никакой пошлины за чеканку, металлические деньги будут иметь такую же стоимость, как и любой кусок того же металла одинакового веса и пробы. Но если государство взимает известную пошлину за чеканку монеты, то стоимость вычеканенной монеты будет превосходить стоимость куска металла, не подвергшегося чеканке, на всю сумму взысканной пошлины, ибо на производство монеты требуется большее количество труда, или, что то же самое, она приобретается в обмен на стоимость продукта большего количества труда. Пока одно лишь государство занимается чеканкой монеты, трудно поставить какие-либо пределы повышению пошлины за чеканку, ибо путём ограничения количества монет пошлина может быть поднята до какой угодно высоты. Именно на этом принципе основывается обращение бумажных денег: все расходы, сопряжённые с ним, могут быть рассматриваемы как пошлина за чеканку. Хотя бумажные деньги не имеют никакой внутренней стоимости, всё же при ограничении их количества меновая стоимость их так же велика, как и стоимость монет того же наименования или металла, содержащегося в этих монетах. В силу того же самого принципа, а именно благодаря ограничению количества, стёртая монета могла бы обращаться по стоимости, которую она имела бы, если бы обладала законным весом и пробой, а не по стоимости количества металла, который она действительно содержит. Вот почему, как это показывает история британского монетного дела, средства обращения никогда не обесценивались прямо пропорционально уменьшению их веса. Причина этого лежит в том, что количество их никогда не увеличивалось прямо пропорционально уменьшению их внутренней стоимости <Всё, что сказано о золотой монете, относится в равной степени к серебряной, но нет никакой необходимости говорить в каждом отдельном случае об обеих.>. [Полное понимание всех следствий, вытекающих из принципа ограничения количества денег, - вот что имеет наиболее важное значение в деле выпуска бумажных денег. Вряд ли кто-нибудь поверит лет через пятьдесят, что директора банков и министры серьёзно утверждали как в парламенте, так и в парламентских комиссиях, будто выпуски банкнот Английского банка, - размеры которых не ограничивались каким-либо правом держателя требовать в обмен на них золото в монете или слитках, - не оказывали и не могли оказывать никакого влияния на цены товаров, слитков или вексельные курсы.] <Вставка во втором и третьем изданиях. - Прим ред.> После учреждения банков государство не имеет больше исключительной привилегии чеканки денег или выпуска их. Количество денег в обращении может возрастать как вследствие выпуска монеты, так и вследствие выпуска бумажных денег. Поэтому если бы государство выпустило в обращение неполновесную монету, сократив в то же время её количество, то оно не могло бы поддерживать стоимость этих денег, потому что банки имели бы такую же возможность увеличить общее количество находящихся в обращении денег. Согласно этим принципам нет, очевидно, никакой необходимости, чтобы бумажные деньги для обеспечения их стоимости подлежали размену на монету. Необходимо только, чтобы количество их регулировалось в соответствии со стоимостью металла, служащего денежным стандартом. Если бы таковым было золото данного веса и пробы, можно было бы увеличивать количество бумажных денег при каждом падении стоимости золота, или, что то же самое по своим последствиям, при всяком повышении цены товаров. "Благодаря выпуску слишком большого количества бумажных денег, - говорит д-р Смит, - избыток которых постоянно возвращался к нему для обмена на золото и серебро, Английский банк в течение многих лет подряд вынужден был чеканить золотую монету на сумму от 800 тысяч до одного миллиона фунтов в год, или, в среднем, около 850 тысяч. Для чеканки такого большого количества монеты банк (ввиду большой испорченности и стертости золотой монеты в период, охватывающий несколько последних лет) часто бывал вынужден покупать золотые слитки по высокой цене в 4 фунта за унцию, которые он затем выпускал в виде монеты по 3 ф. ст. 17 шилл. 10,5 пенс. за унцию, теряя, таким образом, от двух с половиной до трёх процентов при чеканке монеты на столь крупную сумму. Поэтому, хотя банк не уплачивал пошлины, хотя, собственно, чеканка производилась за счёт правительства, эта щедрость последнего не избавила банк от издержек" <Адам Смит, Исследование о природе и причинах богатства народов, т. I, стр. 253. - Прим. ред.>. На основе установленного выше принципа для меня совершенно ясно, что если бы Английский банк не выпускал опять в обращение предъявленные ему для размена билеты, то стоимость всех находящихся в обращении как неполновесных, так и новых золотых монет повысилась бы, и тогда требования, предъявляемые банку, прекратились бы. Г-н Бьюкенен, впрочем, думает иначе. По его мнению, "большие расходы, которые падали тогда на банк, вызывались не неосторожными выпусками бумажных денег, как думает, повидимому, д-р Смит, а очень плохим состоянием всех находящихся в обращении денег и вследствие этого высокой ценой слитков. Надо заметить, что Английский банк, вынужденный выпускать в обмен на предъявленные билеты новые золотые гинеи, мог получить их, только отсылая на Монетный двор слитки золота для перечеканки их в гинеи <В первом издании имелось следующее примечание: "В сделках, которые правительство заключает с частными лицами, и в сделках частных лиц между собой каждая монета принимается, какое бы наименование ей ни давали, только по своей внутренней стоимости, увеличенной на стоимость, которую к ней прибавляет полезность её чеканки" (Say, v. I, p. 327). "Металлические деньги настолько мало являются знаком, что если отдельные экземпляры теряют стоимость, снашиваясь путём трения, употребления или благодаря мошенничеству обрезывателей, то все предметы возрастают в цене пропорционально порче, которой подверглись деньги. Если правительство предпринимает перечеканку и восстанавливает каждый экземпляр в его законном весе и пробе, то предметы понизятся до своей прежней цены, если только стоимость их не подверглась изменениям в силу других причин" (Say, v. I, p. 346). - Прим. ред.>. Когда в обращении находилось много неполновесных монет и цена слитков соответственно возросла, получать от банка в обмен на бумажные деньги полновесные гинеи стало прибыльным делом: их переплавляли в слитки, продавали с прибылью за банкноты и снова предъявляли последние, чтобы получить новую сумму гиней, которые опять переплавлялись и продавались. И такому отливу золотой монеты Английский банк будет подвергаться всегда, когда в обращении находится неполновесная монета, так как в этом случае постоянный обмен бумажных денег на монеты приносит лёгкий и верный барыш. Следует, однако, заметить, что, как бы ни были иногда велики неудобства и расходы, которыми сопровождался для банка такой отлив золотой монеты, никто никогда не останавливался на мысли освободить его от обязательства платить монетой за банкноты". Г-н Бьюкенен, очевидно, думает, что стоимость всех обращающихся денег необходимо понизится до уровня стоимости стёртой и неполновесной монеты, а между тем путём одного только уменьшения количества обращающихся денег можно поднять стоимость остающихся в обращении денег до уровня стоимости лучших монет. Д-р Смит, повидимому, забыл о принципе, установленном им же самим в его рассуждениях о денежном обращении в колониях. Вместо того чтобы объяснить понижение стоимости бумажных денег в колониях слишком большим количеством их, он задаёт вопрос: будут ли 100 ф. ст., платёж по которым должен последовать через пятнадцать лет, при условии, что колония даёт вполне надёжное обеспечение, стоить столько же, сколько 100 ф. ст., платёж по которым будет произведён немедленно? Я отвечаю: да, если эти деньги не будут выпущены в излишнем количестве. Опыт, однако, показывает, что ни государство, ни банк не пользовались правом неограниченного выпуска бумажных денег без злоупотребления им. Поэтому в каждом государстве выпуск бумажных денег должен подчиняться известным ограничениям и контролю. И трудно указать лучшее средство для достижения этой цели, чем обязанность тех, кто выпускает бумажные деньги, платить за каждый предъявляемый билет золотом в монете или слитках. ["Оградить население <Этот и дальнейшие абзацы до заключительной скобки взяты из памфлета "Предложение в пользу экономного и устойчивого денежного обращения", изданного автором в 1816 г. [См. т. II настоящего издания, стр. 193-197. Эта вставка имеется только во втором и третьем изданиях.]> от всяких других изменений в стоимости денег, кроме тех, которым подвергается стандартный денежный материал, и в то же время удовлетворять впредь нужды обращения с помощью наименее дорогого средства его - значит довести наше денежное обращение до последней степени совершенства. Мы пользовались бы всеми выгодами такого совершенного денежного обращения, если бы на Английский банк была возложена обязанность выдавать в обмен на банкноты не гинеи, а слитки золота или серебра установленной Монетным двором пробы и цены. Благодаря этому падение курса банкнот ниже стоимости слитков сопровождалось бы немедленным ограничением их количества. Чтобы предупредить повышение цены банкнот выше стоимости слитков, следовало бы также обязать банк выдавать банкноты в обмен на золото стандартной пробы по цене в 3 ф. ст. 17 шилл. за унцию. Чтобы избавить банк от всякой лишней работы, количество золота, которое может быть истребовано в обмен на банкноты по монетной цене, т. е. по З ф.ст. 17 шилл. 10 1/2 пенс. за унцию, или количество золота, которое может быть продано банку по цене в 3 ф. ст. 17 шилл., не должно быть меньше 20 унций. Другими словами, Английский банк был бы обязан покупать любое количество предлагаемого ему золота, если оно не меньше 20 унций, по 3 ф. ст. 17 шилл. за унцию <Цена в 3 ф. ст. 17 шилл., о которой говорится в тексте, - конечно, цепа произвольная. Можно было бы, пожалуй, привести доводы в пользу небольшого повышения или понижения её. Назвав цену в 3 ф. ст. 17 шилл., я хотел только дать иллюстрацию к общему положению. Цена должна быть фиксирована таким образом, чтобы продавец золота предпочел скорее продать его Английскому банку, чем отправить на Монетный двор для чеканки. То же самое замечание относится и к выбранному мною минимуму в 20 унций. Могут найтись основания для установления минимума в 10 или 30 унций.> и продавать любое количество его, какое у него могли бы потребовать, по 3 ф. ст. 17 шилл. 10 1/2 пенс. за унцию. Так как Английский банк имеет возможность регулировать количество своих банкнот, он не будет испытывать никаких неудобств вследствие этого постановления. Самая полная свобода должна быть предоставлена в то же время для вывоза и ввоза всякого рода слитков. Операции со слитками были бы очень немногочисленны, если бы Английский банк регулировал свои ссуды и эмиссии, руководствуясь критерием, о котором я так часто упоминал, а именно ценой слитков стандартной пробы, и не считаясь с абсолютным количеством банкнот, находящихся в обращении <Я уже отметил, что, по моему мнению, серебро является самым лучшим стандартом наших денег. Если бы закон признал его таковым, Английский банк был бы обязан покупать или продавать только серебряные слитки. Если бы денежным стандартом было исключительно золото, Английский банк должен был бы продавать и покупать только золото; но если оба металла продолжают считаться стандартами, каковыми они и являются в настоящее время по закону, то Английский банк должен был бы иметь право решать, какой металл он будет давать в обмен на свои банкноты; на серебро же следовало бы установить цену несколько ниже той, по которой он не имел бы права отказываться от покупки серебра.>. Цель, которую я имею в виду, была бы в значительной степени достигнута, если бы Английский банк был обязан выдавать в обмен на предъявляемые ему банкноты слитки установленной цены и пробы, хотя в то же время он не был бы обязан покупать любое количество предлагаемых ему слитков по определенной цене, особенно если Монетный двор оставался бы открытым для чеканки монеты по требованию частных лиц, ведь предлагаемая мною мера ставит себе лишь одну цель: устранить отклонение стоимости денег от стоимости слитков больше, чем на ничтожную разницу между ценами, по которым Английский банк продавал и покупал бы золото. Она приблизила бы нас, таким образом, к тому постоянству стоимости денег, которое считается столь желательным. Если бы Английский банк сократил произвольно количество своих банкнот, стоимость их повысилась бы и золото, повидимому, понизилось бы в своей стоимости ниже того уровня, по которому Английский банк должен был покупать его согласно моему предложению. В этом случае золото могло бы быть отправлено на Монетный двор. Превратившись в монету и будучи введено в обращение, оно понизило бы стоимость денег, и последняя снова соответствовала бы установленному уровню. Всё это сопровождалось бы большим риском, стоило бы дороже и совершилось бы не так легко, как с помощью предложенного мною способа, против которого Английский банк ничего не может возразить, так как ему гораздо выгоднее снабжать обращение банкнотами, чем обязать других снабжать его монетой. При такой системе и таком регулировании денежного обращения Английский банк никогда не испытывал бы никаких затруднений, кроме тех, которые возникают при чрезвычайных условиях, когда паника охватывает всю страну и каждый стремится иметь драгоценные металлы, как наилучшее орудие для реализации или сокрытия своего имущества. Против такой паники банки не имеют гарантии ни при какой системе. Они подвержены ей по самой своей природе, так как ни в Английском банке, ни в стране никогда не может быть такого количества металлических денег или слитков, какое имеют право потребовать владельцы денег данной страны. Если бы все они в один и тот же день истребовали свои вклады у банкиров, то даже в несколько раз большее количество банкнот, чем то, которое находится теперь в обращении, оказалось бы недостаточным для удовлетворения этих требований. Именно паника такого рода явилась причиной кризиса в 1797 г., а не, как предполагали некоторые, большие ссуды, которые Английский банк тогда выдал правительству. Ни Английский банк, ни правительство не заслуживали в то время порицания. Неосновательные опасения пугливой части общества распространились с быстротой эпидемии и вызвали натиск на этот банк. Этот натиск всё равно имел бы место, если бы даже Английский банк не выдавал никаких ссуд правительству и имел вдвое больший капитал. Если бы Английский банк продолжал платить звонкой монетой, то паника, вероятно, улеглась бы раньше, чем истощилась его металлическая наличность. Если принять во внимание те взгляды, которыми руководствовались директора Английского банка при выпуске бумажных денег, то следует признать, что они пользовались своими полномочиями довольно сдержанно. Они, очевидно, применяли свои собственные принципы с величайшей осторожностью. В силу существующих законов они имеют право без какого-либо контроля увеличить или уменьшить размеры денежного обращения во сколько им угодно раз, право, которое не должно быть предоставлено ни государству, ни кому-либо в государстве; если увеличение или уменьшение количества обращающихся денег зависит только от воли тех, кто имеет право выпуска их, то исчезает всякая гарантия постоянства их стоимости. Что Английский банк имеет возможность сократить обращение до минимальных размеров, не будут отрицать даже те, кто вместе с директорами его считают, что последние не имеют власти бесконечно увеличивать количество обращающихся денег. Лично я вполне убеждён, что Английский банк не желал, да и не имел никакой выгоды, воспользоваться своей властью в ущерб интересам публики; однако, представляя себе те вредные последствия, которые могут быть вызваны внезапным и сильным сокращением обращения, а равно и сильным расширением его, я не могу не отнестись с порицанием к той лёгкости, с какой государство вооружило этот банк такой страшной прерогативой. Неудобства, которым подвергались провинциальные банки до приостановки размена банкнот, должны были быть временами очень велики. Во все тревожные моменты или в период ожидания тревоги они были вынуждены скапливать гинеи, чтобы быть готовыми ко всяким могущим возникнуть требованиям. В таких случаях провинциальные банки получали гинеи у Английского банка в обмен на крупные банкноты и поручали их доставку в провинцию за свой счёт и риск какому-нибудь доверенному агенту. Выполнив функцию, для которой они предназначались, гинеи возвращались обратно в Лондон и, по всей вероятности, опять попадали в Английский банк, если только они не испытывали такой потери в весе, которая ставила их ниже законного стандарта. Если бы предлагаемый нами план оплаты банкнот слитками был принят, то необходимо было бы или распространить ту же самую привилегию на провинциальные банки, или сделать банкноты Английского банка законным платёжным средством. В последнем случае не требовалось бы никакого изменения в законодательстве о провинциальных банках, так как они были бы обязаны, точно так же как и теперь, выдавать по востребованию банкноты Английского банка в обмен за свои. Экономия, которая получалась бы вследствие этого, была бы очень значительна: гинеи не теряли бы части своего веса от трения, которому они подвергаются во время своих беспрерывных странствований, а, кроме того, были бы сбережены расходы по их пересылке. Но гораздо большие выгоды дало бы снабжение денежного обращения как в провинции, так и в Лондоне, особенно поскольку речь идёт о мелких платежах, таким дешёвым орудием его, как бумага, вместо дорогостоящего золота. Таким образом, страна получила бы прибыль, какую можно было бы извлечь при производительном использовании капитала, равного всей сбережённой сумме. И мы, конечно, не имели бы никакого основания отказаться от такой безусловной выгоды, если бы только нам не были указаны какие-нибудь специфические неудобства, которыми могло бы сопровождаться пользование более дешёвым орудием обращения".] Денежное обращение находится в самом совершенном состоянии, когда оно состоит целиком из бумажных денег, но бумажных денег, стоимость которых равняется стоимости представляемого ими золота. Употребление бумажных денег вместо золота заменяет самое дорогое орудие обращения наиболее дешёвым и даёт возможность стране без потери для отдельных лиц обменять всё золото, которое употреблялось для целей обращения, на сырые материалы, инструменты и продовольствие. Пользуясь же последними, можно увеличить и богатство страны и комфорт её населения. С точки зрения всей нации, если только бумажное обращение хорошо урегулировано, совершенно безразлично, кто будет заниматься выпуском бумажных денег - правительство или Английский банк. Богатство страны увеличится одинаково в обоих случаях. Иначе представляется дело с точки зрения частных лиц. Для жителей страны, где рыночная норма процента равняется 7 и где государству нужны для какого-нибудь расхода 70 тыс. ф. ст. в год, весьма важно, будут ли они обложены специальным налогом для уплаты этих 70 тыс. ф. ст. в год или они могут уплатить их другим способом, помимо налога. Предположим, что для снаряжения какой-нибудь экспедиции требуется 1 млн. денег. Если бы государство выпустило на 1 млн. бумажных денег и таким образом извлекло бы из обращения 1 млн. в монете, то экспедиция была бы снаряжена без всякого обременения для народа. Но если бы этот миллион был выпущен в обращение бумажными деньгами Английским банком, который ссудил бы его правительству из 7 %, обесценив тем самым миллион в монете, то страна была бы обременена постоянным налогом в 70 тыс. ф. ст. в год; народ вносил бы налог, банк получал бы его, и общество в целом было бы так же богато, как и прежде. Экспедиция была бы действительно снаряжена благодаря улучшению нашей денежной системы, которое сделало возможным производительное употребление капитала стоимостью в 1 млн., затраченного на товар, вместо того чтобы оставаться непроизводительным в форме монеты. Но все выгоды достались бы учреждению, выпустившему бумажные деньги в обращение. А так как государство является представителем народа, то если бы оно, а не Английский банк, выпустило этот миллион, народ мог бы сберечь всю сумму платимого им налога. Я уже указал, что, будь у нас полная гарантия от злоупотреблений выпуском бумажных денег, с точки зрения национального богатства было бы безразлично, кто будет проводить эти выпуски. Теперь же я показал, что население прямо заинтересовано в том, чтобы эти выпуски производились государством, а не компанией купцов или банкиров. Однако опасность таких злоупотреблений гораздо больше, когда право выпуска принадлежит правительству, а не банковой компании. Так, некоторые думают, что компания находилась бы больше под контролем законов. Если бы ей даже было выгодно увеличивать выпуски банкнот в самых неограниченных размерах, она встретила бы препятствие и границу в праве частных лиц требовать в обмен на банкноты монеты или слитки. Указывают также, что если бы правительство пользовалось привилегией выпуска бумажных денег, оно не считалось бы с таким препятствием; что оно скорее склонно принимать во внимание интересы настоящего, чем интересы будущего, и поэтому, ссылаясь на текущие нужды, оно могло бы отменить всякие ограничения, которыми контролировалось бы количество выпускаемых им денег. По отношению к самодержавному правительству такое возражение имело бы большую силу. Но в свободной стране с просвещёнными законодательными учреждениями право выпускать бумажные деньги при условии их разменности по желанию предъявителя могло бы быть без всякой опасности предоставлено назначенным для этой специальной цели комиссарам, которые были бы совершенно независимы от контроля министров. Фонд погашения находится в ведении таких комиссаров, ответственных только перед парламентом, и помещение денег, вверенных их заботам, производится с чрезвычайной правильностью. Какое основание имеем мы сомневаться в том, что выпуск бумажных денег производился бы с такой же правильностью, если бы им управляли тем же способом? Могут сказать, что выгоды, проистекающие для государства, а следовательно и для населения, от выпуска бумажных денег, достаточно очевидны: ведь часть национального долга, по которому население платит проценты, превратилась бы в беспроцентный заём. Однако выпуск бумажных денег правительством был бы невыгоден для торговли, так как купцы теряют при этом возможность занимать деньги и учитывать свои векселя, а именно этим способом Английский банк выпускает в обращение часть своих банкнот. Но это было бы равносильно предположению, что если бы Английский банк не ссужал денег, то их нельзя было бы нигде занять, и что рыночная норма процента и прибыли зависит от размеров выпуска денег и от того, каким путём они попадают в обращение. Но так же как страна не испытывала бы никакого недостатка в сукне, в вине или в каком-нибудь другом товаре, если бы она имела средства для уплаты за все эти предметы, не было бы и никакого недостатка в деньгах для ссуд, если бы заёмщики представляли хорошее обеспечение и были бы готовы заплатить за них рыночную норму процента. В другой части этого труда я старался показать, что действительная стоимость товара регулируется не случайными выгодами, которые могут быть получены некоторыми из производителей этого товара, а теми действительными трудностями, которые встречает на своём пути производитель, находящийся в наименее благоприятном положении. То же самое можно сказать и о проценте по ссудам. Он регулируется не учётным процентом Английского банка, составляет ли последний 5, 4 или 3%, а нормой прибыли, которая может быть получена при затрате капитала и которая совершенно не зависит от количества или стоимости денег. Выдаст ли банк ссуды на 1, 10 или 100 млн., он всё равно не может на продолжительное время изменить рыночную норму процента. Банк может изменить только стоимость денег, которые он таким образом выпускает. В одном случае для ведения какого-нибудь дела может потребоваться в десять или двадцать раз больше денег, чем могло бы потребоваться в другом. Обращения к банку за ссудами денег зависят от сопоставления нормы прибыли, которую можно получить с помощью этих денег, и нормы процента, по которой банк ссужает свои деньги. Если банк взимает меньший процент, чем рыночная норма его, то нет пределов той сумме, которую он мог бы таким образом ссудить, но если процент этот выше рыночной нормы, то разве только расточители и моты согласились бы занимать деньги. Мы видим поэтому, что, когда рыночная норма процента превышает норму в 5%, по которой Английский банк ссужает, как правило, свои деньги, отделение по учёту векселей осаждается желающими получить ссуду. И, наоборот, когда рыночная норма хотя бы временно ниже 5%, служащие в этом отделении сидят без дела. Если Английский банк оказывал, как говорят, в течение последних двадцати лет большую помощь торговле, снабжая купцов деньгами, то это объясняется тем, что в течение всего этого периода процент, по которому он ссужал деньги, был ниже рыночной нормы процента, т. е. ниже той нормы, по которой торговые люди могли достать деньги в другом месте. Но, признаюсь, я лично считаю это скорее доводом против этого учреждения, чем в его пользу. Что сказали бы мы об учреждении, которое регулярно снабжало бы половину всего числа фабрикантов сукна шерстью по цене, которая ниже сё рыночной цены? Какую пользу принесло бы это обществу? Такая практика не содействовала бы развитию нашей промышленности, так как шерсть была бы всё равно куплена, даже если бы указанное учреждение брало за неё полную рыночную цену. Она не понизила бы цену сукна для потребителя, ибо цена, как я уже сказал выше, регулируется издержками производства тех производителей, которые находятся в наименее благоприятном положении. Единственным результатом было бы поэтому поднятие прибыли части фабрикантов сукна выше обычной и всеобщей нормы прибыли. Учреждение лишилось бы части своей законной прибыли, а другая часть общества имела бы выигрыш такого же характера. Именно таково действие нашей банковой системы. Законом устанавливается норма процента, которая ниже рыночной его нормы, и банк должен ссужать деньги по этой норме или вовсе не ссужать. По самой своей природе это учреждение располагает большими суммами, которые оно может использовать только путём отдачи их в ссуду, и часть промышленников совершенно несправедливо и в ущерб для всей страны поставлена в особенно благоприятное положение, пользуясь возможностью получать средства для ведения дела по меньшей цене, чем те, кому приходится добывать себе такие средства по рыночной цене. Промышленная деятельность, которую может развить всё общество, зависит от количества его капитала, т. е. от количества сырых материалов, машин, предметов пищи, кораблей и т. д., употребляемых в производстве. После того как установлено хорошо регулируемое бумажно-денежное обращение, количество этих предметов не может быть ни увеличено, ни уменьшено путём банковых операций. Итак, если государство выпускает в обращение бумажные деньги, которыми пользуется страна, то, хотя бы оно при этом не учитывало ни одного векселя и не ссужало никому ни одного шиллинга, в размерах промышленности не произошло бы никакого изменения, поскольку мы имели бы то же самое количество сырых материалов, машин, предметов пищи и кораблей. Вероятно, ссужались бы такие же суммы денег, но не всегда из 5% - нормы, установленной законом, хотя она и была бы ниже рыночной, а из 6, 7 или 8% - нормы, которая является результатом свободной конкуренции между заимодавцами и заёмщиками. Адам Смит говорит о выгодах, которые предоставляются купцам шотландской системой кредита по сравнению с английской путём открытия текущих счетов. Такие текущие счета представляют собой кредиты, открываемые шотландским банкиром своим клиентам в дополнение к векселям, которые он для них учитывает. Но так как банкир, авансируя деньги и посылая их в обращение одним путём, тем самым ограничивает для себя возможность пускать их в обращение другим, то очень трудно заметить в чём заключается выгода. Если всё обращение может поглотить только 1 млн. бумажных денег, то в обращении будет находиться только 1 млн. И ни для банкира, ни для торговца не имеет никакого значения, выпущена ли вся эта сумма путём учёта векселей или же только одна часть её, в то время как другая выпущена в форме указанных текущих счетов. Необходимо, быть может, сказать ещё несколько слов по вопросу о двух металлах - золоте и серебре, употребляемых для денежного обращения, тем более, что этот вопрос, повидимому, осложнил для многих людей ясные и простые принципы денежного обращения. "В Англии, - говорит д-р Смит, - золото долгое время после того, как стали чеканить золотую монету, не признавалось законным платёжным средством. Соотношение между стоимостью золотой и серебряной монеты не было установлено никаким законодательным актом или указом, это было предоставлено установить рынку. Если должник предлагал уплатить золотом, кредитор мог или отвергнуть такой платёж, или согласиться на него, причём золото при этом расценивалось по соглашению между ним и его должником" <Адам Смит, Исследование о природе и причинах богатства народов, т. I, стр. 38. - Прим. ред.>. Вполне понятно, что при таком положении вещей гинея могла стоить 22 шилл. или ещё больше, а иногда 18 шилл. и ещё меньше, причём курс её зависел исключительно от изменения в относительной рыночной стоимости золота и серебра. Кроме того, все изменения в стоимости золота, точно так же как и в стоимости серебра, определялись в золотой монете, и казалось, что стоимость серебра как будто не изменяется и что повышению и понижению подвергалась только стоимость золота. Таким образом, хотя гинея стоила 22 шилл. вместо 18, стоимость золота могла и не измениться; изменение могло произойти исключительно в стоимости серебра, и, следовательно, 22 шилл. могли стоить не больше, чем 18 шилл. стоили прежде. И, наоборот, изменение могло произойти исключительно в стоимости золота, и стоимость гинеи, которая прежде стоила 18 шилл., могла подняться до 22 шилл. Если мы предположим теперь, что серебряные монеты потеряли часть своего веса вследствие обрезывания и что, кроме того, количество их увеличилось, то гинея могла бы в этом случае стоить 30 шилл., так как серебро, заключающееся в 30 шилл. такой стёртой монеты, могло бы стоить не больше, чем золото, заключающееся в одной гинее. Если мы заменим стёртую серебряную монету новой - по стоимости Монетного двора, - то стоимость серебряных денег опять повысится. И в этом случае будет казаться, что стоимость золота понизилась, так как гинея теперь будет, вероятно, стоить не больше, чем стоит 21 полновесный шиллинг. Если золото в свою очередь становится законным платёжным средством и каждый должник может по желанию уплатить свой долг с помощью 420 серебряных шилл., или 20 гиней, за каждый 21 ф. ст., которые он должен, то он выберет тот или другой способ, смотря по тому, каким из них он может дешевле уплатить свой долг. Если за 5 квартеров пшеницы должник может получить слиток золота, который на Монетном дворе был бы перечеканен в 20 гиней, и за ту же самую пшеницу - столько серебра, что после перечеканки его на Монетном дворе он получил бы 430 шилл., он предпочтёт заплатить свой долг серебром, так как он выигрывает при этом 10 шилл. Но если за эту пшеницу он получит, наоборот, столько золота, что после перечеканки у него будет 20 1/2 гиней, и столько серебра, что после перечеканки у него окажется только 420 шилл., он, вполне естественно, предпочтёт заплатить свой долг серебром. Если же количество золота, полученное им, после перечеканки даст только 20 гиней, а количество серебра - 420 шилл., то для него совершенно безразлично, в какой монете он уплатит свои долг - в серебряной или золотой. Итак, это не дело случая. Золото не потому предпочтительно употребляется для уплаты долгов, что оно лучше приспособлено для обращения богатой страны, а просто потому, что это выгодно должнику. В течение долгого периода до 1797 г., когда Английский банк ограничил свои платежи звонкой монетой, золото в сравнении с серебром было так дёшево, что Английскому банку и всем другим должникам выгодно было покупать на рынке золото, а не серебро, чтобы отправить его на Монетный двор для перечеканки и таким путём погашать свои обязательства наиболее дешёвым для себя способом. Серебряное обращение в течение большей части этого периода состояло из стёртых и неполновесных монет. Но количество последних было ограничено, и, следовательно, в силу развитого мною прежде принципа курс, по которому они обращались, никогда не падал. Несмотря на плохое состояние серебряной монеты, должникам всё-таки было выгодно платить свои долги в золотой монете. Конечно, если бы количество таких неполновесных серебряных монет было чрезвычайно велико или если бы Монетный двор выпускал в обращение неполновесные монеты, должникам было бы выгодно уплачивать свои долги в такой монете. Но количество её было ограничено, и она сохранила свою стоимость, так что на практике действительным денежным стандартом было золото. Никто не отрицает, что дело происходило именно таким образом. Но некоторые утверждали, что это вызвано было законом, в силу которого серебро могло служить законным платёжным средством только при уплате долгов не свыше 25 ф. ст., а при погашении более крупных обязательств оно принималось лишь по весу, соответственно пробе Монетного двора. Но этот закон не мог помешать ни одному должнику уплатить свой долг, как бы ни была велика его сумма, в серебряной монете, только что вышедшей с Монетного двора. Если должник не пользовался этим металлом, то он делал это не случайно и не по принуждению, а только по своему выбору. Ему просто было невыгодно отправлять на Монетный двор серебро, и он предпочитал отправлять туда золото. Если бы количество находившихся в обращении неполновесных серебряных монет было чрезвычайно велико и серебро было законным платёжным средством, гинея, вероятно, опять стоила бы 30 шилл. Но в этом случае произошло бы падение стоимости неполновесного шиллинга, а не повышение стоимости гинеи. Итак, оказывается, что, пока каждый из этих двух металлов мог одинаково служить законным средством для уплаты долгов любых размеров, мы были подвержены постоянной перемене в нашей главной стандартной мере стоимости. Исключительно в зависимости от изменений в относительной стоимости двух металлов таковой бывало иногда золото, иногда серебро. И всякий раз, когда один из этих металлов переставал быть стандартной мерой стоимости, он переплавлялся и извлекался из обращения, так как стоимость его в слитках была выше его стоимости в монете. Это представляло, конечно, такое неудобство, устранить которое было в высшей степени желательно. Но движение по пути прогресса было очень медленным: хотя это неудобство было уже неопровержимо разъяснено г-ном Локком и с того времени отмечалось всеми экономистами по вопросу о деньгах, более рациональная система была введена только в парламентскую сессию 1816 г.; согласно принятому тогда закону только одно золото может служить законным платёжным средством при уплате сумм свыше 40 шилл. Д-р Смит не имел, повидимому, вполне ясного представления о всех следствиях одновременного употребления двух металлов и для денежного обращения и как законных платёжных средств по долговым обязательствам любых размеров. Так, он говорит, что "в действительности, пока держится определённое соотношение между стоимостями различных металлов в монете, стоимость самого дорогого металла определяет стоимость всех монет" <Адам Смит, Исследование о природе и причинах богатства народов, т. I, стр. 39. - Прим. ред.>. Так как золото в его время было для должников наиболее выгодным средством уплаты их долгов, то Адам Смит думал, что золото имеет какое-то присущее ему свойство, делающее его в данное время и всегда особенно пригодным для регулирования стоимости серебряных монет. После реформы золотого монетного обращения в 1774 г. новая гинея, только что вышедшая с Монетного двора, обменивалась на 21 неполновесный шиллинг. Но в царствование короля Вильяма, когда серебряная монета находилась не в лучшем положении, такая же новая, только что вышедшая с Монетного двора гинея обменивалась на 30 шилл. По этому поводу г-н Бьюкенен замечает: "Мы имеем в данном случае дело с очень странным явлением, которое не может быть объяснено обычными теориями денежного обращения. В один период гинея обменивается на 30 шилл., т.е. на действительно присущую ей стоимость, выраженную в неполновесной серебряной монете, а в другой - та же самая гинея обменивается только на 21 такой же неполновесный шиллинг. Ясно, что между этими двумя периодами в состоянии денежного обращения должно было произойти какое-нибудь большое изменение, которому гипотеза д-ра Смита не даёт никакого объяснения" <Buchanan, v. I, p. 65. - Прим. ред.>. Мне кажется, что это затруднение очень легко устраняется, если мы объясним различную стоимость гинеи в два упомянутых периода различными количествами неполновесной серебряной монеты, находившейся в обращении. В царствование Вильяма золото не служило законным платёжным средством, оно принималось в уплату только по заранее установленной стоимости. Все большие платежи, вероятно, производились в серебре, тем более что в то время бумажное обращение и банковые операции были очень мало известны. Количество стёртых серебряных монет превышало то количество серебряных денег, какое имелось бы в обращении при употреблении только полновесной монеты, и в результате последняя была обесценена в такой же степени, как и неполновесная монета. Но в последующую эпоху, когда золото стало законным платёжным средством, когда для уплаты употреблялись также и банкноты, количество стёртой серебряной монеты не превышало того количества её, которое только что вышло с Монетного двора и находилось бы в обращении, если бы неполновесной серебряной монеты не существовало. Поэтому, хотя серебряные деньги потеряли в весе, они не были обесценены. Объяснение г-на Бьюкенена несколько отличается от моего. Г-н Бьюкенен думает, что только основной металл, находящийся в обращении, может быть обесценен, а не вспомогательный. В царствование Вильяма главным металлом, находившимся в обращении, было серебро, и поэтому оно могло быть обесценено. В 1774 г. оно было вспомогательным и поэтому сохранило свою стоимость. Но обесценение не зависит, однако, от того, является ли данный металл главным или вспомогательным в обращении, оно зависит целиком от избытка его количества. <Лорд Лодердаль недавно утверждал в парламенте, что при существующем монетном уставе Английский банк не мог бы платить по своим банкнотам монетой, потому что при данной относительной стоимости двух металлов всем должникам будет гораздо выгоднее платить свои долги в серебряной монете, а не в золотой, и в то же время закон даёт кредиторам Английского банка право требовать золото в обмен на предъявляемые банкноты. Это золото, по мнению лорда, могло бы вывозиться с выгодой, а в таком случае банк, чтобы обеспечить себе необходимое ему количество золота, был бы вынужден покупать постоянно золото с премией и продавать его al pari. Если бы каждый должник мог платить серебром, лорд Лодердаль был бы прав, но так не смогут поступить должники, долг которых превышает 40 шилл. Последнее обстоятельство ограничило бы количество обращающейся серебряной монеты (если бы правительство само не оставило за собой право прекратить чеканку этой монеты, когда оно сочло бы это нужным). При слишком большой чеканке серебряной монеты стоимость её понизилась бы, и никто не принимал бы её в уплату долга, превышающего 40 шилл., без вознаграждения за её низшую стоимость. Чтобы уплатить долг в 100 ф. ст., понадобилось бы 100 соверенов золотом или банкнот на сумму 100 ф. ст., но если бы в обращении находилось слишком много серебра, то потребовалось бы 105 ф. ст. серебряной монеты. Итак, имеются два препятствия к переполнению обращения серебром: во-первых, непосредственное препятствие, так как правительство может в любое время приостановить дальнейшую чеканку серебра; во-вторых, отсутствие стимула к отправке серебра на Монетный двор даже при возможности это сделать: ведь если бы серебро было перечеканено в монету, оно принималось бы в уплату не по его монетной цене, а только по рыночной стоимости. [Это примечание имеется только во втором и третьем изданиях.]>. Нельзя почти ничего возразить против умеренной пошлины за чеканку монеты, особенно если речь идёт о деньгах, которые служат для мелких платежей. Деньги обыкновенно увеличиваются в стоимости на всю сумму пошлины. Такая пошлина нисколько поэтому не затрагивает тех, кто её платит, пока в обращении не находится излишнее количество денег. Следует, однако, заметить, что в стране, где установилось бумажно-денежное обращение, - даже при обязательстве со стороны эмиссионных учреждений разменивать бумажные деньги по предъявлении на звонкую монету, - как банкноты, так и монеты могут одинаково подвергнуться обесценению на всю сумму пошлины за чеканку последней, ибо только она является законным платёжным средством. И это обесценение произойдёт ещё раньше, чем начнёт действовать механизм, ограничивающий бумажно-денежное обращение. Если пошлина за чеканку золотой монеты составляла бы, например, 5%, то денежное обращение вследствие обильного выпуска банкнот могло бы в действительности подвергнуться обесценению на 5% ещё до того, как держателям банкнот стало бы выгодно требовать в обмен на них звонкую монету, чтобы переплавлять её в слитки. Такое обесценение не могло бы произойти, если бы не существовало пошлины за чеканку золотой монеты или если бы даже при существовании такой пошлины держатели банкнот могли бы в обмен на них требовать не звонкую монету, а только слитки по монетной цене в 3 ф. ст. 17 шилл. 10 1/2 пенс. Поэтому, - если только Английский банк не будет вынужден разменивать свои банкноты по желанию предъявителей на слитки или монету, - последний закон, устанавливающий пошлину в 6%, или 4 пенса за унцию, за чеканку серебра и освобождающий чеканку золота на Монетном дворе от всякой пошлины, является, быть может, наиболее целесообразным, так как он самым действительным образом устраняет ненужные изменения в количестве обращающихся денег. <В первом издании здесь имелось следующее примечание: "Г-н Сэй предпочитает, чтобы сбор, взимаемый за чеканку, изменялся соответственно количеству работы, производимой Монетным двором. "Правительство должно было бы чеканить слитки частных лиц за плату, покрывающую не только расходы, но и прибыль чеканки. Эта прибыль может быть доведена до значительной высоты в силу исключительной привилегии чеканки, но она должна изменяться в соответствии с условиями работы Монетного двора и с количеством монет, требующихся для обращения" (т. I, стр. 380). Такое правило было бы в высшей степени гибельно и подвергло бы нас значительным и излишним изменениям в слитковой стоимости обращающихся денег">. Глава 28. О сравнительной стоимости золота, хлеба и труда в богатых и бедных странах
"Золото и серебро, как и все другие товары, - говорит Адам Смит, - естественно, ищут рынок, где за них дают лучшую цену, а лучшая цена обычно даётся за всякую вещь в той стране, которая может заплатить за неё больше. Но следует помнить, что труд представляет собою в последнем счёте ту цену, которая уплачивается за всякую вещь, и в странах, в которых труд оплачивается одинаково хорошо, денежная цена труда пропорциональна денежной цене средств существования рабочего. Но золото и серебро, естественно, обмениваются на большее количество средств существования в богатой стране, чем в бедной, в стране, изобилующей средствами существования, чем в стране, которая недостаточно снабжена ими" <Адам Смит, Исследование о природе и причинах богатства народов, т. I, стр. 169. - Прим. ред.>. Но хлеб - такой же товар, как золото, серебро и другие предметы. Если, следовательно, все товары в богатой стране имеют высокую меновую стоимость, то хлеб не будет составлять исключения. Поэтому мы с полным основанием можем сказать, что хлеб обменивался на большую сумму денег, потому что он дорог, и что деньги в свою очередь обменивались на большое количество хлеба, потому что они были также дороги, а это означает, что хлеб в одно и то же время дорог и дёшев. Ни одно положение в политической экономии не установлено лучше, чем следующее: в богатой стране население увеличивается вследствие возрастающей трудности добывания пищи не в такой пропорции, как в бедной стране. Эта трудность необходимо должна повышать относительную цену предметов пищи и поощрять их ввоз. Каким же образом могут тогда деньги, золото или серебро обмениваться в богатых странах на большее количество хлеба, чем в бедных? Только в богатых странах, где хлеб дорог, землевладельцы настаивают на том, чтобы законодательные органы запретили ввоз хлеба. Кто слышал когда-нибудь о законе, который запрещал бы ввоз сырых материалов в Америку или Польшу? Природа сама ставит гораздо более действительные преграды ввозу таких предметов благодаря сравнительной лёгкости их производства в этих странах. Как же можно утверждать в таком случае, что "за исключением хлеба и других растений, разводимых человеческим трудом, все другие виды сырых продуктов - скот, птица, всякого рода дичь, полезные ископаемые и металлы - становятся, естественно, дороже по мере возрастания богатства и культуры общества" <Адам Смит, Исследование о природе и причинах богатства народов, т. I, стр. 192. - Прим. ред.>. Почему делается исключение только для хлеба и других сельскохозяйственных растений? Ошибка д-ра Смита, проходящая красной нитью через весь его труд, заключается в предположении, что стоимость хлеба представляет постоянную величину и что, хотя стоимость всех других вещей может повыситься, со стоимостью хлеба это никогда не может произойти. По его мнению, хлеб всегда имеет одинаковую стоимость, потому что он всегда может прокормить одинаковое число людей. Точно таким же образом можно сказать, что сукно всегда имеет одну и ту же стоимость, потому что из него всегда можно сделать одно и то же количество сюртуков. Что общего имеет стоимость со способностью служить предметом пищи и одежды? Как и всякий другой товар, хлеб в каждой стране имеет свою естественную цену, т. е. цену, необходимую для его производства и достаточную для того, чтобы хлеб мог возделываться. Именно эта цена управляет его рыночной ценой и определяет целесообразность вывоза его в чужие страны. Если бы в Англии ввоз хлеба был воспрещён, его естественная цена могла бы подняться здесь до 6 ф. ст. за квартер, тогда как во Франции она составляла бы лишь половину этой суммы. Если бы запрещение ввоза было отменено, цена хлеба на английском рынке упала бы, но в своём падении она остановилась бы не на какой-нибудь цене между 6 ф. ст. и 3 ф. ст. за квартер, а остановилась бы в конце концов и удержалась бы надолго на естественной цене хлеба во Франции, т. е. на цене, по которой он может быть доставлен на английский рынок и принести обычную установившуюся прибыль на капитал во Франции. Цена оставалась бы на этом уровне независимо от того, потребляла бы Англия 100 тыс. или 1 млн. квартеров. Если бы спрос Англии достиг последней цифры, то благодаря необходимости обратиться к обработке худших участков для доставки этого большего количества хлеба естественная цена его во Франции, вероятно, повысилась бы, а это в свою очередь повлияло бы на повышение цены хлеба в Англии. Я настаиваю только на том, что именно естественная цена товаров в вывозящей стране регулирует в конечном счёте цены, по которым они должны быть проданы, - если, конечно, они не являются предметом монополии, - в стране ввозящей. Но д-р Смит, так искусно защищавший теорию, согласно которой рыночная цена в конечном счете регулируется естественной ценой товаров, предположил случай, в котором, по его мнению, рыночная цена не регулируется естественной ценой ни вывозящей, ни ввозящей страны. "Пусть уменьшится реальное богатство Голландии или генуэзской области, - говорит он, - при неизменной численности их населения; пусть уменьшится их способность снабжать себя продовольствием из отдалённых стран; в таком случае цена хлеба вместо того, чтобы понизиться вместе с уменьшением количества их серебра, которое неизбежно должно сопутствовать такому материальному упадку в качестве его причины или следствия, повысится до размеров голодной цены" <Адам Смит, Исследование о природе и причинах богатства народов, т. I, стр. 171. - Прим. ред.>. Мне же кажется, что произошло бы совершенно обратное явление: уменьшение общей покупательной способности голландцев или генуэзцев могло бы вызвать временное падение цены хлеба ниже его естественной цены как в стране, откуда он вывозится, так и в стране, куда он ввозится, но ни в каком случае это уменьшение не могло бы повлечь за собой поднятие цены хлеба выше его естественной цены. Только увеличивая богатство голландцев или генуэзцев, вы можете увеличить спрос и поднять цену хлеба выше его прежней цены. И это продолжалось бы очень короткое время, если бы только не возникли новые затруднения при получении требуемого количества. Далее д-р Смит делает следующее замечание: "Когда мы нуждаемся в предметах существования, мы вынуждены отказаться от всего излишнего, и стоимость всех этих излишних предметов, повышающаяся во времена благосостояния и процветания, понижается в периоды бедности и упадка". Всё это, несомненно, верно, но он продолжает: "Иначе бывает с предметами первой необходимости. Их действительная цена, т. е. количество труда, на которое они могут быть обменены, повышается в периоды бедности и нужды и падает в периоды благосостояния и процветания, которые всегда являются вместе с тем временем большого изобилия, так как без изобилия не было бы ни благосостояния, ни процветания. Хлеб представляет собою предмет первой необходимости, а серебро - лишь предмет роскоши, без которого можно обойтись" <Адам Смит, Исследование о природе и причинах богатства народов, т. I, стр. 171. - Прим. ред.>. Здесь делаются два предположения, не имеющие никакой связи друг с другом: одно - согласно которому при предположенных условиях с помощью хлеба можно располагать большим количеством труда; это никем не оспаривается; другое - что хлеб может продаваться по более высокой денежной цене и может обмениваться на большее количество серебра; второе предположение я считаю ошибочным. Оно могло бы быть верным, если бы хлеб в то же время имелся в недостаточном количестве, если бы обычно предлагаемое количество не было доставлено. Но в данном случае хлеб имеется в изобилии; предположения, что ввезено меньшее количество хлеба, чем обыкновенно, или что его требуется больше, не делается. Для покупки хлеба голландцы или генуэзцы нуждаются в деньгах, и, чтобы добыть эти деньги, они вынуждены продавать принадлежащие им предметы роскоши. Упадёт как раз рыночная стоимость и цена этих последних, а стоимость денег повысится только в сравнении с их стоимостью. Но это не создаёт тенденции к увеличению спроса на хлеб и к понижению стоимости денег, а только в силу этих двух причин может подняться цена хлеба. Вследствие отсутствия кредита или других причин на деньги может существовать большой спрос, и они, следовательно, будут дороги в сравнении с хлебом. Но нет никаких серьёзных оснований утверждать, что при этих обстоятельствах деньги были бы дёшевы и что, следовательно, цена хлеба поднялась бы. Когда мы говорим о высокой или низкой стоимости золота, серебра или какого-нибудь другого товара в различных странах, мы всегда должны при этом указать какую-нибудь меру для их оценки. Иначе наше утверждение не связано ни с каким представлением. Так, например, если нам говорят, что золото в Англии дороже, чем в Испании, то какое представление вызывает это утверждение, если при этом не называется ни один товар? Если хлеб, маслины, растительное масло, вино и шерсть в Испании дешевле, чем в Англии, то золото, поскольку оно оценивается в этих товарах, в Испании дороже. И опять-таки, если металлические изделия, сахар, сукно и т. д. в Англии дешевле, чем в Испании, то, поскольку золото оценивается в этих товарах, оно дороже в Англии. Золото в Испании будет казаться дороже или дешевле, смотря по тому, какой товар заблагорассудится выбрать наблюдателю как меру для установления стоимости. Так как Адам Смит считает всеобщей мерой стоимости хлеб и труд, то он, конечно, будет оценивать сравнительную стоимость золота тем количеством этих двух предметов, на которые оно будет обмениваться. Поэтому, когда он говорит о сравнительной стоимости золота в двух странах, он, по моему мнению, подразумевает стоимость его, выраженную в хлебе и труде. Но мы уже видели, что, поскольку стоимость золота оценивается в хлебе, она может быть совершенно различна в двух странах. Я старался показать, что она будет низка в богатых странах и высока в бедных. Адам Смит держится другого мнения. Он думает, что стоимость золота, поскольку оно оценивается в хлебе, выше всего в богатых странах. Мы не будем вдаваться в дальнейший разбор правильности этих двух мнений. Каждое из них одинаково приводит к выводу, что стоимость золота не будет обязательно ниже в странах, которые владеют рудниками, хотя это положение поддерживается Адамом Смитом. Предположим, что Англия владеет рудниками и что Адам Смит, полагающий, что стоимость золота выше всего в богатых странах, прав. Хотя золото уходило бы из Англии во все другие страны в обмен на их товары, из этого ещё вовсе не следует, что стоимость золота в сравнении со стоимостью хлеба и труда будет обязательно ниже в Англии, чем в этих странах. Впрочем, в другом месте Адам Смит говорит, что стоимость драгоценных металлов в Испании и Португалии должна быть обязательно ниже, чем в других частях Европы, потому что обе эти страны являются почти исключительными владельцами драгоценных рудников, доставляющих золото и серебро. "Польша, где феодальная система продолжает ещё существовать, является в настоящее время столь же нищенской страной, какою она была до открытия Америки. Однако денежная цена хлеба повысилась; реальная стоимость драгоценных металлов в Польше понизилась точно так же, как и в других частях Европы. Их количество поэтому должно было увеличиться там, как и в других странах, и почти в такой же пропорции, в какой увеличился годичный продукт её земли и труда. Но это увеличение количества драгоценных металлов не увеличило, как кажется, годового продукта страны, не привело к улучшению её фабрик и земледелия, не улучшило положения её обитателей. Испания и Португалия, страны, обладающие рудниками, являются после Польши, пожалуй, самыми нищенскими странами Европы. Однако стоимость драгоценных металлов должна быть ниже в Испании и Португалии, чем в какой-либо другой части Европы, поскольку они попадают из этих стран во все остальные страны Европы, обременённые не только стоимостью перевозки и страховки, но и издержками на контрабандный провоз ввиду того, что их вывоз или совсем воспрещён, или обложен пошлиной. Поэтому по отношению к годовому продукту земли и труда их количество в этих странах должно быть больше, чем в любой другой стране Европы. Между тем эти страны беднее других частей Европы. Хотя феодальная система была отменена в Испании и Португалии, она не была заменена чем-либо лучшим" <Адам Смит, Исследование о природе и причинах богатства пародов, т. I, стр. 212. - Прим. ред.>. Аргументация д-ра Смита, повидимому, такова: поскольку золото оценивается в хлебе, оно в Испании дешевле, чем в других странах. И это доказывается не тем, что хлеб даётся Испании другими странами в обмен на золото, а тем, что сукно, сахар, металлические изделия отдаются другими странами в обмен на этот металл Глава 29. Налоги, уплачиваемые производителем
Г-н Сэй сильно преувеличивает неудобства, проистекающие от того, что налог на промышленные товары взимается на ранней стадии их изготовления, а не на более поздней. Он замечает, что фабриканты, через руки которых последовательно проходит товар, должны употреблять более значительные средства вследствие необходимости авансировать налог, а это часто ставит в затруднительное положение фабриканта, обладающего очень ограниченным капиталом и кредитом. Против этого замечания нельзя ничего возразить. Другое неудобство, на котором он останавливается, заключается в том, что вследствие авансирования налога прибыль на аванс должна также быть получена с потребителя, но из этого добавочного налога казначейство не извлекает никакой выгоды. С последним доводом г-на Сэя я не могу согласиться. Предположим, что государство вынуждено немедленно собрать сумму в 1 тыс. ф. ст. и взимает её с фабриканта, который только по истечении 12 месяцев в состоянии будет переложить эту сумму в цене законченного товара на потребителя. Вследствие этой отсрочки он вынужден повысить цену своего товара не только на добавочную сумму в 1 тыс. ф. ст., т. е. на сумму налога, а, вероятно, на сумму в 1 100 ф. ст., из которых 100 ф. ст. составляют проценты на авансированный капитал в 1 тыс. ф. ст. Но взамен за добавочные 100 ф. ст., уплачиваемые потребителем, последний получает действительную выгоду, поскольку уплата налога, который требуется правительством немедленно и который он в конечном счёте должен оплатить, откладывается на целый год. Он, таким образом, может ссудить фабриканту, нуждающемуся в деньгах, 1 тыс. ф. ст. из 10% или из какого-нибудь другого процента по взаимному соглашению. 1 100 ф. ст., которые должны быть уплачены по истечении года, стоят, исходя из 10%, не больше, чем 1 тыс. ф. ст., которые должны быть уплачены немедленно. Если бы правительство отсрочило взимание налога на год, пока производство товара было бы вполне закончено, оно было бы, может быть, вынуждено выпустить казначейские обязательства, приносящие известный процент. Оно платило бы, таким образом, столько денег в виде процента, сколько потребитель сберёг бы на цене, за исключением, правда, той части цены, которую фабрикант имел бы возможность прибавить к своему действительному барышу благодаря налогу. Если бы правительство должно было платить 5% по своим казначейским обязательствам, то, не выпуская их, оно сберегло бы 50 ф. ст. налогов. Если бы фабрикант занял необходимый ему добавочный капитал из 5% и взял с потребителя 10%, он получил бы кроме обычной прибыли ещё 5% на авансированный капитал. Таким образом, фабрикант и правительство вместе выиграли бы или сберегли точно такую же сумму, какую уплачивает потребитель. Г-н Симонд <Симонд де Сисмонди. - Прим. ред.>, развивая дальше аргументацию Сэя, в своём прекрасном сочинении "De la Richesse Commerciale" вычислил, что если бы товар должен был пройти только через руки пяти различных лиц, то налог в 4 тыс. фр., уплаченный сначала фабрикантом при умеренной прибыли в 10%, возрос бы для потребителя до суммы в 6 734 фр. Этот расчёт основан на предположении, что тот, кто первый авансирует налог, получит от следующего фабриканта 4 400 фр., а этот в свою очередь от следующего за ним 4 840 фр., и так каждый раз при переходе товара в руки следующего фабриканта к стоимости его будет прибавляться 10%. Это было бы равносильно предположению, что стоимость налога накопляется по сложным процентам, т. е. не по годичной норме в 10%, а по абсолютной норме в 10%, прибавляемой при всякой последовательной передаче товара. Положение г-на Симонда было бы верно, если бы между первым авансированием налога и продажей обложенного товара потребителю прошёл срок в пять лет. Но если бы прошёл только один год, то не 2 734, а 400 фр. составили бы 10% вознаграждения всем, кто авансировал этот налог, независимо от того, прошёл ли товар через руки 5 или 50 фабрикантов. Глава 30. О влиянии спроса и предложения на цены
Цена товаров регулируется в конечном счёте издержками производства, а не, как это часто утверждали, отношением между предложением и спросом. Конечно, отношение между предложением и спросом может временно повлиять на рыночную стоимость товара, пока он не будет предложен в большем или меньшем количестве соответственно возрастанию или уменьшению спроса. Но это влияние будет носить временный характер. Уменьшите издержки производства шляп, и цена их в конце концов упадёт до размеров их новой естественной цены, хотя бы спрос на них удвоился, утроился или учетверился. Уменьшите издержки производства средств существования путём уменьшения естественной цены предметов пищи и одежды, служащих для поддержания жизни, и заработная плата в конце концов упадёт, несмотря на то, что спрос на рабочих может очень сильно возрасти. Мнение, что цена товаров зависит исключительно от отношения предложения к спросу или наоборот, превратилось в политической экономии почти в аксиому и стало источником многих ошибок в этой пауке. Именно это мнение заставило г-на Бьюкенена утверждать, что заработная плата не находится ни в какой зависимости от роста или падения цен пищевых продуктов, а зависит только от отношения между спросом на труд и его предложением и что налог на заработную плату не повысит её, потому что он не изменит отношения между спросом на рабочих и их предложением. Нельзя говорить о возрастании спроса на товар, если не покупается или не потребляется добавочное количество его, и, однако, его денежная стоимость может возрастать при этих условиях. Так, если бы стоимость денег упала, поднялась бы цена всякого товара, так как каждый из конкурентов согласен был бы истратить на покупку товара больше денег, чем прежде. Хотя цена последнего возросла бы на 10 или 20%, однако при условии, что он покупается не в большем количестве, чем прежде, было бы, по моему мнению, недопустимо утверждать, что такое изменение в цене вызвано возросшим спросом на данный товар. Его естественная цена, его издержки производства, выраженные в деньгах, действительно изменились бы вследствие изменения стоимости денег, и цена товара без какого-нибудь возрастания спроса на него, естественно, приспособилась бы к его новой стоимости. "Мы видели, - говорит г-н Сэй, - что издержки производства определяют низшую цену, по которой могут продаваться товары, цену, ниже которой товары не могут продаваться в течение сколько-нибудь продолжительного времени, так как производство их в этом случае либо совсем прекратилось бы, либо уменьшилось бы" (т. II, стр. 26). В другом месте он говорит, что так как спрос на золото со времени открытия золотых рудников увеличился ещё в большей степени, чем его предложение, то "цена его, выраженная в товарах, вместо того чтобы упасть в отношении 10 : 1, упала только в отношении 4 : 1". Иначе говоря, вместо того чтобы упасть пропорционально падению естественной цены золота, цена его упала только пропорционально превышению спроса над предложением <"Если бы при том количестве золота и серебра, какое имеется в настоящее время, эти металлы служили только для производства посуды и украшений, они оказались бы в изобилии и были бы дешевле, чем теперь; другими словами, при обмене их на другие товары мы должны были бы отдавать относительно большее количество этих металлов. Но так как большее количество их употребляется для чеканки денег и эта часть их не используется ни для какой другой цели, на производство утвари и ювелирных вещей остаётся значительно меньшее количество, и вызванная этим редкость их увеличивает их стоимость" (Say, v. II, р. 316. См. также прим. к стр. 78)>. "Стоимость каждого товара всегда возрастает прямо пропорционально спросу и обратно пропорционально предложению" <Say, v. II, р. 395. - Прим. ред.>. Этого же мнения придерживается и лорд Лодердаль. "Изменениям в стоимости может подвергаться всякий предмет, обладающий ею. Если бы мы могли на время предположить, что какое-нибудь вещество обладает присущей ему постоянной стоимостью, так что известное количество его имеет всегда и при всяких условиях одинаковую стоимость, то уровень стоимости всех предметов, установленный с помощью этой постоянной меры, изменялся бы соответственно отношению между их количеством и спросом на них; поэтому стоимость всякого товара была бы подвержена изменениям в силу четырёх различных обстоятельств: 1. Стоимость товара должна была бы увеличиться, если бы уменьшилось его количество. 2. Стоимость его должна была бы уменьшиться, если бы увеличилось его количество. 3. Стоимость его могла бы увеличиться, если бы возрос спрос на него. 4. Стоимость его могла бы уменьшиться, если бы уменьшился спрос на него. Вполне ясно, однако, что ни один товар не может обладать присущей ему постоянной стоимостью, которая делала бы его пригодным, чтобы служить мерой стоимости всех товаров; человечество вынуждено поэтому выбрать в качестве практической меры стоимости такой товар, стоимость которого меньше всего подвергается влиянию этих четырёх обстоятельств, являющихся единственными причинами изменения стоимости. Если, следовательно, мы говорим в обыдённой речи о стоимости какого-нибудь товара, то последняя может изменяться от одного периода до другого вследствие следующих восьми различных условий: 1. В силу вышеуказанных четырёх условий, поскольку они оказывают влияние на товар, о стоимости которого идёт речь. 2. В силу тех же четырёх условий, поскольку они оказывают влияние на товар, который мы выбрали мерой стоимости" <Lauderdale, An Inquiry into the Nature and Origin of Public Wealth, p. 13>. Всё это верно по отношению к монополизированным товарам и фактически по отношению к рыночной цене всех других товаров в течение ограниченного периода времени. Если спрос на шляпы удвоится, цена их немедленно поднимется, но рост этот будет только временным, если только издержки производства шляп, или их естественная цена, в свою очередь не поднимутся. Если бы естественная цена хлеба упала вследствие какого-нибудь крупного открытия в агрономии на 50%, то спрос не возрос бы в очень значительной степени, так как никто не пожелал бы иметь больше хлеба, чем нужно для удовлетворения потребностей, а если бы не возрастал спрос, то не увеличилось бы и предложение. Товар предлагается не потому только, что он может быть произведён, но потому, что на него существует спрос. Таким образом, мы имеем здесь случай, когда спрос и предложение едва изменились, а если и возросли, то в одинаковой степени; и всё-таки цена хлеба упадёт сразу на 50%, и притом в такой период, когда стоимость денег остаётся прежней. Цена товаров, монополизированных отдельным лицом или какой-нибудь компанией, изменяется в согласии с законом, который был изложен лордом Лодердалем: она падает пропорционально увеличению их количества продавцами и повышается в соответствии с усилением требования на них со стороны покупателей. Цена их не обязательно связана с их естественной стоимостью. Что же касается цены товаров, составляющих предмет конкуренции, чьё количество может быть увеличено в любой умеренной степени, то она в конечном счете зависит не от отношения между спросом и предложением, а от увеличения или уменьшения издержек их производства. Глава 31. О машинах
<В первом и втором изданиях эта глава отсутствовала. - Прим. ред.> В настоящей главе я хочу исследовать влияние машин на интересы различных классов общества. Этот вопрос имеет громадное значение, и исследование его, кажется, никогда ещё не велось так, чтобы дать какие-нибудь верные или полезные результаты. Я тем более считаю себя обязанным изложить свои взгляды на этот вопрос, что после долгих размышлений я их в значительной степени изменил. Хотя, поскольку мне известно, я ни в одном из опубликованных мною произведений не написал по вопросу о влиянии машин ничего такого, отчего я считал бы необходимым отказаться, однако другим путём я оказал поддержку теориям, которые я признаю теперь ошибочными. Я считаю поэтому своим долгом подвергнуть критическому рассмотрению мои настоящие взгляды, так же как и все доказательства, которые я могу привести в их пользу. Когда я впервые обратил своё внимание на изучение вопросов политической экономии, я придерживался взгляда, что применение машин в какой-нибудь отрасли производства, поскольку оно сберегает труд, является благом для всех и сопровождается только теми неудобствами, которые в большинстве случаев вызываются передвижением капитала и труда из одной отрасли в другую. Мне казалось, что владельцы земли при условии, что они получают ту же самую денежную ренту, выиграли бы благодаря понижению цен некоторых товаров, на которые они расходуют свою ренту, а это понижение цен явилось бы неизбежным следствием применения машин. Капиталист, по моему мнению, также выиграл бы в конечном счете по тем же причинам. Правда, тот, кто изобрёл машину или впервые применил её, пользовался бы добавочной выгодой, так как в течение известного периода он получал бы большую прибыль. Но по мере того, как машина входила бы во всеобщее употребление, цена производимого с её помощью товара понизилась бы вследствие конкуренции до издержек его производства. Тогда капиталист получал бы такую же денежную прибыль, как и прежде, и участвовал бы в общих выгодах только как потребитель, так как при помощи того же денежного дохода он мог бы получать добавочное количество предметов комфорта и удовольствия. Класс рабочих, думал я тогда, также выиграл бы в одинаковой степени от введения машин, потому что при той же самой денежной заработной плате рабочие могли бы теперь покупать больше товаров. Я полагал при этом, что заработная плата не понизилась бы, так как капиталист мог бы предъявлять спрос и занять такое же количество труда, как и прежде, хотя он мог бы быть вынужден использовать этот труд для производства нового или по крайней мере видоизменённого товара. Если бы благодаря усовершенствованию машин можно было при том же количестве труда увеличить вчетверо количество чулок, тогда как спрос на чулки увеличился бы только вдвое, часть рабочих по необходимости должна была бы уйти из чулочной промышленности. Но ввиду того, что капитал, дававший им занятие, продолжал бы существовать и его владельцам было бы выгодно употребить его производительно, мне казалось, что он будет затрачен на производство какого-нибудь другого товара, полезного для общества, на который непременно существовал бы спрос. На меня произвело тогда, да и теперь ещё производит, глубокое впечатление верное замечание Адама Смита о том, что "стремление к пище ограничивается у каждого человека небольшой вместимостью человеческого желудка, но стремление к удобствам и украшению жилища, одежды, домашней обстановки и утвари не имеет, повидимому, предела или определённых границ" <Адам Смит, Исследование о природе и причинах богатства народов, т. I, стр. 148. - Прим. ред.>. А так как мне казалось, что спрос на труд останется неизменным и что заработная плата не понизится, то я думал, что трудящийся класс воспользуется в такой же степени, как и другие классы, выгодами всеобщего удешевления товаров, которое явилось бы следствием применения машин. Таковы были мои взгляды, и, поскольку речь идёт о землевладельцах и капиталистах, они не изменились, но я теперь убедился, что замена человеческого труда машиной часто приносит очень большой ущерб интересам класса рабочих. Моя ошибка вытекала из предположения, что при всяком возрастании чистого дохода общества необходимо должен также возрастать и его валовой доход. Теперь я имею основание думать, что фонд, из которого извлекают свой доход землевладельцы и капиталисты, может возрастать, в то время как другой, от которого главным образом зависит трудящийся класс, может уменьшаться. Отсюда следует, если я прав, что та же самая причина, которая может умножить чистый доход страны, может в то же время создать излишнее население и ухудшить положение рабочего. Предположим, что капиталист применяет капитал стоимостью в 20 тыс. ф. ст. и что он одновременно является и фермером и предпринимателем в производстве предметов насущной необходимости. Предположим дальше, что 7 тыс. ф. ст. из его капитала вложены в основной капитал, т. е. в здания, орудия и т. д., а остальные 13 тыс. ф. ст. употребляются как оборотный капитал на содержание труда. Предположим, кроме того, что прибыль составляет 10% и что, следовательно, капитал нашего капиталиста ежегодно приводится в состояние своей первоначальной эффективности и приносит прибыль в 2 тыс. ф. ст. Ежегодно капиталист начинает свои операции, имея в своём владении на 13 тыс. ф. ст. предметов пищи и насущной необходимости, которые он в течение года продаёт полностью своим собственным рабочим за эту сумму денег, и в течение того же периода он выплачивает им такое же количество денег в виде заработной платы: в конце года они снова доставляют ему предметы пищи и насущной необходимости стоимостью в 15 тыс. ф. ст., из которых 2 тыс. ф. ст. он расходует на собственное потребление или распоряжается ими соответственно своим вкусам и желаниям. Поскольку речь идёт о названных продуктах, валовой продукт составит в течение данного года 15 тыс. ф. ст., а чистый - 2 тыс. ф. ст. Предположим теперь, что в следующем году капиталист использует одну половину своих рабочих для постройки машины, а другую, как и раньше, для производства предметов пищи и насущной необходимости. В течение этого года он уплатил бы в виде заработной платы такую же сумму в 13 тыс. ф. ст., как и прежде, и продал бы своим рабочим на такую же сумму предметов пищи и насущной необходимости. Но как сложилось бы дело в следующем году? Пока строилась бы машина, была бы произведена только половина обычного количества предметов пищи и насущной необходимости и стоимость их была бы наполовину меньше стоимости того количества, которое производилось раньше. Машина стоила бы 7 500 ф. ст., и предметы пищи и насущной необходимости - тоже 7500 ф. ст. Следовательно, капитал нашего капиталиста был бы так же велик, как и прежде, потому что, кроме этих двух стоимостей, он имел бы ещё в своём распоряжении основной капитал стоимостью в 7 тыс. ф. ст. - итого 20 тыс. ф. ст. капитала и 2 тыс. ф. ст. прибыли. Вычитая последнюю сумму для расходования на собственные нужды, он имел бы в своём распоряжении для ведения дальнейших операций оборотный капитал не свыше 5 500 ф. ст. Следовательно, средства, которые он может истратить на содержание труда, уменьшились бы с 13 тыс. ф. ст. до 5 500 ф. ст., а вслед за этим весь труд, который прежде применялся бы при помощи 7 500 ф. ст., стал бы излишним. Уменьшенное количество рабочих, которое капиталист может применить, должно при содействии машины произвести стоимость, равную за вычетом издержек по её ремонту 7 500 ф. ст. Это же количество рабочих должно возместить оборотный капитал вместе с прибылью в 2 тыс. ф. ст. на весь капитал. А раз это сделано, раз чистый доход не уменьшился, то не всё ли равно капиталисту, представляет ли валовой доход стоимость в 3 тыс. ф. ст., в 10 тыс. ф. ст. или в 15 тыс. ф. ст.? Итак, в этом случае, несмотря на то, что стоимость чистого продукта не уменьшилась бы, несмотря на то, что его покупательная сила по отношению к товарам могла значительно возрасти, валовой продукт вместо стоимости в 15 тыс. ф. ст. составлял бы стоимость в 7 500 ф. ст. А так как способность нации содержать население и давать занятие рабочим зависит всегда от валового продукта нации, а не от её чистого продукта, то уменьшение валового продукта неизбежно повлечёт за собой уменьшение спроса на труд и вызовет перенаселение. Таким образом, положение рабочего класса будет представлять картину нужды и отчаяния. Но возможность сберегать часть дохода для превращения его в капитал должна зависеть от способности чистого дохода удовлетворять потребности капиталиста, а вследствие понижения цен товаров, следующего за введением машин, последний может увеличить, - если, конечно, его потребности останутся такими же самыми, - свои сбережения, и таким образом значительно облегчается превращение дохода в капитал. Но с каждым возрастанием последнего капиталист будет занимать больше рабочих, и, следовательно, часть их, потерявшая прежде работу, снова найдёт в дальнейшем занятие. А если вследствие введения машин расширение производства будет столь велико, что оно даст в виде чистого продукта такое же большое количество предметов пищи и насущной необходимости, какое давало прежде в форме валового продукта, то налицо имелась бы та же возможность доставить занятия всему населению, что и прежде; тогда излишек населения вовсе не будет необходим. Я хочу только доказать, что изобретение и употребление машин может сопровождаться уменьшением валового продукта. Каждый раз, как происходит такое уменьшение, оно приносит ущерб рабочему классу, потому что часть рабочих лишается работы и население становится излишним в сравнении с фондом для его использования. Предположенный мною случай является самым простым, какой я только мог выбрать, но результаты получились бы те же самые, если бы мы предположили, что машины применяются в любом другом производстве, например фабрикантом сукна или хлопчатобумажных изделий. Если бы машины применялись в производстве сукна, то после их введения производилось бы меньше сукна, ибо предприниматель теперь уже не предъявлял бы требования на часть того количества, которое прежде предназначалось для оплаты большего числа рабочих. Благодаря применению машин для него было бы необходимо воспроизводить стоимость, которая равнялась бы только потреблённой стоимости плюс прибыль на весь капитал. 7 500 ф. ст. годились бы для этого с таким же успехом, как прежде 15 тыс. ф. ст., потому что второй случай ничем не отличается от первого. Можно было бы, однако, сказать, что спрос на сукно будет так же велик, как и прежде, но тогда можно было бы спросить, откуда же возьмётся новое предложение? Но кто же предъявлял спрос на сукно? Фермеры и другие производители предметов насущной необходимости, которые затратили свои капиталы на производство этих последних и этим путём получили сукно. Они давали фабриканту сукна хлеб и предметы насущной необходимости в обмен на сукно, а последний давал их своим рабочим за сукно, которое ему доставлял их труд. Этот обмен теперь прекратился бы; фабрикант сукна не нуждался бы в предметах пищи и одежды, так как он занимает меньше людей и в его распоряжении меньше сукна. Фермеры и все те, кто производит предметы насущной необходимости только как средство для известной цели, уже не могли бы больше получать сукно с помощью такого приложения своего капитала. Они, следовательно, или сами вложили бы свои капиталы в производство сукна, или ссудили бы их другим, для того чтобы товар, в котором действительно чувствуется потребность, был доставлен, а товар, уплатить за который никто не может или на который нет спроса, перестал производиться. Мы пришли, таким образом, к тому же результату: спрос на труд уменьшится, и товары, необходимые для поддержания труда, не будут производиться в таком изобилии, как прежде. Если изложенные взгляды верны, то из них вытекают следующие выводы: Во-первых, изобретение и полезное применение машин всегда приводят к увеличению чистого продукта страны, хотя в короткий промежуток времени они не могут увеличить, да и действительно не увеличивают, стоимость этого чистого продукта. Во-вторых, увеличение чистого продукта страны совместимо с уменьшением её валового продукта. Стимул к введению машин всегда достаточно велик, чтобы обеспечить их применение, если последнее приводит к увеличению чистого продукта, хотя в то же время введение их может, да часто и должно, уменьшить как количество валового продукта, так и его стоимость. В-третьих, мнение, которого придерживается трудящийся класс, что применение машин часто наносит большой ущерб его интересам, не основано на предрассудке или заблуждении, а соответствует правильным принципам политической экономии. В-четвёртых, если улучшенные средства производства вследствие применения машин увеличат чистый продукт страны в такой большой степени, что уменьшения валового продукта не последует (я всегда при этом подразумеваю количество товаров, а не их стоимость), то улучшится положение всех классов. Землевладелец и фабрикант выиграют не только вследствие увеличения ренты и прибыли, но и вследствие выгод, получаемых от того, что они будут расходовать ту же самую ренту и прибыль на товары, стоимость которых значительно понизилась. Положение же трудящихся классов также значительно улучшится: во-первых, вследствие увеличения спроса на домашнюю прислугу; во-вторых, вследствие того, что изобилие чистого продукта создаёт стимул к сбережениям из дохода, и, в-третьих, вследствие понижения цен всех предметов потребления, на которые расходуется их заработная плата. *** Но для рабочего класса имеет значение не только вопрос об изобретении и применении машин, которому мы только что уделили внимание. Не меньшее значение имеет для него способ, каким тратится чистый доход страны, хотя последний должен при всяких условиях предназначаться для пользы и удовольствия тех, кто по справедливости имеет право на него. Если землевладелец или капиталист тратит свой доход, подобно древнему барону, на содержание многочисленной свиты или прислуги, он даёт занятие гораздо большему количеству рабочих рук, чем если бы он истратил свой доход на тонкое сукно или на дорогую мебель, на экипажи, лошадей или на покупку других предметов роскоши. В обоих случаях чистый доход, а также валовой доход совершенно одинаковы, но первый реализовался бы в других товарах. Если бы мой доход равнялся 10 тыс. ф. ст., то почти то же самое количество производительного труда будет затрачено при реализации моего дохода в тонком сукне, дорогой мебели и т. д., как и при реализации его в определённом количестве предметов пищи и одежды той же самой стоимости. Однако если бы я реализовал свой доход в товарах первого рода, то следствием этого не явилось бы использование большего количества рабочих рук: я пользовался бы своей мебелью и сукном, и этим всё кончилось бы. Но если бы я реализовал свой доход в предметах пищи и одежды и желал бы иметь больше прислуги, то люди, которым я дал бы занятие с помощью моего дохода в 10 тыс. ф. ст. или купленных на него предметов пищи и одежды, увеличили бы собой число рабочих, на которых предъявляется спрос. Это увеличение спроса произошло бы только потому, что я выбрал такой способ расходования моего дохода. А так как рабочие заинтересованы в расширении спроса на труд, то они, конечно, должны желать, чтобы возможно большая часть дохода была затрачена вместо предметов роскоши на содержание прислуги. Таким же образом страна, втянутая в войну и вынужденная содержать большую армию и флот, занимает гораздо большее число людей, чем она будет занимать, когда война окончится и связанные с последней ежегодные расходы прекратятся. Если бы я не был призван внести в военное время налог в 500 ф. ст., затрачиваемый на содержание солдат и матросов, я мог бы, вероятно, израсходовать эту часть своего дохода на мебель, сукно, книги и т. д. Был бы мой доход затрачен тем или иным путём, количество труда, применяемого в производстве, оставалось бы одинаковым, так как производство предметов пищи и одежды для солдат и матросов требовало бы такого же количества труда, как и производство более роскошных товаров. Но в случае войны мы имели бы дело с добавочным спросом на людей для армии и флота. Вследствие этого война, которая ведётся на доход, а не на капитал страны, оказывает благоприятное действие на рост населения. По окончании войны, когда часть моего дохода возвращается ко мне обратно и употребляется мною, как и прежде, на покупку вина, мебели или других предметов роскоши, часть населения, которая была связана с войной и прежде содержалась за счёт этого дохода, становится излишней; влияние же этого излишка на остальное население при поисках работы понизило бы стоимость заработной платы и очень существенно ухудшило бы положение рабочего класса. Следует отметить ещё и другой случай, при котором увеличение чистого дохода страны и даже её валового дохода может совпасть с уменьшением спроса на труд: это имеет место, когда труд лошадей замещает труд людей. Если бы я нанимал для своей фермы 100 человек и если бы я нашёл, что пища, предназначенная для половины этого числа, могла бы пойти на содержание лошадей и дать мне после уплаты процентов на капитал, затраченный на покупку лошадей, гораздо большее количество сырых материалов, то мне было бы выгодно заменить людей лошадьми, и я так и поступил бы. Но это было бы невыгодно для рабочих, и если только мой доход не возрос бы до такой степени, чтобы дать мне возможность использовать как людей, так и лошадей, то, очевидно, появилось бы излишнее население, и положение рабочих ухудшилось бы в общем масштабе. Очевидно, что они не могли бы ни при каких условиях найти занятие в земледелии. Но если продукт земли увеличился вследствие замены людей лошадьми, рабочие могли бы найти занятие на фабриках или в качестве прислуги. Изложенные мною взгляды не приведут, я надеюсь, к заключению, что не следует поощрять введение машин. Чтобы выяснить основной принцип, я предположил, что усовершенствованные машины были внезапно изобретены и применены в широких размерах. В действительности же такие изобретения делаются постепенно, и влияние их сказывается скорее при решении вопроса о применении сберегаемого и накопляемого капитала, чем при перемещении капитала, фактически уже применённого. При всяком возрастании капитала и населения цена пищи будет, как правило, увеличиваться вследствие роста трудности её производства. Возрастание цен на пищу повлечёт за собой повышение заработной платы, а всякое повышение заработной платы будет толкать вновь сбережённый капитал в ещё большей степени, чем прежде, к применению машин. Машины и труд находятся в постоянном соперничестве между собой, и первые часто могут быть применены только тогда, когда поднимается цена труда. В Америке и многих других странах, где пища для человека добывается легко, нет такого большого искушения применять машины, как в Англии, где пища дорога и где для производства её требуется много труда. Причина, которая повышает цену труда, не увеличивает стоимость машин, и, следовательно, при каждом увеличении капитала более значительная часть его будет затрачена на машины. Спрос на труд будет возрастать вместе с увеличением капитала, но не в том же отношении. Отношение, в котором будет возрастать спрос на труд, будет неизбежно уменьшаться. <"Спрос на труд зависит от возрастания оборотного капитала, а не основного. Если бы отношение между этими двумя формами капитала было в действительности одинаковым во все времена и во всех странах, тогда, разумеется, число занятых рабочих увеличивалось бы вместе с ростом богатства в государстве. Но такое предположение не имеет и тени вероятия. По мере развития ремёсел и распространения цивилизации основной капитал всё более возрастает по отношению к оборотному. Основной капитал, применяемый при производстве штуки британского муслина, по крайней мере в сто, а может быть, и в тысячу раз больше, чем основной капитал, применённый при производстве такой же штуки индийского муслина, а размер оборотного капитала в сто или в тысячу раз меньше. Легко поэтому понять, что при известных условиях вся сумма годичных сбережений какого-нибудь промышленного народа может быть прибавлена к основному капиталу, а в таком случае это не оказало бы никакого влияния на возрастание спроса на труд" (John Barton, On the Condition of the Labouring Classes of Society, London 1817, p. 16). Трудно представить себе, по моему мнению, чтобы при каких бы то ни было условиях возрастание капитала не сопровождалось бы ростом спроса на труд. Здесь можно лишь сказать, что спрос увеличивался бы в уменьшающемся отношении. Мне кажется, что г-н Бартон развивал в вышеназванном сочинении вполне правильный взгляд на некоторые последствия возрастания размеров основного капитала для рабочего класса. Его работа содержит много ценных указаний.> Я отметил уже прежде, что рост чистого дохода, измеряемого в товарах, всегда является следствием усовершенствования машин и влечёт за собой новые сбережения и накопления. Следует помнить, что эти сбережения имеют место ежегодно и что они должны скоро создать фонд более значительный, чем валовой доход, первоначально потерянный вследствие изобретения машин. Тогда спрос на труд будет так же велик, как и прежде, и положение народа будет и дальше улучшаться благодаря увеличению сбережений, которые позволит делать возросший чистый доход. Введению машин нельзя безнаказанно чинить препятствия ни в одном государстве; если бы капиталу мешали получить наибольший чистый доход, который может доставить применение машин на родине, он переместился бы за границу, а это ослабило бы спрос на труд в более серьёзной степени, чем самое широкое применение машин. Пока капитал применяется внутри страны, он должен создавать спрос на некоторое количество труда. Машины не могут применяться без содействия людей и могут быть произведены только при помощи их труда. Вкладывая часть капитала в усовершенствованные машины, мы только задерживаем прогрессивное возрастание спроса на труд; вывозя капитал в другую страну, мы совершенно уничтожаем этот спрос. Притом же цены товаров регулируются издержками их производства. Применяя усовершенствованные машины, вы уменьшаете издержки производства товаров, и вследствие этого вы можете продавать их на внешних рынках по более дешёвой цене. Но если бы вы отказались от применения машин, в то время как другие страны поощряли бы его, вы были бы вынуждены вывозить ваши деньги в обмен на иностранные товары до тех пор, пока вы не снизите естественные цены ваших товаров до уровня цен других стран. Вступая в обмен с этими странами, вы можете отдавать товар, стоящий здесь двух дней труда, за товар, стоящийࠠза границей одного дня труда. Этот невыгодный обмен был бы следствием вашего собственного образа действия, ибо товар, вывозимый вами и стоящий вам двух дней труда, стоил бы вам не больше одного дня труда, если бы вы не отказались от применения машин, услугами которых благоразумно воспользовались ваши соседи. Глава 32. Взгляды г-на Мальтуса на ренту
Хотя на предыдущих страницах этого труда я довольно подробно говорил о природе ренты, я всё-таки считаю необходимым особо отметить некоторые взгляды на этот вопрос, являющиеся, по-моему, ошибочными. Они имеют тем большее значение, что высказываются в сочинениях человека, которому мы обязаны более, чем кому-либо из современных экономистов, за разработку некоторых разделов политической экономии. Я очень счастлив, что имею случай выразить своё восхищение "Опытом о народонаселении" г-на Мальтуса. Нападки противников этого великого труда послужили только доказательством его значения; я убеждён, что справедливая оценка этого труда будет распространяться по мере развития науки, столь выдающимся украшением которой он является. Г-н Мальтус разработал также удовлетворительно принципы ренты. Он показал, что она повышается или падает пропорционально относительным выгодам обработки различных земель, зависящим от их плодородия или местоположения, и таким образом пролил много света на ряд трудных проблем, связанных с вопросом о ренте, либо совершенно не ставившихся прежде, либо очень плохо понятых. Но мне кажется, что г-н Мальтус впал при этом в некоторые ошибки. И если его авторитет делает особо необходимым указание на его ошибки, то свойственная ему прямота характера делает для меня эту задачу менее неприятной. Одна из этих ошибок заключается в предположении, что рента является чистым выигрышем и новым созданием богатства. Я не могу согласиться со всеми взглядами г-на Бьюкенена на ренту, но я вполне присоединяюсь к мнению, которое выражено им в цитате, приводимой г-ном Мальтусом. Я поэтому не могу согласиться и с объяснением, которое даёт к этой цитате последний. "С этой точки зрения она (рента) не может составлять общую прибавку к капиталу общества, так как чистая прибавка, о которой идёт речь, есть не что иное, как доход, перешедший от одного класса к другому. Ясно, что из одного лишь перемещения его из рук в руки не может возникнуть новый фонд, из которого могли бы уплачиваться налоги. Доход, который оплачивает продукты земли, находится уже в руках тех, кто покупает эти продукты. Если бы цена средств существования была ниже, он продолжал бы оставаться в их руках и был бы так же пригоден для обложения, как и при более высоких ценах, когда он перешёл бы в руки землевладельца" <Buchanan, v. III, p. 272, note; Cм. Malthus, Inquiry into the Nature and Progress of Rent, 1815, p. 7. - Прим. ред.>. Сделав несколько замечаний о разнице между сырыми материалами и промышленными товарами, г-н Мальтус задаёт вопрос: "Возможно ли таким образом рассматривать ренту, как это делает г-н Сисмонди, как простой продукт труда, имеющий чисто номинальную стоимость, и как простой результат того увеличения цены, которое продавец получает в силу какой-либо особенной привилегии, или рассматривать её вместе с г-ном Бьюкененом не как прибавку к национальному богатству, а только как перенесение стоимости, выгодное исключительно для землевладельцев и в той же мере убыточное для потребителей?" <Malthus, Inquiry into the Nature and Progress of Rent, p. 15>. Я уже высказал свой взгляд на этот предмет, говоря о ренте; могу теперь только прибавить, что рента есть создание стоимости в том смысле, в котором я употребляю это слово, но что она не есть создание богатства. Если цена хлеба вследствие трудности производства известной части его повысится с 4 ф. ст. до 5 ф. ст. за квартер, то 1 млн. квартеров будет стоить 5 млн. ф. ст. вместо 4 млн. ф. ст. А так как этот хлеб будет обмениваться не только на большее количество денег, но и на большее количество всякого другого товара, то владельцы хлеба получат в своё распоряжение более значительную сумму стоимости. Нo так как никто не будет иметь вследствие этого меньшую стоимость, то общество в целом будет поэтому обладать большей стоимостью. В этом смысле рента есть создание стоимости. Но стоимость эта является номинальной, поскольку она ничего не прибавляет к богатству, т. е. к сумме предметов насущной необходимости, удобства и удовольствия, принадлежащих обществу. Мы будем иметь точно такое же, а не большее количество товаров и тот же 1 млн. квартеров хлеба, что и прежде. И результатом более высокой цены квартера - 5 ф. ст. вместо 4 ф. ст. - явилось бы только перенесение части стоимости хлеба и товаров от их прежних владельцев к владельцам земли. Поэтому рента есть создание стоимости, а не создание богатства, она ничего не прибавляет к ресурсам страны; она не увеличивает способность последней содержать армию и флот. Страна имела бы в своём распоряжении более значительный фонд, если бы её земля была более плодородна, если бы можно было применять такой же капитал, не порождая ренты. [Мы должны поэтому признать, что г-н Сисмонди и г-н Бьюкенен, мнения которых по существу одинаковы, правы, рассматривая ренту как чисто номинальную стоимость, являющуюся не прибавкой к национальному богатству, а лишь простым перенесением стоимости, выгодным только для владельцев земли и соответственно убыточным для потребителя.] <Вставка во втором и третьем изданиях. - Прим. ред.> В другой части своего "Исследования" г-н Мальтус замечает, что "непосредственной причиной ренты является, очевидно, излишек цены, по которой сырые материалы сбываются на рынке, над издержками производства"; ещё в одном месте он утверждает, что "существуют три причины высокой цены сырых материалов. Во-первых и главным образом, то свойство земли, в силу которого она может дать более значительное количество предметов жизненной необходимости, чем требуется на содержание людей, занятых её обработкой. Во-вторых, особое свойство предметов жизненной необходимости самим создавать для себя спрос или увеличивать число предъявляющих спрос пропорционально размерам произведённого. И, в-третьих, сравнительная редкость очень плодородных земель". Говоря о высокой цене хлеба, г-н Мальтус явно подразумевает не цену квартера или бушеля, а скорее разницу между ценой, по которой продаётся полученный продукт, и издержками его производства, включая всегда в термин "издержки производства" как прибыль, так и заработную плату; 150 квартеров хлеба по 3 ф. ст. 10 шилл. за квартер принесут землевладельцу более значительную ренту, чем 100 квартеров по 4 ф. ст. при условии, что издержки производства в обоих случаях одинаковы. Высокая цена, - если это выражение употребляется в таком смысле, - не может быть названа причиной ренты. Нельзя сказать, что "непосредственной причиной ренты является, очевидно, излишек цены, по которой сырые материалы сбываются на рынке, над издержками производства", так как именно этот излишек и составляет ренту. По определению г-на Мальтуса, рента представляет "ту часть стоимости всего продукта, которая остаётся у землевладельца после того, как были уплачены расходы всякого рода, сопряжённые с обработкой земли, включая сюда и прибыль на затраченный капитал; последняя же определяется согласно обычной норме прибыли на земледельческий капитал в данное время". Следовательно, всякая сумма, за которую может быть продан этот излишек, составляет денежную ренту. Именно это подразумевает г-н Мальтус, когда он говорит об "излишке цены, по которой сырые материалы сбываются на рынке, над издержками производства". Выходит поэтому, что при исследовании причин, в силу которых цена сырых материалов может подниматься над издержками их производства, мы в то же время исследуем причины, которые могут повысить ренту. [По поводу первой причины, вызывающей, по мнению г-на Мальтуса, повышение ренты, а именно "того свойства земли, в силу которого она может дать более значительное количество предметов жизненной необходимости, чем требуется на содержание людей, занятых её обработкой", он делает следующие замечания] <В первом издании сказано: "По поводу первой причины роста ренты г-н Мальтус высказывает следующие соображения". - Прим. ред.>: "Нам нужно ещё знать, почему размеры потребления и предложения таковы, что могут привести к столь большому превышению цены над издержками производства. Очевидно, что главная причина заключается в плодородии земли, производящей предметы жизненной необходимости. Уменьшите это изобилие, уменьшите плодородие почвы, излишек уменьшится, уменьшите это изобилие ещё дальше, - и излишек совсем исчезнет". Правильно: избыток предметов жизненной необходимости уменьшится и исчезнет, но не в этом дело. Вопрос заключается в том, уменьшится ли или исчезнет излишек их цены над издержками их производства, так как денежная рента зависит только от этого излишка. И чем может г-н Мальтус доказать следующее своё утверждение: так как избыток количества продуктов уменьшится и исчезнет, то "причину высокой цены предметов жизненной необходимости по сравнению с издержками производства следует искать скорее в их изобилии, чем в их редкости; эта высокая цена существенно отличается не только от высокой цены, которая вызывается искусственной монополией, но и от высокой цены тех особых произведений земли, не являющихся предметами пищи, которые могут быть названы предметами естественной и необходимой монополии"? Разве не существует таких условий, при которых плодородие земли и изобилие её продуктов могут уменьшаться, не вызывая уменьшения излишка их цены над издержками их производства, т. е. не вызывая уменьшения ренты? Если они существуют, то утверждение г-на Мальтуса слишком универсально. Мне кажется, что он устанавливает как всеобщий принцип, верный при всяких условиях, что рента повышается вместе с возрастанием плодородия земли и падает с его уменьшением. Г-н Мальтус был бы, несомненно, прав, если бы из продукта, полученного на любой данной ферме, владельцу земли отдавалась пропорционально большей производительности её более значительная часть всего продукта. Но в действительности происходит прямо противоположное явление: когда в обработке находится только наиболее плодородная земля, землевладелец получает минимальную долю всего продукта, точно так же как и минимальную стоимость. Только когда вследствие увеличения населения в обработку поступает земля низшего качества, прогрессивно увеличивается как часть всего продукта, получаемая землевладельцем, так и стоимость его. Предположим, что имеется спрос на 1 млн. квартеров хлеба и что они составляют продукт земли, находящейся в обработке в данный момент. Предположим теперь, что плодородие всей земли уменьшилось и что она даёт теперь всего 900 тыс. квартеров. Так как спрос предъявляется на 1 млн. квартеров, то цена хлеба поднимается, и к обработке земли низшего качества необходимо будет прибегнуть раньше, чем в том случае, когда лучшая земля продолжала давать 1 млн. квартеров. Но ведь именно эта необходимость обращаться к обработке земель низшего качества и является причиной повышения ренты [и будет повышать её дальше, хотя бы количество хлеба, получаемое землевладельцем, уменьшилось] <Эта вставка сделана только в третьем издании. - Прим. ред.>. Следует помнить, что рента пропорциональна не абсолютному плодородию обрабатываемой земли, а её относительному плодородию. Всякая причина, которая толкает капитал к обработке земель низшего качества, повышает ренту с земель лучшего качества, потому что причиной ренты, как говорит г-н Мальтус в своём третьем положении, является "сравнительная редкость очень плодородных земель". Цена хлеба будет, разумеется, подниматься вместе с трудностью производства последней части его, и стоимость всего количества хлеба, произведённого на отдельной ферме, увеличится, хотя количество это уменьшится. Но так как издержки производства на более плодородных землях не возрастут, так как заработная плата и прибыль, вместе взятые, будут всегда составлять одну и ту же стоимость <См. гл. VI, где я старался показать, что, какова бы ни была лёгкость или трудность производства хлеба, заработная плата и прибыль, вместе взятые, всегда имеют одну и ту же стоимость. Заработная плата всегда повышается за счёт прибыли, а когда она падает, прибыль всегда поднимается>, то очевидно, что излишек цены над издержками производства, - или, другими словами, рента, - должен расти вместе с уменьшением плодородия земли, если, конечно, это уменьшение не парализуется большим уменьшением капитала, населения и спроса. Итак, положение г-на Мальтуса не может быть признано правильным: рента вовсе не поднимается и не падает непосредственно и необходимо вместе с возрастанием или уменьшением плодородия земли, но возрастание плодородия земли делает её способной приносить в более или менее близком будущем более высокую ренту. Земля очень мало плодородная, никогда не приносит ренты; земля, обладающая умеренным плодородием, может при возрастании населения приносить умеренную ренту, а земля, обладающая большим плодородием, - высокую ренту. Но одно дело - возможность приносить высокую ренту и другое дело - действительная уплата её. В стране, в которой земля необычайно плодородна, рента может быть ниже, чем в стране, где земля даёт умеренный доход, потому что рента пропорциональна скорее относительному плодородию, чем абсолютному, стоимости продукта земли, а не его изобилию <В одном из последних своих сочинений г-н Мальтус замечает, что я не понял его в этом месте, так как он вовсе не думал утверждать, что рента непосредственно и необходимо повышается и падает вместе с увеличением или уменьшением плодородия земли. Если это так, то я действительно не понял его. Но вот подлинные слова его: "Уменьшите это изобилие, уменьшите плодородие почвы, и излишек уменьшится; уменьшите это изобилие ещё дальше, и излишек совсем исчезнет". Это положение г-н Мальтус формулирует не как условное, а как абсолютное. Я возражал против положения, которое, по моему разумению, он поддерживал, а именно: что уменьшение плодородия почвы будто бы несовместимо с возрастанием ренты. [Это примечание впервые появляется в третьем издании. Речь идёт, как это видно из переписки Рикардо, о сочинении Мальтуса, опубликованном в 1820 г.: "The Principles of Political Economy considered with a view to their practical application", London 1820.]>. [Г-н Мальтус предполагает, что рента с земли, доставляющей те особые продукты, которые могут быть названы предметами естественной и необходимой монополии, регулируется принципом, существенно отличным от принципа, регулирующего ренту с земель, доставляющих предметы жизненной необходимости. По его мнению, в первом случае причиной высокой ренты является редкость таких монопольных продуктов, а во втором - то же самое действие производится изобилием продуктов. Мне кажется, что это различие не слишком хорошо обосновано: увеличив количество продуктов, вы так же, несомненно, поднимете ренту с земель, доставляющих редкие вина, как и ренту с земель, доставляющих хлеб, если вам удастся в то же время увеличить спрос на эти именно предметы. А без такого расширения спроса изобильное предложение хлеба, вместо того чтобы повысить ренту с земли, доставляющей хлеб, понизит её. Каковы бы ни были свойства земли, высокая рента зависит от высокой цены продукта; но раз высокая цена дана, высота ренты пропорциональна не редкости продукта, а его изобилию]. <В первом издании вместо двух последних абзацев сказано было следующее: "Г-н Мальтус говорит, что "причина превышения цены предметов первой необходимости над издержками производства заключается скорее в их изобилии, чем в их редкости, и существенно отлична от причины высокой цены тех продуктов земли, не являющихся предметами пищи, которые можно назвать предметами естественной и необходимой монополии". В чём собственно состоит существенное различие между ними? Разве изобилие именно этих продуктов земли не вызовет повышения ренты, если спрос на них в то же время возрастёт? И может ли рента когда-либо возрасти, каковы бы ни были произведённые товары, только в силу изобилия и без возрастания спроса? Вторая причина ренты, упоминаемая г-ном Мальтусом, а именно "свойство предметов жизненной необходимости самим создавать для себя спрос или увеличивать число предъявляющих спрос пропорционально размерам произведённого", не кажется мне ни в какой мере характерной для таких предметов. Не изобилие предметов жизненной необходимости увеличивает число предъявляющих спрос, а изобилие предъявляющих спрос увеличивает число первых". - Прим. ред.> Ничто не может заставить нас производить постоянно какой-нибудь товар в большем количестве, чем он требуется. Если бы случайно было произведено большее количество товаров, то цена их упала бы ниже их естественной цены и, следовательно, не могла бы возместить издержек производства, включая в них обычную и установленную прибыль на капитал. Таким образом, предложение их сокращалось бы до тех пор, пока оно не пришло бы в соответствие со спросом и рыночная цена их опять не сравнялась бы с их естественной ценой. Мне кажется, что г-н Мальтус слишком склонен полагать, что население возрастает только тогда, когда этому предшествует накопление запасов средств существования, - "предметы пищи сами создают для себя спрос", - что только после образования запаса пищи число браков увеличивается. А между тем общее возрастание населения вызывается ростом капитала, последующим спросом на труд и повышением заработной платы, так что производство предметов пищи является только результатом этого спроса. Положение рабочего улучшается только тогда, когда он получает больше денег или большее количество какого-нибудь другого товара, в котором выплачивается заработная плата и стоимость которого не упала. Возрастание населения и возрастание количества предметов пищи являются обычно следствием высокой заработной платы, но не её необходимым следствием, Улучшение положения рабочего вследствие возрастания стоимости, уплачиваемой ему, отнюдь не обязательно побуждает его вступить в брак и взять на себя бремя содержания семьи. Всего вероятнее, что он употребит часть своей возросшей заработной платы на приобретение более значительного количества предметов пищи и жизненной необходимости, а на остаток он может, если ему угодно, купить товары, которые увеличат его благосостояние, - кресла, столы, металлические изделия или лучшее платье, сахар и табак. В этом случае повышение заработной платы рабочего не будет сопровождаться никакими другими последствиями, кроме увеличения спроса на некоторые из указанных товаров. А так как раса рабочих не увеличится сколько-нибудь значительно, то заработная плата их будет всё время оставаться на высоком уровне. Но хотя следствия высокой заработной платы могут быть именно такими, всё-таки приятности семейной жизни так велики, что в действительности улучшение положения рабочего неизменно влечёт за собой возрастание населения. И именно потому, что за ничтожным исключением, упомянутым нами выше, оно приводит к таким последствиям, возникает новый и увеличенный спрос на пищу. Итак, этот спрос есть не причина, а следствие возрастания капитала и населения. Только потому, что расходы народа принимают такое направление, рыночная цена предметов насущной необходимости превышает их естественную цену; только поэтому производится требуемое количество предметов пищи. Но вследствие возрастания населения заработная плата опять падает. Какие мотивы могут заставить фермера производить больше хлеба, чем в данное время требуется, если последствием этого было бы падение рыночной цены хлеба ниже его естественной цены, а следовательно, и потеря фермером части прибыли вследствие падения её ниже общей нормы? "Если бы, - говорит г-н Мальтус, - предметы жизненной необходимости, т. е. наиболее важные продукты земли, не имели свойства увеличивать спрос пропорционально возрастанию их количества, то это возросшее количество вызвало бы падение их меновой стоимости <О каком возросшем количестве говорит г-н Мальтус? Кто производит его? У кого может явиться побуждение производить его раньше, чем на добавочное количество имеется спрос?>. Как бы ни были обильны запасы продуктов в стране, население её может оставаться неподвижным. А такое обилие без соответствующего спроса и при очень высокой цене труда, выраженной в хлебе, вполне естественной при этих условиях, могло бы понизить цены сырых материалов, как и цены промышленных изделий, до уровня их издержек производства". "Могло бы понизить цены сырых материалов до уровня их издержек производства"? А разве цена их бывает в течение сколько-нибудь продолжительного времени выше или ниже такой цены? И разве сам г-н Мальтус не констатирует, что этого никогда не бывает? "Я надеюсь, - говорит он, - что читатель извинит меня, если я немного остановлюсь на теории и на различных формах теории, согласно которой хлеб, поскольку речь идёт о действительно произведённом количестве, продаётся, как и промышленные изделия, по необходимой цене. Эта, по моему мнению, в высшей степени важная истина не была замечена ни экономистами <Здесь имеются в виду физиократы. - Прим. ред.>, ни Адамом Смитом, ни другими писателями, которые думают, что сырые материалы всегда продаются по монопольной цене". "О всякой обширной стране можно с этой точки зрения сказать, что она имеет в своём распоряжении подбор машин для производства хлеба и сырых материалов; это не только машины для всякого рода бедных земель, которыми изобилует вообще каждая территория, но и менее совершенные машины, о которых можно сказать, что они поступают в употребление тогда, когда хорошая земля принуждена производить всё большее и большее количество добавочных продуктов. Когда цена сырых материалов продолжает подниматься, то эти менее совершенные машины последовательно вводятся в употребление, а когда цена сырых материалов продолжает падать, они последовательно выбывают из строя. Приведенный нами пример должен показать всю необходимость существующей цены хлеба при существующем количестве продукта, а также различные следствия, которые будут вызваны крупным понижением цены какого-нибудь отдельного промышленного товара и крупным понижением цены сырых материалов" <Malthus, Inquiry into the Nature and Progress of Rent. "Во всех развивающихся странах средняя цена хлеба никогда не бывает выше цены, необходимой для поддержания среднего прироста продукта" ("Observations etc.", p. 21). "При вложении в землю нового капитала с целью удовлетворить потребности возросшего населения решение основного вопроса, употребить ли этот капитал на обработку новых земель или на улучшение уже обрабатываемой земли, всегда зависит от ожидаемого дохода на капитал. Всякое уменьшение валовой прибыли уменьшает побуждение затрачивать капитал данным путём. Всякое понижение цены, которое не уравновешивается сейчас же и полностью соответствующим падением всех расходов по содержанию фермы, всякий земельный налог, всякий налог на капитал фермера или на предметы его жизненной необходимости - всё это принимается в расчёт. И если, после того как все эти вычеты будут сделаны, цена продукта не даст справедливого вознаграждения за вложенный капитал в соответствии с общей нормой прибыли и ренты, равной, по крайней мере, ренте с земли в её прежнем состоянии, то исчезнет всякое побуждение ввести проектируемое улучшение" ("Observations etc.", p. 22)>. Как согласовать эти выдержки с тем местом, где г-н Мальтус утверждает, что если бы предметы жизненной необходимости не обладали свойством создавать увеличение спроса, пропорциональное увеличению их количества, то производство их в изобильном количестве низвело бы в таком случае - и только в таком случае - цену сырых материалов к издержкам производства? Если цена хлеба никогда не бывает ниже его естественной цены, то он никогда и не может производиться в большем количестве, чем то, какого требует наличное население для собственного потребления. Тогда нельзя делать запасы для потребления других, и тогда дешевизна и изобилие хлеба не могут служить стимулом к размножению населения. Чем дешевле может производиться хлеб, тем легче рабочему содержать семью на увеличенную заработную плату. В Америке население растёт быстро, потому что предметы питания могут производиться там по дешёвым ценам, а не потому, что там предварительно были накоплены обильные запасы. В Европе, наоборот, население возрастает сравнительно медленно, потому что предметы питания не могут производиться по дешёвой стоимости. При обычном и установившемся ходе вещей спрос на все товары предшествует их предложению. Утверждая, что цена хлеба, как и цена промышленных изделий, понизится до их цены производства, если не поднимется спрос, г-н Мальтус не думает, конечно, что будет поглощена вся рента. Ведь он сам справедливо заметил, что если бы землевладельцы отказались от ренты, то цена хлеба не упала бы. Рента есть следствие, а не причина высокой цены, и в обработке всегда находится земля, совсем не платящая ренты и доставляющая хлеб, цена которого возмещает только заработную плату и прибыль. В следующей цитате г-н Мальтус дал умелое изложение причин возрастания цены сырых материалов в богатых и развивающихся странах, с каждым словом которого я согласен. Но мне кажется, что оно находится в противоречии с некоторыми из положений, защищаемых им в его исследовании о ренте. "Я нисколько не колеблюсь констатировать, что независимо от недостатков денежного обращения страны и других временных и случайных обстоятельств причиной сравнительно высокой денежной цены хлеба является его сравнительно высокая действительная цена или более значительное количество капитала и труда, которое должно быть затрачено на его производство. Я думаю также, что в странах, которые уже достигли богатства и где население и благосостояние продолжают увеличиваться, действительная цена хлеба выше и продолжает постоянно расти в силу необходимости переходить постоянно к обработке всё более бедных земель и вводить машины, которые можно пустить в ход только при помощи более значительных расходов. Вследствие этого всякое новое добавочное количество сырых материалов в стране покупается по более дорогой цене. Короче говоря, высокая цена находит себе объяснение в той весьма важной истине, согласно которой хлеб в развивающейся стране продаётся по цене, необходимой для того, чтобы соответствующее предложение было налицо, а так как иметь такое предложение в наличии становится всё труднее и труднее, то цена на хлеб соответственно поднимается". Здесь правильно констатируется, что действительная цена товара зависит от большего или меньшего количества труда или капитала (т. е. накопленного труда), которые должны быть затрачены на его производство. Действительная цена товара, в противоположность утверждению некоторых экономистов, не зависит ни от денежной стоимости, ни, как это утверждают другие, от отношения его стоимости к стоимости хлеба, труда или какого-нибудь другого товара, взятого в отдельности, или всех товаров, взятых вместе. Она зависит, как вполне справедливо говорит г-н Мальтус, от "большего или меньшего количества капитала и труда, которые должны быть затрачены на производство товара". В числе причин повышения ренты г-н Мальтус упоминает и "такое возрастание населения, которое повлечёт за собой понижение заработной платы". Но если падение заработной платы сопровождается повышением прибыли с капитала, а вместе они всегда составляют одну и ту же стоимость <См. гл. VI>, то никакое падение заработной платы не может привести к повышению ренты: такое падение не уменьшит ни той части продукта, которая достанется вместе фермеру и рабочему, ни её стоимости, и, следовательно, владелец земли не получит ни более значительной доли продукта, ни более значительной стоимости. Чем меньше приходится на долю заработной платы, тем больше останется на долю прибыли и vice versa. Раздел между фермером и его рабочими будет произведён без всякого вмешательства со стороны землевладельца. И действительно, последний совершенно не заинтересован в этом деле; разве что один способ раздела будет больше, чем другой, способствовать накоплению новых капиталов и дальнейшему спросу на землю. Если заработная плата падает, то поднимается прибыль, а не рента. Если заработная плата поднимается, то падает прибыль, а не рента. Рост ренты и заработной платы и падение прибыли являются, как правило, неизбежными следствиями одной и той же причины - возрастания спроса на предметы пищи, увеличения количества труда, требующегося для их производства, и следующего за этим повышения цен. Если бы владелец земли отказался от всей своей ренты, рабочие от этого не выиграли бы ровно ничего. Если бы рабочие могли отказаться <В первом и втором изданиях сказано было: "если бы рабочие отказались". - Прим. ред.> от всей своей заработной платы, владельцы земли не извлекли бы никакой выгоды из этого обстоятельства. Но в том и другом случае фермеры получили бы и удержали в свою пользу всё, от чего отказались бы владелец земли или рабочие. Я старался показать в этом сочинении, что падение заработной платы имело бы своим последствием только повышение прибыли. [А всякое повышение прибыли способствует накоплению капитала и дальнейшему возрастанию населения и ведёт поэтому в конечном счёте, по всей вероятности, к возрастанию ренты] <Вставка в третьем издании. - Прим. ред.>. Другой причиной повышения ренты являются, по мнению г-на Мальтуса, "такие сельскохозяйственные улучшения или такое возрастание напряжения труда, которые уменьшат число рабочих, необходимое для получения определённого результата". [Против этого места я могу привести те самые возражения, которые приводил уже против утверждения, что увеличение плодородия земли служит непосредственной причиной повышения ренты. Как сельскохозяйственные улучшения, так и более высокое плодородие сделают землю способной приносить в более или менее отдалённом будущем более высокую ренту, потому что при той же самой цене на предметы пищи мы будем теперь иметь большое добавочное количество их. Но, пока рост населения будет продолжаться в прежних размерах, не будет спроса на добавочное количество пищи, и, следовательно, рента не повысится, а, наоборот, понизится. Количество же пищи, которое может потребляться при существующих условиях, будет получено с помощью меньшего числа рабочих] <В первом издании вместо этого текста было сказано: "Это не увеличило бы стоимости всего продукта и не увеличило бы поэтому ренты, а скорее имело бы обратную тенденцию, т. е. понизило бы ренту; ибо если вследствие этих улучшений наличное количество требуемой пищи могло бы быть доставлено с помощью меньшего числа рабочих" и далее - как в тексте. - Прим. ред.> или с меньшей площади земли; тогда цена сырых материалов понизится и капитал будет извлечён из земли <См. гл. II>. Рента может повыситься только вследствие спроса на новые земли низшего качества или в силу какой-нибудь другой причины, которая вызвала бы изменение в относительном плодородии земель, уже находящихся в обработке <Нет никакой необходимости напоминать об этом при каждом случае, но следует всегда иметь в виду, что, поскольку речь идёт о цене сырых материалов и о повышении ренты, результаты получатся те же самые, будет ли добавочный капитал данных размеров затрачен на новую землю, за которую не платится никакой ренты, или на землю, которая уже находитcя в обработке, если, конечно, количество продукта, получаемого с обоих участков, будет совершенно одинаково (см. гл. II). В своих примечаниях к французскому переводу этого сочинения г-н Сэй старался показать, что никогда не бывает таких земель, которые находились бы в обработке и не платили бы ренты; вполне удовлетворённый своей аргументацией, он пришёл к заключению, что опроверг все выводы, которые следуют из учения о ренте. Так, например, он думает, что я неправ, утверждая, что налоги на хлеб и другие сырые материалы, повышая их цену, падают на потребителя, а не на ренту. Он настаивает, что такие налоги должны падать на ренту. Но прежде чем г-н Сэй сможет доказать правильность своего вывода, он должен ещё доказать, что не существует совсем капитала, который затрачивался бы на землю, не приносящую ренты (см. начало этого примечания и гл. II настоящего труда). А он даже не пытался сделать это. Ни в одном из своих примечаний он не опровергнул и даже не заметил этого весьма существенного положения. Из примечания его к стр. 182 второго тома французского издания видно, что он даже не знает, что такая теория существует. [Вместо этого примечания в первом издании другое: "Нет необходимости при всяком случае повторять, но нужно всегда иметь в виду, что тот же самый эффект был бы достигнут при применении различных, не равных частей капитала к уже находящейся в обработке земле и при получении различных результатов. Рента есть разница в продуктах, получаемых при помощи равных капиталов и равного труда на земле того же самого или различного качества".]>. Успехи агрономии и развитие разделения труда распространяются одинаково на все земли; они умножают абсолютное количество сырых материалов, получаемых с различных земель, но, по всей вероятности, не нарушают сколько-нибудь значительно сравнительное соотношение, существовавшее прежде между этими землями. [Г-н Мальтус верно указал ошибочность аргументации д-ра Смита, по мнению которого хлеб - товар столь своеобразной природы, что производство его не может быть поощряемо таким же путём, каким поощряется производство других товаров. Он по этому поводу замечает] <В первом издании вместо этого текста был следующий текст: "Г-н Мальтус верно указал ошибку Адама Смита, говоря: "Сущность его (д-ра Смита) аргументации заключается в том, что хлеб есть совершенно особенный товар и что его действительная цена не может быть повышена путём возрастания его денежной цены; если же - что совершенно ясно - только возрастание действительной цены может поощрить производство, то повышение денежной цены, вызванное премией, не может иметь такого действия". Он продолжает">: "Я нисколько не думаю отрицать могучее влияние, которое цена хлеба оказывает на цену труда в среднем на протяжении многих лет. Но влияние это не настолько сильно, чтобы помешать приливу капиталов в земледелие или их отливу из него, - а именно в этом и заключается сущность вопроса; последний станет достаточно ясен, если мы хотя бы вкратце исследуем вопрос о способе, каким оплачивается и доставляется на рынок труд, и если мы рассмотрим следствия, к которым неизбежно привело бы принятие положения Адама Смита" <Malthus, Observations on the Corn Laws, p. 4>. Далее г-н Мальтус доказывает, что спрос и высокая цена окажут такое же поощряющее действие на производство сырых материалов, как и на производство всякого другого товара. Из того, что я прежде говорил о последствиях премий, видно, что в этом пункте я вполне соглашаюсь с г-ном Мальтусом. Я привёл цитату из его сочинения "Замечания по поводу хлебных законов", чтобы показать, что термин "действительная цена" употребляется в указанном сочинении в совершенно ином смысле, чем в другом его памфлете - "Основы взгляда на политику ограничения ввоза иностранного хлеба". В этой цитате г-н Мальтус говорит: "Ясно, что только повышение действительной цены может поощрять производство хлеба", причём под действительной ценой он, очевидно, подразумевает увеличение его стоимости по отношению к другим предметам, или, другими словами, рост его рыночной цены выше его естественной цены или издержек его производства. Если г-н Мальтус подразумевает именно это под действительной ценой, то, даже не соглашаясь с таким употреблением этого термина, я должен признать его мнение несомненно правильным. Действительно только повышение рыночной цены хлеба поощряет его производство, и мы можем принять как принцип, всегда сохраняющий свою силу, что только превышение рыночной стоимости товара над его естественной или необходимой стоимостью может явиться большим поощрением к расширению его производства. Но сам же г-н Мальтус в других случаях придаёт термину "действительная цена" совершенно другое значение. В исследовании о ренте <He в исследовании о ренте, а в работе "Grounds of an Opinion etc.", p. 21. - Прим. ред.> он говорит: "Под действительной ценой, по которой добывается хлеб, я подразумеваю действительное количество труда и капитала, затраченное на производство последних прибавлений к национальному продукту". В другом месте он констатирует, что "относительно высокая действительная цена хлеба имеет своей причиной более значительное количество капитала и труда, которое должно быть затрачено на его производство" <Когда я, перед тем как отдать эти страницы в печать, показал их г-ну Мальтусу, он сказал мне, что "в этих двух случаях он по недосмотру употребил термин действительная цена вместо издержек производства". Из всего сказанного уже мною по этому поводу видно, что, по моему мнению, в этих двух случаях г-н Мальтус употребил термин "действительная цена" в его истинном и правильном значении и что только в предыдущем случае он употребил его неправильно.>. Предположим, что в предыдущей цитате мы ввели это определение действительной цены. Разве она не будет тогда гласить так: "Ясно, что только увеличение количества труда и капитала, которое должно быть затрачено на производство хлеба, может поощрять его производство". Но это было бы равносильно утверждению, что повышение естественной, или необходимой, цены хлеба поощряет его производство, - положение, которое нельзя было бы отстаивать. На производимое количество хлеба оказывает влияние не цена хлеба, по которой он может быть произведен, а цена, по которой он может быть продан. Капитал привлекается к земле или отвлекается от нее, смотря по тому, насколько цена хлеба выше или ниже издержек производства. Если это повышение настолько велико, что капитал, сложенный в земледелие, проносит более высокую прибыль, чем средняя, то капитал будет привлекаться к земле, а если он приносит менее высокую прибыль, то капитал будет извлечен из земледелия. Итак, производство хлеба поощряется не вследствие изменения в действительной цене хлеба, а вследствие изменения в его рыночной цене. Не "потому к земле привлекается более значительное количество капитала и труда, что для производства хлеба требуется более значительное количество их (согласно правильному определению действительной цены г-ном Мальтусом), а потому, что рыночная цена хлеба поднимается выше его действительной цены и, несмотря на возрастание расходов, делает земледелие более прибыльным занятием для капитала". Вполне справедливы следующие замечание г-на Мальтуса о мере стоимости, которая была выбрана Адамом Смитом: "Адам Смит был, очевидно, увлечен на этот путь ошибочной аргументацией вследствие своей привычки рассматривать труд как стандартную меру стоимости, а хлеб - как меру труда. Но история нашей собственной страны лучше всего доказывает, что хлеб является очень неточной мерой труда: здесь труд подвергался очень крупным и резким изменениям по сравнению с хлебом не только из года в год, но и из века в век, и притом в течение десяти, двадцати и тридцати лет подряд. А что ни труд, ни какой-нибудь другой товар не могут служить точной мерой действительной меновой стоимости, - это является теперь одним из наиболее неопровержимых положений политической экономии и действительно вытекает из самого определения меновой стоимости". Если, как это вполне ясно, ни хлеб, ни труд не могут служить точной мерой действительной меновой стоимости, то какой другой товар может служить ею? Разумеется, ни один. Поэтому, если выражение "действительная цена товаров" имеет какое-нибудь значение, то только такое, какое ему придает г-н Мальтус в своем исследовании о ренте, - действительная цена измеряется соответствующим количеством капитала и труда, необходимого для их производства. В "Исследовании о природе ренты" г-н Мальтус говорит, что "независимо от недостатков денежного обращения страны и других временных и случайных обстоятельств причиной сравнительно высокой денежной цены хлеба является его сравнительно высокая действительная цена или более значительно количество капитала и труда, которое должно быть затрачено не его производство" <Malthus, Inquiry into the Nature and Progress of Rent, p. 40>. Я полагаю, что это вполне правильно объясняет все постоянные изменения в цене хлеба или какого-нибудь другого товара. Цена товара может долго держаться на высоком уровне или потому, что на производство его требуется более значительное количество капитала и труда, или потому, что упала стоимость денег. И, наоборот, цена товара может упасть или потому, что на производство его может быть затрачено меньшее количество труда и капитала, или потому, что стоимость денег повысилась. Изменение, которое происходит в силу последней причины - изменения стоимости денег, распространяется одновременно на все товары, тогда как изменение, происходящее в силу первой из указанных причин, ограничивается только тем именно товаром, на производство которого требуется больше или меньше труда. Благодаря разрешению свободного ввоза хлеба или вследствие успехов агрономии цена сырых материалов может упасть, но цена других товаров будет затронута этим лишь постольку, поскольку упадут действительная стоимость или издержки производства сырого материала, который входит в их состав. Раз г-н Мальтус признает этот принцип, то, желая быть последовательным, он, по моему мнению, не может признавать, что денежная стоимость всех товаров в стране должна падать строго пропорционально падению цены хлеба. Если бы стоимость хлеба, ежегодно потребляемого страной, составляла 10 млн., а стоимость промышленных изделий и иностранных товаров - 20 млн., или вместе - 30 млн., то мы не могли бы сделать вывод, что годичные расходы понизились до 15 млн. только потому, что стоимость хлеба упала на 50%, или с 10 до 5 млн. Стоимость сырых материалов, входивших в состав промышленных изделий, могла бы, например, составлять не больше 20% их валовой стоимости, и, следовательно, стоимость промышленных товаров упала бы не с 20 до 10 млн., а только с 20 до 18 млн. Таким образом, после падения цены хлеба наполовину вся сумма годичных расходов упала бы не с 30 до 15 млн., а только с 30 до 23 млн. <Стоимость промышленных товаров в действительности не могла бы упасть в таком отношении потому, что при предположенных условиях произошло бы другое распределение драгоценных металлов среди различных стран. Наши дешёвые товары вывозились бы в обмен на хлеб и золото до тех пор, пока накопление золота не понизило бы его стоимости и не повысило бы денежную цену товаров.> [Такова была бы, по моему мнению, их стоимость при предположении, что при такой дешёвой цене хлеба не увеличивалось бы потребление его, как и других товаров. Но все обращавшие прежде свой капитал на получение хлеба с таких земель, обработка которых прекратилась бы, могли бы теперь затратить его на производство промышленных изделий; а так как только часть последних была бы отдана в обмен на иностранный хлеб, - при всяком другом предположении ввоз и низкие цены не принесли бы никакой выгоды, - то добавочная стоимость всей суммы произведённых, но не вывезенных промышленных изделий была бы присоединена к вышеуказанной стоимости. Таким образом, действительное уменьшение стоимости, - даже если речь идёт о денежной стоимости, - всех товаров в стране, включая и хлеб, свелось бы только к потере, которую понесли бы землевладельцы вследствие уменьшения их ренты, тогда как количество предметов удовольствия значительно возросло бы.] <Эта вставка сделана только в третьем издании. - Прим. ред.> Вместо того чтобы рассмотреть следствия падения стоимости сырых материалов с этой точки зрения, - что г-н Мальтус обязан был сделать на основе своего прежнего допущения, - он отождествляет это падение с повышением стоимости денег на 100% и вследствие этого строит свою аргументацию так, как будто цена всех товаров понизилась наполовину. "В течение двадцати лет, - говорит он, - начиная с 1794 г. и по 1813 г. включительно, средняя цена британского хлеба составляла около 83 шилл. за квартер; в течение последних десяти лет этого периода - 92 шилл., а в течение последних пяти лет - 108 шилл. В продолжение всего двадцатилетнего периода правительство заняло около 500 млн. реального капитала и обязалось платить за него по грубой прикидке в среднем около 5%, не считая фонда погашения. Но если бы цена хлеба упала до 50 шилл. за квартер и в соответствии с этим упали бы цены других товаров, то правительство в действительности платило бы не около 5, а 7, 8 и 9%, а за последние 200 млн. - даже 10%. Я не расположен был бы делать какие-нибудь возражения против такой необыкновенной щедрости по отношению к держателям государственных бумаг, если бы при этом не было необходимости исследовать, на кого в сущности падает уплата указанных процентов. Нетрудно понять, что последние могут быть уплачены только промышленными классами общества и землевладельцами, т. е. теми классами, номинальный доход которых изменяется с каждым изменением в мере стоимости. Номинальные доходы этой части общества уменьшились бы наполовину в сравнении со средним доходом последних пяти лет, и из такого уменьшенного номинального дохода эти классы должны были бы уплачивать в виде налогов ту же самую номинальную стоимость, что и прежде" <"The Grounds of an Opinion etc.", p. 39>. Во-первых, я, как мне кажется, уже доказал, что даже стоимость валового дохода всей страны не уменьшилась бы в таком отношении, как думает г-н Мальтус. Из того обстоятельства, что цена хлеба упала на 50%, ещё вовсе не следует, что стоимость валового дохода каждого человека должна уменьшиться на 50% <В другой части того же самого сочинения г-н Мальтус предполагает, что стоимость товаров может измениться на 25 или 20%, в то время как стоимость хлеба изменяется на ЗЗ 1/3 %">. [В действительности стоимость его чистого дохода может возрасти.] <Эта вставка сделана только в третьем издании. - Прим. ред.> Во-вторых, читатель, думаю, согласится со мною, что если это увеличение расходов действительно произойдёт, то оно не падёт исключительно "на землевладельцев и промышленные классы общества". Держатель государственных бумаг, производя свои расходы, вносит свою часть на покрытие государственных тягот, точно так же как и другие классы общества. Поэтому если бы стоимость денег действительно повысилась, то они, даже получая более значительную стоимость, должны были бы также вносить более значительную стоимость в виде налогов. Итак, совершенно неверно, что вся прибавка к действительной стоимости добавочных процентов была бы уплачена "землевладельцами и промышленными классами". Впрочем, вся аргументация г-на Мальтуса покоится на шатком основании: она основывается на предположении, что раз уменьшается валовой доход страны, то вследствие этого должен уменьшиться в таком же отношении и чистый доход. В настоящем труде одной из моих задач было показать, что при каждом понижении действительной стоимости предметов насущной необходимости падает заработная плата труда и поднимается прибыль с капитала. Другими словами, из данной годовой стоимости на долю рабочего класса достанется меньше, а на долю тех, на чьи фонды нанимаются рабочие, - больше. Предположим, что стоимость товаров, производимых на какой-нибудь фабрике, составляет 1 тыс. ф. ст. и что она делится между хозяином и рабочими так, что первый получает 200 ф. ст., а последние - 800 ф. ст. Если бы стоимость этих товаров понизилась до 900 ф. ст. и 100 ф. ст. были бы сбережены за счёт заработной платы вследствие падения цен на предметы насущной необходимости, то чистый доход хозяина нисколько не уменьшился бы. Он, следовательно, мог бы платить ту же сумму налогов с такой же лёгкостью, как и прежде, до уменьшения цены. <Вот что говорит г-н Сэй о чистом и валовом продукте: "Вся произведённая стоимость составляет валовой продукт; та же стоимость за вычетом из нее издержек производства составляет чистый продукт" (т. II, стр. 491). Таким образом, чистый продукт не может существовать, так как, согласно г-ну Сэю, издержки производства состоят из ренты, заработной платы и прибыли. На стр. 508 он говорит: "Стоимость продукта, стоимость производительных услуг, стоимость издержек производства - всё это сходные стоимости, если вещи предоставлены своему естественному ходу". Отнимите от целого целое, и у вас ничего не останется. [В первом и втором изданиях вместо этого примечания было следующее: "В гл. XXVI я отметил, что действительные ресурсы страны и со способность платить налоги зависят не от её валового, а от чистого дохода".]>. [Очень важно проводить отчётливое различие между валовым и чистым доходом, потому что все налоги должны уплачиваться из чистого дохода общества. Предположим, что все товары в стране - весь хлеб, сырые материалы, промышленные изделия и т. п., - которые могут быть доставлены на рынок в течение года, имеют стоимость в 20 млн. и что для получения этой стоимости необходим труд известного числа людей и что предметы насущной необходимости для этих рабочих требуют расхода в 10 млн. Я сказал бы тогда, что валовой доход такого общества составляет 20 млн., а чистый - 10 млн. Из этого предположения вовсе не следует, что рабочие получили бы за свой труд только 10 млн., они могли бы иметь 12, 14 или 15 млн., и в этом случае они получили бы из чистого дохода 2, 4 или 5 млн. Остаток был бы разделён между землевладельцами и капиталистами, но весь чистый доход не превышал бы 10 млн. Предположим, что такое общество платит 2 млн. в виде налогов, тогда его чистый доход уменьшится до 8 млн. Предположим теперь, что стоимость денег увеличилась на одну десятую. Тогда упадёт цена всех товаров, упадёт также цена труда, потому что предметы насущной необходимости для рабочего составляли часть этих товаров, и, следовательно, валовой доход уменьшился бы до 18 млн., а чистый - до 9 млн. Если бы налоги упали в таком же отношении и вместо 2 млн. взималось бы только 1 800 тыс. ф. ст., то чистый доход уменьшился бы затем до 7 200 тыс. ф. ст., которые имели бы теперь точно такую же стоимость, как прежде 8 млн. Следовательно, общество вследствие этой перемены ничего не потеряло бы и ничего не выиграло бы. Но предположим, что после повышения стоимости денег в виде налогов взимались бы, как и прежде, 2 млн., тогда общество стало бы беднее на 200 тыс. ф. ст. в год, так как налоги действительно возросли бы на одну десятую. Изменить денежную стоимость товаров путём изменения стоимости денег и взимать всё же в виде налогов ту же сумму денег - это, без сомнения, означает увеличить бремя, лежащее на обществе. Но предположим, что из 10 млн., составляющих чистый доход, землевладельцы получили 5 млн. в виде ренты и что вследствие большей лёгкости производства или ввоза хлеба необходимые издержки его производства уменьшатся на 1 млн. Тогда рента упадёт на 1 млн., и в таких же размерах упадут и цены всей массы товаров, но чистый доход останется таким же, как и прежде. Правда, валовой доход будет составлять только 19 млн., а необходимые расходы для получения его - 9 млн., но чистый доход всё-таки составит 10 млн. Предположим теперь, что из этого уменьшенного валового дохода взимается налогами 2 млн. Стало ли бы общество богаче или беднее? Конечно, богаче, так как после уплаты налогов оно имело бы в своём распоряжении чистый доход в 8 млн. и могло бы затратить его на покупку товаров, количество которых возросло, а цена упала в отношении 20 : 19. Таким образом, общество могло бы легко вынести не только прежнее податное бремя, но и более значительное, и, несмотря на это, народные массы были бы лучше снабжены предметами удобства и необходимости. Если бы чистый доход общества после уплаты той же суммы денег в форме налогов был так же велик, как и прежде, а класс землевладельцев потерял бы 1 млн. вследствие падения ренты, то, несмотря на падение цен, должны были бы повыситься денежные доходы других производительных классов. Капиталист тогда выиграл бы в двояком отношении: во-первых, уменьшилась бы цена хлеба и мяса, потребляемых им и его семьёй, во-вторых, понизилась бы заработная плата его прислуги, садовников и всякого рода рабочих. Его лошади и скот стоили бы меньше, и расходы на их содержание уменьшились бы. Цены всех товаров, в состав которых сырые материалы входят как главная часть их стоимости, упали бы. Совокупная сумма всех этих сбережений, сделанных им при трате дохода и при одновременном увеличении денежного дохода, принесла бы ему двойную выгоду и дала бы ему возможность не только увеличить количество своих благ, но и платить также добавочные налоги, если бы это потребовалось. Добавочное потребление капиталистами обложенных товаров с избытком уравновесило бы уменьшение спроса на них со стороны землевладельцев, вызванное понижением их ренты. Те же самые замечания относятся к фермерам и промышленникам всех категорий. Но могут сказать, что доход капиталиста не возрастёт, что миллион, который был вычтен из ренты землевладельца, будет уплачен в виде добавочной заработной платы рабочим! Пусть будет так, но это нисколько не ослабляет моей аргументации. Положение общества улучшилось бы, и оно было бы в состоянии нести то же самое денежное бремя с большей лёгкостью, чем прежде. Это только доказывает, что вследствие нового распределения улучшилось бы главным образом положение другого класса, и именно наиболее важного класса общества, а это было бы ещё более желательно. Всё, что получит этот класс сверх 9 млн., составляет часть чистого дохода страны и не может быть израсходовано без соответствующего увеличения её дохода, благосостояния или могущества. Вы можете поэтому распределить чистый доход, как вам угодно. Отдайте немного больше одному классу, немного меньше другому - вы этим не уменьшите сумму чистого дохода. При помощи того же самого количества труда будет производиться более значительное количество товаров, хотя размеры валовой денежной стоимости таких товаров уменьшились бы. Но чистый денежный доход страны, фонд, из которого выплачиваются налоги и получаются средства на предметы удовольствия, будет теперь более, чем прежде, адекватен необходимости содержать наличное население, доставлять ему предметы роскоши и удовольствия и возможность вынести обложение налогами в любых данных размерах.] <Вместо текста начиная от "Очень важно" до "данных размерах", в первом и втором изданиях было сказано: "Таким образом, весьма вероятно, что заработная плата понизится настолько же, насколько и вся масса товаров, или, скорее, что чистый доход, остающийся в распоряжении землевладельцев, фермеров, фабрикантов, купцов и денежных капиталистов, единственных действительных налогоплательщиков, был бы так же велик, как и прежде; вследствие более свободного ввоза хлеба общество не потеряло бы ничего даже номинально, кроме части ренты, которой лишились бы землевладельцы благодаря падению цен на сырые материалы. Разница между стоимостью хлеба и всех других товаров, продаваемых в стране до и после ввоза дешёвого хлеба, равнялась бы только снижению ренты, потому что независимо от ренты одно и то же количество труда производило бы всегда одну и ту же стоимость. Вся сумма, на которую уменьшилась заработная плата, есть действительная стоимость, которая прибавляется к стоимости чистого дохода, находившегося до того в распоряжении общества, в то время как единственная стоимость, взятая из этого чистого дохода, есть стоимость той части их ренты, которой лишены будут землевладельцы вследствие падения цен на сырые материалы. Если принять во внимание, что понижение цен этих продуктов производит своё действие на ограниченное число землевладельцев, тогда как оно снижает заработную плату не только тех, кто занят в земледелии, но и всех тех, кто занят в промышленности и торговле, то можно сомневаться, будет ли чистый доход общества хотя бы в малейшей степени уменьшен" <Все это верно при предположении, что деньги продолжают сохранять свою прежнюю стоимость. Но в последнем примечании я старался показать, что деньги не сохранят свою прежнюю стоимость, что она понизится вследствие возросшего ввоза, а этот факт еще больше подтверждает правильность моего взгляда.>. Но если даже предположить, что он был бы уменьшен, то не следует думать, что налогоспособность уменьшится в такой же степени, как и денежная стоимость даже чистого дохода. Предположим, что мой чистый доход уменьшился с 1 тыс. до 900 ф. ст., но что мои налоги остались без изменения; разве нельзя допустить, что моя способность уплатить эти 100 ф. ст. может быть больше при меньшем доходе, чем при большем? Товары не могут понижаться в своей цене так огульно, как это предполагает г-н Мальтус, без того, чтобы потребители извлекали из этого большую прибыль, без того, чтобы они могли таким путём получить для себя при меньшем денежном доходе гораздо большую сумму предметов насущной необходимости, удобства или роскоши для удовлетворения своих человеческих потребностей. Вопрос сводится к следующему: выиграют ли те, кто владеет чистым доходом страны, столько же в силу уменьшения цены товаров, сколько они потеряют вследствие большего реального налогового обложения? В какую сторону склонится баланс, будет зависеть от отношения, в котором налоги будут находиться к годичному доходу; если они будут чрезвычайно велики, то они, несомненно, более чем уравновесят выгоды от более дешёвых предметов необходимости. Но, думается мне, я в достаточной степени показал, что г-н Мальтус в слишком большой степени преувеличил потери налогоплательщиков вследствие падения цены одного из наиболее важных предметов насущной необходимости и что, если бы они не были вполне вознаграждены за действительное возрастание налогов падением заработной платы и повышением прибыли, они были бы более чем вознаграждены пониженными ценами на все предметы, на которые тратится их доход". - Прим. ред.> Не подлежит никакому сомнению, что держатель государственных бумаг также выигрывает при большом падении стоимости хлеба. Но если никто больше не страдает от этого, то нет никакого основания стараться сделать хлеб дороже. Выигрыш, получаемый держателями государственных бумаг, является выигрышем для всей нации и, как всякий другой выигрыш, увеличивает действительное богатство и могущество страны. Если же он получен несправедливо, то необходимо установить это вполне точно, и тогда уже законодательные органы должны будут принимать соответственные меры. Но трудно придумать более неблагоразумную политику, чем та, которая заставляет нас отказаться от больших выгод, сопряжённых с дешевизной и изобилием хлеба, только потому, что держатели государственных бумаг могут получить слишком большую долю этих выгод. Никто ещё не пытался до сих пор регулировать дивиденды на капитал на основании денежной стоимости хлеба. Если бы справедливость и честность требовали такого регулирования, то держателям государственных бумаг прежних времён причитался бы большой долг. Ведь они в течение более ста лет получали один и тот же денежный дивиденд, хотя цена хлеба за это время, быть может, удвоилась или утроилась <Г-н Мак-Куллох очень энергично выступил в своём ценном труде в защиту правомерности мероприятий, приспособляющих проценты по государственным долгам к уменьшенной стоимости хлеба. Он стоит за свободу торговли хлебом, но думает, что она должна быть связана с понижением процентов для государственных кредиторов. [Это примечание. Мак-Куллох не поместил ни в одном из изданных им собраний сочинений Рикардо, хотя оно имеется во всех трех изданиях "Начал".]>. [Но было бы большой ошибкой предполагать, что положение держателя государственных бумаг улучшилось бы в большей степени, чем положение фермера, фабриканта и других капиталистов в стране. На самом деле оно улучшилось бы в меньшей степени. Держатель государственных бумаг будет, без сомнения, получать тот же самый денежный дивиденд, в то время как упадут не только цены на сырые материалы и на труд, но и цены многих других предметов, в которые сырые материалы входят как составная часть. Но это, как я уже только что констатировал, выгода, которой он пользуется наравне со всеми другими лицами, располагающими такими же самыми денежными доходами. Его денежный доход не возрастёт, тогда как денежный доход фермера, фабриканта и других предпринимателей повысится и все они, следовательно, выиграют дважды. Но, скажут нам, пусть капиталисты действительно выигрывают от повышения прибыли, вызываемого падением заработной платы, но ведь их доходы должны понизиться вследствие падения денежной стоимости их товаров. Какая причина могла вызвать это понижение? Не изменение стоимости денег, ибо, по нашему предположению, не произошло ничего такого, что могло бы изменить их стоимость. И не уменьшение количества труда, необходимого для производства этих товаров, потому что такого не было, да если бы оно и было, оно не понизило бы денежную прибыль, хотя могло бы понизить денежные цены товаров. Но мы предположили, что упала цена сырых материалов, из которых сделаны эти товары, и, следовательно, цены их могли упасть в силу этой причины. Верно, что цена их упадёт, но её падение не будет сопровождаться каким-либо уменьшением денежного дохода для их производителя. Если последний продаёт свой товар за меньшее количество денег, то он это делает потому, что упала стоимость одного из материалов, из которых сделан его товар. Если фабрикант сукна продаёт своё сукно вместо 1 тыс. ф. ст. за 900 ф. ст., то его доход не уменьшится, если стоимость шерсти, из которой сделано его сукно, в свою очередь уменьшилась на 100 ф. ст.] <Текст, взятый в скобки, есть только в третьем издании. - Прим. ред.> Г-н Мальтус говорит: "Верно, что последние прибавки к сельскохозяйственному продукту процветающей страны не затрагивают значительной части ренты. Именно в силу этого обстоятельства богатая страна может допустить ввоз некоторой части необходимого ей хлеба, если она может быть уверена, что обеспечит этим путём соответствующее предложение его. Но при всяких условиях ввоз иностранного хлеба не будет выгоден для всей нации, если он не настолько дешевле хлеба, который может возделываться внутри страны, чтобы возместить прибыль и ренту с зерна, которое он вытесняет" <"Grounds etc.", p. 36>. [Это замечание Мальтуса совершенно правильно. Но ввозимый хлеб должен быть всегда настолько дешевле хлеба, который может возделываться внутри страны, чтобы "возместить прибыль и ренту с зерна, которое он вытесняет". Если бы это было иначе, то никому не было бы никакой выгоды ввозить его. ] <Вставка сделана только в третьем издании. - Прим. ред.> Так как рента есть следствие высокой цены хлеба, то потеря ренты есть следствие низкой цены его. Иностранный хлеб никогда не вступает в конкуренцию с хлебом внутреннего производства, приносящим ренту. Падение цены неизменно приносит землевладельцу убыток, пока, наконец, не поглощает всю его ренту. Если бы цена упала ещё ниже, то она не доставляла бы даже обычной прибыли на капитал. Последний оставил бы тогда землю для какого-нибудь другого занятия. Хлеб, который прежде производился на этой земле, был бы заменён привозным хлебом только тогда, но не раньше. Потеря ренты повлекла бы за собой в этом случае потерю в стоимости, выраженной в деньгах, но зато увеличилось бы богатство. Количество сырых материалов и других продуктов, вместе взятых, возросло бы, но вследствие большей лёгкости, с которой они производятся, увеличение их количества будет сопровождаться уменьшением их стоимости. Два человека употребляют одинаковые капиталы: один - в земледелии, другой - в обрабатывающей промышленности. Капитал, применяемый в земледелии, производит чистую годичную стоимость в 1 200 ф. ст., из которых 1 тыс. удерживается как прибыль, 200 ф. ст. идут на уплату ренты, а капитал, применяемый в обрабатывающей промышленности, производит годичную стоимость в размере только 1 тыс. ф. ст. Предположим, что с помощью ввоза количество хлеба стоимостью в 1 200 ф. ст. может быть получено за товары, стоящие 950 ф. ст., и что вследствие этого капитал, применяемый в земледелии, будет перемещён в обрабатывающую промышленность, где он может произвести стоимость в 1 тыс. ф. ст. Тогда стоимость чистого дохода страны понизилась бы и он уменьшился бы с 2 200 до 2 тыс. ф. ст. Но при этом страна располагала бы для своего потребления не только тем же самым количеством товаров и хлеба, но ещё и добавочным количеством, которое можно было бы купить на 50 ф. ст., т. е. на разность между стоимостью её промышленных товаров, продаваемых за границу, и стоимостью закупаемого там хлеба. [К этому в сущности и сводится весь вопрос о выгоде ввоза хлеба или производства его внутри страны. Хлеб не может быть ввозим до тех пор, пока количество его, получаемое из-за границы путём использования данного капитала, не превысит количества, которое при содействии того же самого капитала может быть произведено внутри страны, - не превысит не только количество хлеба, достающегося на долю фермера, но и уплачиваемого в виде ренты землевладельцу.]<Вставка эта имеется только во втором и третьем изданиях, но во втором издании было ещё продолжение: "Г-н Мальтус может быть поэтому вполне спокоен: никакой ввоз иностранного хлеба не будет иметь места, если ввезённый хлеб не настолько дешевле хлеба внутреннего производства, чтобы возместить как прибыль, так и ренту, приносимые хлебом, который он вытесняет". - Прим. ред.> Г-н Мальтус говорит: "Адам Смит справедливо заметил, что никогда то же количество производительного труда, затраченного в обрабатывающей промышленности, не приведёт к воспроизводству таких размеров, как в земледелии". Если Адам Смит говорит о стоимости, он прав; если он говорит о богатстве, и в этом-то суть дела, он заблуждается: ведь он сам определяет богатство как сумму предметов насущной необходимости, удобства и удовольствия. Одна категория предметов необходимости и удобства не может быть сравниваема с другой. Нет такой меры, с помощью которой мы могли бы измерить потребительную стоимость: разными лицами она оценивается различно. ТОМ 2. Статьи и речи о денежном обращении и банках
Давид Рикардо Редактор: О. Арав Предисловие (С. Выгодский)
"Чем американские рудники были для Юма, тем для Предлагаемый вниманию читателя II том сочинений Рикардо содержит ряд статей и речей, посвящённых вопросам денежного обращения, государственных финансов и кредита. Лейтмотивом всех этих работ являются три центральные идеи:
Практическим поводом для выступлений Рикардо по этим вопросам послужило прекращение Английским банком в 1797 г. размена банкнот на золото и последовавшее затем обесценение банкнот. Это обесценение нашло своё выражение как в отклонении рыночной цены золота от его цены в монете, так и в повышении товарных цен. Надо отметить, что в первые годы существования неразменных банкнот рыночная цена золота не так сильно отклонялась от его цены в монете. Английский банк до 1808 г. успешно поддерживал курс бумажных денег: разница между банковыми билетами и золотом была незначительна. Но уже в 1809 г. эта разница резко усилилась и достигла 20-25% . Одновременно повысились и товарные цены. На этой почве возникла страстная борьба партий в парламенте и не менее страстная теоретическая дискуссия вне парламента. Английский банк, возглавляемый обществом частных денежных спекулянтов, которые получали немалую выгоду от выпуска бумажных денег, не обеспеченных золотом, министры и военная партия, для которых эмиссия банкнот явилась источником финансирования огромных для того времени военных издержек, не только всячески затушёвывали опасность, но отрицали самый факт обесценения банкнот. В лице Рикардо противники Английского банка (вокруг которых группировалась парламентская оппозиция, виги и партия мира) нашли сильного и последовательного борца зa устойчивую валюту, за восстановление размена банкнот на золото, за создание денежной системы, способствующей максимальному сокращению непроизводительных издержек обращения и росту богатства страны. Маркс неоднократно подчёркивал научную добросовестность Рикардо и прогрессивный характер его теории. Эти высокие качества Рикардо как представителя передовой для своего времени науки нашли своё отражение и в его памфлетах, посвящённых вопросам денежного обращения. Но, несмотря на всё это, у Рикардо были ошибочные взгляды в теории денег, которые привели его к вульгарной, так называемой количественной, теории. В своём памфлете "Высокая цена слитков - доказательство обесценения банкнот" (1811 г.) Рикардо исходит из той правильной предпосылки, что "золото и серебро имеют присущую им стоимость, которая не является произвольной..." <Давид Рикардо, Высокая цена слитков - доказательство обесценения банкнот>. Правда, в этой работе Рикардо определял стоимость драгоценных металлов их редкостью, количеством труда, затраченного на их добывание, и стоимостью капитала, применяемого в производстве. Однако шесть лет спустя в своём основном труде "Начала политической экономии и налогового обложения" (1817 г.) Рикардо решительно заявил, что "общее правило, регулирующее стоимость сырья и промышленных товаров, применимо и к металлам; их стоимость зависит... от всего количества труда, необходимого для получения металла и для доставки его на рынок" <Давид Рикардо, Начала политической экономии и налогового обложения>. Рикардо был далёк от того, чтобы определять цены товаров количеством денег в обращении, а стоимость денег их количеством, как это делал в своё время Давид Юм и как это делают в наши дни представители количественной теории денег. Рикардо совершенно правильно утверждал, что при данной стоимости денег количество средств обращения зависит от товарных цен. Бумажные деньги, если они выпущены в пропорции, определяемой стоимостью золотых денег, являются не только достойными, но и наиболее совершенными их представителями в обращении. "Оградить население от всяких других изменений стоимости денег, кроме тех, которым подвергается стандартный денежный материал, и в то же время удовлетворять впредь нужды обращения с помощью наименее дорогого средства его - значит довести наше денежное обращение до последней степени совершенства". <Давид Рикардо, Предложения в пользу экономного и устойчивого денежного обращения> Рикардо утверждал, что денежное обращение находится в самом совершенном положении, когда оно состоит целиком из бумажных денег, при условии если их стоимость равняется стоимости представляемого ими золота. Он правильно рассматривал бумажные деньги в качестве представителей золота, знаков его стоимости. Однако в ходе дальнейшего изложения Рикардо отступил от этой единственно правильной позиции и перешёл к совершенно противоположному взгляду, согласно которому стоимость денег определяется их количеством. Это произошло потому, что он не исследовал сущности денег как всеобщей формы труда в буржуазном обществе, как всеобщего эквивалента. Рикардо рассматривал деньги в их текучей форме как средство обращения. Он исходил из той ложной предпосылки, что любое количество благородного металла, служащего в качестве денег, должно сделаться средством обращения. Если в результате нового притока золота из рудников масса обращающегося золота окажется выше надлежащего уровня, оно понизится в своей стоимости, а товарные цены соответственно повысятся. Стоимость денег определяется здесь их количеством, а повышение товарных цен рассматривается как следствие относительного увеличения массы обращающихся денег. Это и есть тот противоположный взгляд, к которому пришёл Рикардо, как только свернул с прямого пути своего исследования. Действительно, вначале Рикардо стоял на прочных научных позициях. Деньги одарены своей собственной стоимостью. При данной стоимости денег их количество определяется товарными ценами. Цены товаров в свою очередь определяются стоимостью. Но стоило Рикардо столкнуться с конкретным фактом обесценения бумажных денег в Англии в начале XIX века, как он отказался от своего же правильного понимания закона стоимости как основы и исходного пункта денежного обращения. Отказавшись от основного положения, согласно которому от стоимости золота и товарных цен зависит количество денег в обращении, Рикардо ставит вещи на голову. Он утверждает, что, напротив, сама стоимость золота, как и товарные цены определяются количеством денег в обращении. Противоположный взгляд, к которому Рикардо пришёл, бросил его в объятия количественной теории денег. Рикардо полагал, что золотые деньги так же вынуждены оставаться в обращении, как выпущенные государством бумажные деньги с принудительным курсом. Отвлекшись от всех остальных функций, выполняемых деньгами, кроме функции средства обращения, Рикардо не видел никакого различия между золотыми и бумажными деньгами. Он забывал, что бумажные деньги являются простыми знаками стоимости. Находясь всецело под впечатлением факта обесценения бумажных денег, Рикардо делал ложное обобщение, утверждая, что цены товаров определяются количеством денег в обращении. Это грехопадение Рикардо не является случайным. Рассматривая буржуазный строй как вечную и естественную форму общественного производства, он не видел исторических особенностей товарного производства, необходимости выделения на этой базе особого товара в качестве всеобщего эквивалента. В представлении Рикардо деньги являются техническим орудием, облегчающим обмен. Этим объясняется то, что Рикардо игнорировал все другие функции денег, кроме их функции, как средства обращения. Рикардо, естественно, не знал, что товарное обращение может поглотить только определённое количество золотой монеты, что всё то золото, которое имеется сверх этого, останется за пределами обращения - в роли сокровища. Но если Рикардо и смешивает золотые деньги с бумажными знаками, то он отдаёт себе отчёт в том, что устойчивое денежное обращение возможно лишь на базе золотого стандарта. Подчёркивая, что создание денег с абсолютно неизменной стоимостью невозможно потому, что "стоимость денег будет всегда подвергаться тем же изменениям, каким подвергается стоимость товара, принятого за денежный стандарт" <Давид Рикардо, Предложения в пользу экономного и устойчивого денежного обращения>, он одновременно считает необходимым стремиться к тому, чтобы деньги не испытывали никаких других колебаний, кроме тех, которым подвергается денежный стандарт. Рикардо высмеивает сторонников инфляции, по мнению которых законом о приостановке размена удалось мудро "разжаловать" золото как стандарт, как базу денежного обращения. Он справедливо утверждает, что стоимость денег, не основанная на золотом стандарте, подвержена величайшим колебаниям, на которые их "осудили бы невежество или интересы тех, кто их выпускает" <там же>. Если бы современные "корифеи" буржуазной политической экономии чаще заглядывали в памфлеты Рикардо, они могли бы убедиться, что их попытки снова "разжаловать" золото как стандарт денег отнюдь не оригинальны, что Рикардо не только знал о подобных попытках, но что он ясно представлял себе их неосновательность. Какой, например, огромный шаг назад по сравнению со взглядами Рикардо представляют собой следующие рассуждения известного шведского экономиста Густава Касселя по поводу краха золотого стандарта, наступившего в период кризиса 1929-1933 гг.: "Следует считать ошибочным самый способ выбора в качестве базы мировой денежной системы товара, стоимость которого подвержена крайним и не поддающимся учёту изменениям..." <Gustav Cassel, The Downfall of the gold Standard, 1936, p. 69>. Прежде всего смехотворным является рассуждение Касселя о "выборе золота" в качестве базы мировой денежной системы. Благородные металлы в качестве всеобщего эквивалента возникли стихийно. Их никто не выбирал, и от них нельзя отказаться, пока существует товарное производство. "По мере того, - говорит Маркс, - как обмен товаров разрывает свои узко-локальные границы... форма денег переходит к тем товарам, которые по самой своей природе особенно пригодны для выполнения общественной функции всеобщего эквивалента, а именно к благородным металлам" <К. Маркс, Капитал, т. I, 1952, стр. 96>. Недовольство Касселя золотой основой денежной системы является идеологическим оправданием политики инфляции, осуществляемой капиталистическими монополиями в период общего кризиса капитализма. Этим же стремлением оправдать инфляцию как постоянную меру уменьшения реальной заработной платы рабочих и служащих и доходов крестьян объясняются нападки на золотой стандарт со стороны Кейнса, Хансена и других современных буржуазных экономистов. Хорошо известно, что буржуазные экономисты издавна были склонны искать причину всех бедствий капитализма в сфере денежного обращения и кредита. Неудивительно, что Кассель ищет в золотом стандарте причину падения цен в периоды кризисов, а Кейнс объявляет этот же золотой стандарт виновником безработицы, на которую в капиталистических странах постоянно обречены десятки миллионов людей. По мнению Кейнса, недостаточное предложение золотых денег вызывает повышение нормы процента, задерживая тем самым капиталовложения и развитие промышленного производства. Он уверяет, что для решения проблемы безработицы нет "другого средства, как убедить публику в том, что зелёный сыр не хуже денег, и поставить фабрику зелёного сыра (т. е. центральный банк.- С. В.) под государственный контроль" <Дж. М. Кейнс, Общая теория занятости, процента и денег, Государственное издательство иностранной литературы, 1949, стр. 229>. Нетрудно убедиться не только в ошибочности, но и в предвзятости приведённого положения. Несмотря на то, что в 30-х годах ссудный процент находился на весьма низком уровне, обновление основного капитала шло довольно медленно. Кейнс своей апелляцией к низкому проценту ломится в открытую дверь. В период общего кризиса капитализма повышение нормы процента, как правило, значительно отстаёт от роста нормы прибыли. Всё дело в том, что, предлагая публике "зелёный сыр", т. е. зелёные постоянно обесценивающиеся бумажки, вместо устойчивых денег, Кейнс рассчитывает поднять "склонность" капиталистических монополий к инвестициям путём систематического снижения жизненного уровня трудящихся. В этом же направлении идут рассуждения американского оруженосца Кейнса - Альвина Хансена. Отдавая должное Кейнсу за то, что он развенчал "золотой стандарт", Хансен вместе с тем упрекает его в том, что он не уделил должного внимания обоснованию "существенной роли государственного долга в качестве средства, обеспечивающего растущую экономику достаточно ликвидными активами" <Alvin Hansen, A Guide to Keynes, New-York, 1953, p. 219>. Другими словами, Хансен хочет использовать для вооружения капиталистических монополий не только инфляцию, но и займы. Как далеко назад от Рикардо ушли современные "новейшие" буржуазные экономисты! За 133 года до появления "откровений" певца милитаризма Хансена Рикардо писал, что покрытие военных расходов следует осуществлять главным образом за счёт обложения имущих классов, а не путём инфляции и государственных долгов. Он при этом мотивировал своё предложение тем, что высокие налоги на капиталистов и землевладельцев уменьшат склонность "легкомысленно ввязываться в дорогостоящий конфликт..." <Давид Рикардо, Опыт о системе фундированных государственных займов>. Современные буржуазные экономисты в угоду капиталистическим монополиям пускают в ход всевозможные ухищрения, чтобы оправдать безудержную гонку вооружений за счёт инфляции, за счёт непомерного обложения широких слоев населения и громадного увеличения государственного долга. Атакуя золотой стандарт, они поднимают на щит "гибкую денежную политику", т. е., проще говоря, инфляцию как орудие обогащения капиталистических монополий. Было время, когда буржуазные экономисты фетишизировали золото, утверждая, что золото по своей природе является деньгами. Сейчас они отказываются признать, что "деньги по своей природе суть золото и серебро" и что никакой устойчивой валюты, кроме золотой, в условиях капитализма быть не может. Заслуга Рикардо состоит в том, что, живя почти полтора века назад, он имел об этих вещах совершенно ясное представление. Рикардо также отлично понимал полную зависимость бумажных денег от золота. Он рассматривал бумажные деньги как представителей золота и всячески отвергал идею, будто бумажные деньги могут базироваться непосредственно на "стоимостях массы товаров" и что, следовательно, количество бумажных денег может быть установлено без посредства золота как меры стоимости. Он справедливо писал: "Предположение, что рассматриваемый критерий (стоимости массы товаров.- С. В.) был бы полезен на практике, возникает в силу непонимания разницы между ценой и стоимостью. Цена товара - это его меновая стоимость, выраженная только в деньгах" <Давид Рикардо, Предложения в пользу экономного и устойчивого денежного обращения>. Глубокие мысли Рикардо оказались книгой за семью печатями как для буржуазных экономистов, так и для ревизионистов. Об этом свидетельствует следующее рассуждение Гильфердинга: "...Величина стоимости самого этого "мерила стоимости" определяется уже не стоимостью того товара, из которого оно образовано... Напротив, эта "стоимость"... определяется совокупной стоимостью товаров, находящихся в сфере обращения" <Гилъфердинг, Финансовый капитал, Соцэкгиз, 1931, стр. 29-30>. Рикардо, несмотря на все свои ошибки и уклонения от правильного пути, всё же твердо держался стоимости товара, принятого за денежный стандарт. Рикардо добивался не только устойчивого, но и экономного денежного обращения. Для буржуазии в период её прогрессивного развития характерна борьба со всяким расточительством, с непроизводительными издержками. Ещё итальянский деятель эпохи Возрождения Альберти указывал, что расточительство и лень - два смертельных врага человеческого рода. Рикардо знал, что без золотого стандарта нет устойчивой валюты. Но он также знал, что золотое обращение является слишком тяжёлым бременем для народного хозяйства. Устойчивой и экономной денежной системой явилась бы, по мнению Рикардо, такая система, при которой обращение состояло бы из бумажных денег, разменных не на золотые монеты, а на золотые слитки. Размен на золотые слитки обезопасил бы население от чрезмерной эмиссии бумажных денег. В то же время осуществление размена возможно при минимальных золотых запасах. Рикардо полагал, что "запас в 3 млн. является при хорошем ведении дел предостаточным, предполагая циркуляцию банкнот в 24 млн." <Lord Reports, 1819, стр. 187, см. Карл Диль, Золото и валюта во время и после войны, 1921, стр. 166>. Буржуазные экономисты поспешили объявить так называемую золотослитковую систему, к которой перешли Англия, Франция и ряд других стран после империалистической войны 1914-1918 гг., осуществлением великого замысла Рикардо. Это совершенно неверно. В основе плана Рикардо лежал принцип экономии, стремление избавить производство от непроизводительных издержек, освободить его от золотых оков. В основе же золотослитковой системы, осуществлённой после первой мировой войны, лежит стремление к максимальной концентрации золота. Следующая таблица показывает, каких огромных размеров достигла концентрация золота в США и Англии в период общего-кризиса капитализма.
* - на декабрь 1954 г. В Соединённых Штатах с 1933 г. приостановлен размен банкнот на золото. Золотые запасы продолжали тем не менее увеличиваться. За четыре десятилетия в этой стране индекс промышленного производства увеличился в 3 с лишним раза, а золотые запасы возросли почти в 10 раз. В Англии переход к золотослитковой системе был осуществлен в 1925 г. Несмотря на сокращение производства, золотые запасы к тому времени увеличились более чем в 4 раза. В 1931 г. в Англии был прекращён размен банкнот на золото, но золотые запасы продолжали расти. За последние 41 год золотые запасы увеличились почти в 10 раз при росте производства лишь на 70%. Во Франции переход к золотослитковой системе был осуществлён в 1928 г. К тому времени золотой запас её увеличился почти в 2 раза. К 1934 г. он увеличился почти в 5 раз по сравнению с 1913 г., несмотря на сокращение объёма производства. После 1934 г. во Франции произошло уменьшение золотого запаса. Однако оно отнюдь не было вызвано стремлением к экономии. Полагать, что прекращение золотого обращения в капиталистическом мире означает осуществление плана "устойчивого и экономного денежного обращения" Рикардо, значит ставить вещи на голову. Денежная система в капиталистических странах в период общего кризиса капитализма не отличалась и не отличается ни устойчивостью, ни экономностью! Это подтверждается следующими фактами. В США за период с 1939 по 1954 г. количество денег в обращении увеличилось более чем в 4 раза, а стоимость жизни увеличилась почти в 3 раза. Во Франции количество денег в обращении с 1938 по 1954 г. увеличилось в 22 раза, а цены на товары возросли в 32,5 раза. В Японии количество денег в обращении с 1937 по 1953 г. увеличилось в 304 раза, а оптовые пены на товары возросли в 352 раза по сравнению с 1934-1936 гг. Иначе говоря, во всех странах капиталистического мира в настоящее время свирепствует инфляция, растёт дороговизна, являющаяся орудием ограбления трудящихся и обогащения капиталистических монополий. В своих памфлетах Рикардо выступает страстным и принципиальным противником политики Английского банка. Он возмущён торгашеским духом и корыстью его директоров, тем, что деятельность банка скорее проникнута интересами личной наживы, чем стремлением форсировать рост производительных сил, увеличение национального богатства. Маркс в "Теориях прибавочной стоимости" писал: "Если понимание Рикардо в общем соответствует интересам промышленной буржуазии, то только потому, что ее интересы совпадают с интересами производства... и постольку, поскольку совпадают. Где интересы развития производительной силы труда вступают в противоречие с интересами буржуазии, Рикардо столь же прямолинейно выступает против буржуазии, как в других случаях против пролетариата и аристократии" <К. Маркс, Теории прибавочной стоимости, т. II, ч. I, 1936, стр. 206>. Рикардо, будучи сам акционером Английского банка, поднимает свой голос против огромных прибылей этого банка. "Следует, мне думается, признать, что война, которая так тяжело ложилась на плечи почти всех классов общества, сопровождалась для Английского банка невиданными барышами, причём доходы этой корпорации возрастали пропорционально росту тягот и трудностей всего общества" <Давид Рикардо, Предложения в пользу экономного и устойчивого денежного обращения>. Он предлагает лишить Английский банк права эмиссии банкнот, передать эмиссионное дело в руки комиссаров, назначенных парламентом и несменяемых. Он предлагает также правительству взять в свои руки управление государственными финансами, освободить Английский банк от обязанностей государственного казначея и прекратить хищническое распоряжение общественными ресурсами. Он разоблачает Торнтона, одного из директоров Английского банка, пытавшегося ввести общественное мнение в заблуждение, скрыть от него, что на одних только государственных вкладах Английский банк зарабатывает 382 тыс. ф. ст. в год. С чувством неподдельной горечи Рикардо замечает: "Не прискорбно ли видеть, что такая великая и богатая корпорация, как Английский банк, выказывает желание увеличить свои накопления при помощи незаконных барышей, вырванных из рук переобременённого народа?" <Давид Рикардо, Предложения в пользу экономного и устойчивого денежного обращения>. В своём плане учреждения Национального банка Рикардо выражал даже пожелание полной ликвидации Английского банка. Он предлагал правительству купить у Английского банка по справедливой оценке все его здания, если бы он согласился на это, и взять на службу всех его служащих. Эти пожелания были высказаны в 1824 г. Примерно через два десятилетия английская финансовая плутократия добилась проведения акта Роберта Пиля, преследующего цели, прямо противоположные тем, к которым стремился Рикардо. Рикардо требовал передачи государству эмиссионных функций Английского банка, дабы погасить государственный долг банку и избавить государство от уплаты процентов по этому долгу, лишить Английский банк источника лёгкой наживы, добиться более экономного денежного обращения. Согласно акту 1844 г. Английский банк был разделён на два независимых департамента - эмиссионный и банковый, что предполагало необходимость регулирования выпуска банкнот в соответствии с импортом и экспортом золота. В результате осуществления акта 1844 г. эмиссия банкнот осталась в руках Английского банка. Требование 100-процентного покрытия банкнот превратило банкноту в дубликат золота и никак не отвечало стремлению Рикардо сочетать устойчивость денежного обращения с его экономностью. Эта реформа позволила директорам Английского банка взвинчивать норму процента в годы кризисов и тем самым увеличила возможности Английского банка грабить не только государство, но и торговцев и промышленников и создавать огромные накопления при помощи незаконных барышей. Следовательно, банковский акт 1844 г. преследовал совершенно чуждые духу Рикардо цели. Тем не менее его творцы неизменно ссылались на принципы Рикардо. И в этом была доля истины. В основе банковского акта лежала ложная теория Рикардо, будто золото есть только монета и будто всё ввозимое золото увеличивает поэтому количество обращающихся денег и тем самым повышает цены, а всё вывозимое золото уменьшает количество монеты и тем самым понижает цены. В соответствии с этим ошибочным положением банковский акт предписывал выпускать в обращение столько банкнот, сколько в данный момент имеется в наличности золота. Свернув с прямой дороги своего исследования и став на путь количественной теории денег, Рикардо дал повод директорам Английского банка прикрыть банковский закон 1844 г. его именем. Возникает вопрос, случайно ли то обстоятельство, что планы Рикардо, несмотря на то, что они отнюдь не были утопичны и безусловно отвечали интересам капиталистического производства, не были всё же осуществлены? Мы полагаем, что это вполне закономерно. Банковский акт имел своей целью добиться повышения нормы процента, что отвечало интересам денежных тузов, влияние которых в Англии было очень велико. При таких условиях не приходится удивляться тому, что планы Рикардо, выдвинутые в 20-х годах, хотя и были прогрессивными, т. е. отвечали росту национального богатства и развитию производительных сил, повисли в воздухе, а реакционные планы Оверстона, тормозившие развитие производительных сил, всё же были осуществлены, поскольку они отвечали интересам финансовой плутократии. План экономного денежного обращения не удался, так как в капиталистическом обществе, где господствует частная собственность и происходит борьба частных интересов, экономия мыслима лишь в пределах отдельных предприятий или групп предприятий, но не в рамках всего капиталистического хозяйства. Не был также осуществлён в Англии и план учреждения Национального банка. Проведённая лейбористским правительством 1 марта 1946 г. национализация Английского банка не только не содержит в себе ничего социалистического, но, наоборот, полностью отвечает интересам финансового капитала. В результате этой пресловутой национализации был произведён обмен прежних акций банка на государственные облигации из расчёта четыре 3-процентные облигации на одну акцию Английского банка того же номинала. Государство взвалило на плечи налогоплательщиков новый долг в размере 58 млн. ф. ст., получив пакет акций стоимостью в 14,5 млн. ф. ст. Лейбористское правительство одним росчерком пера учетверило состояние господ акционеров этого банка, объявив это социалистическим мероприятием. Подобной национализацией лидеры правых социалистов пытаются маскировать свою преданность капиталистической частной собственности, всевластию капиталистических монополий. Как они далеко отошли от научного беспристрастия Рикардо! Это и понятно. В буржуазной политической экономии беспристрастные научные изыскания уже в 30-х годах XIX века стали заменяться услужливой апологетикой. Тем более было бы странно ждать научного беспристрастия от лидеров правых лейбористов. С. Выгодский Три письма о цене золота в редакцию "The Morning Chronicle" (Август-Ноябрь, 1809)I. 29 августа 1809 г. I. Существующая высокая рыночная цена золота - она выше его монетной цены, - повидимому, привлекла к себе усиленное внимание публики, но последняя всё же недостаточно сознаёт всю важность этого предмета, а также гибельные последствия, которые могут сопровождать дальнейшее обесценение бумажных денег. Я очень хотел бы, чтобы мы повернули назад, пока ещё есть время, и восстановили наше денежное обращение на той здоровой основе, которая так долго отличала нашу страну и отход от которой чреват настоящими бедствиями и будущим банкротством. Монетная цена золота составляет 3 ф. ст. 17 шилл. 10 1/2 пенс., а рыночная цена его постепенно возрастала и в течение последних двух-трёх недель повысилась до 4 ф. ст. 13 шилл. за унцию, обогнав его монетную цену почти на 20%. Достойно замечания, что между 1777 и 1797 гг. средняя цена золота была не выше чем 3 ф. ст. 17 шилл. 7 пенс. В течение этого периода наше денежное обращение считалось безупречным. Только начиная с 1797 г., когда Английский банк был освобождён от обязанности оплачивать свои банкноты звонкой монетой, золото повысилось в цене до 4 ф. ст., 4 ф. ст. 10 шилл. и в последнее время до 4 ф. ст. 13 шилл. за унцию. Пока Английский банк оплачивает свои банкноты звонкой монетой, не может быть большой разницы между монетной и рыночной ценой золота. Хорошо известно, что, несмотря на крайнюю строгость и, быть может, даже абсурдность законов, раскрыть нарушение их бывает очень трудно, и потому, когда благодаря высокой рыночной цене золота становится очень выгодным переплавить монету, её переплавляют и продают как слиток или вывозят соответственно целям лиц, занимающихся подобного рода операциями. Итак, если бы золото поднялось в цене до 4 ф. ст. или больше за унцию, в то время как Английский банк оплачивает свои банкноты звонкой монетой, эти дельцы обменивали бы свои банкноты в банке, получая унцию золота за каждые 3 ф. ст. 17 шилл. 10 1/2 пенс. в банкнотах. Это золото было бы переплавлено и продано или вывезено по 4 ф. ст. или больше в банкнотах за унцию, а так как эта операция может быть повторена ежедневно или даже ежечасно, то она будет продолжаться до тех пор, пока банк не извлечёт из обращения излишнее количество своих банкнот и не доведёт, таким образом, рыночную и монетную цену золота до одного уровня. В этом состоит единственный возможный способ приостановить излишний выпуск банкнот; способ этот был так хорошо известен, что Английский банк никогда не прибегал к нему безнаказанно. Никакие усилия Английского банка не могут удержать в обращении больше, чем определённое количество банкнот, и если это количество превзойдено, то его воздействие на цену золота всегда приводит излишнее количество банкнот в банк для обмена на звонкую монету. При таком регулировании обращения рыночная цена золота никогда не может подняться намного выше его монетной цены, ибо никто не даст 4 ф. ст. или больше в банкнотах за унцию золота, если он может получить её в банке за 3 ф. ст. 17 шилл. 10 1/2 пенс. Это было бы равносильно одновременному предложению унции золота и 2 шилл. 1 1/2 пенс. за унцию золота. Когда мы говорим о высокой цене золота, то решительно всё равно, измеряется ли она в золоте или в банкнотах, которые можно немедленно обменять на золото. Она может быть высока, будучи оценена в серебре или в товарах всякого рода; стремление ввозить золото зарождается только тогда, когда оно дорого в сравнении с товарами или, другими словами, когда товары дёшевы. Когда говорят, что можно получить 1 ф. ст. 5 шилл. за гинею <до 1816 г. 1 гинея = 21 шилл., тогда как 1 ф. ст. = 20 шилл. - Прим. ред.>, посылая её в Гамбург, то это означает, что можно получить за неё в Гамбурге вексель на Лондон в 1 ф. ст. 5 шилл. в банкнотах. Могло ли бы это иметь место, если бы банк платил звонкой монетой? Будет ли кто-нибудь настолько слеп к своей выгоде, что предложит мне гинею звонкой монетой и 4 шилл. за 1 гинею, когда он может обменять свою гинею в Гамбурге по паритету, уплатив только расходы за пересылку и т. д.? Только потому, что он не может получить в Английском банке гинеи за свои банкноты, он соглашается платить за них банкнотами по наиболее выгодной цене, какая только возможна, или, другими словами, он даёт 1 ф. ст. 5 шилл. в банкнотах за 1 гинею звонкой монетой. Когда был издан закон, запрещавший Английскому банку платить звонкой монетой, были устранены все препятствия на пути к излишнему выпуску банкнот, за исключением лишь того, которое банк добровольно ставил себе сам; он делал это, зная, что если он не будет руководствоваться умеренностью, то результаты, которые могли бы от этого воспоследовать, были бы столь определённо приписаны его монополии, что парламент вынужден был бы отменить закон о приостановке размена. Пока Английский банк готов ссужать деньги, всегда найдутся заёмщики, и нет, таким образом, никаких других пределов для излишних эмиссий, кроме того, который я только что упомянул; золото может подняться, таким образом; до 8 или 10 ф. ст. или любой суммы за унцию. То же воздействие оказала бы излишняя эмиссия и на цены продовольственных и всех других товаров, и единственным средством против обесценения бумажных денег явилось бы извлечение Английским банком из обращения всего излишнего количества банкнот; для этого банку нужно было бы настоять, чтобы купцы оплачивали свои векселя сейчас же после наступления срока, и отказываться возобновлять их обязательства до тех пор, пока ограниченность числа циркулирующих банкнот так подняла бы их стоимость, что они опять достигли бы паритета с золотом. Эта стоимость могла бы подняться лишь не намного выше этой цены, ибо немедленно начался бы ввоз золота; если бы Английский банк постепенно извлёк все свои банкноты из обращения, то их место было бы столь же постепенно занято ввозимым золотом, так как высокая цена последнего - я хочу сказать высокая цена в товарах - не преминула бы привлечь его в нашу страну. Если мой взгляд на этот предмет правилен, то мы можем точно установить размер обесценения, которому подвергались когда-либо банкноты; когда золото продавалось по 4 ф. ст. 13 шилл. за унцию, то банкноты, повидимому, подверглись огромному обесценению в 20%. Меня могут спросить: если банкноты подверглись такому большому обесценению, то почему ни один лавочник не продаст больше товаров за 20 гиней, чем за 21 ф. ст. в банкнотах? Я могу объяснить это только тем, что промысел скупки гиней с премией или, другими словами, продажи банкнот ниже их номинальной стоимости подвергает человека, который открыто занимается им, такому позору и подозрению, что, несмотря на прибыль, никто не осмеливается идти на такой риск, тем более что и закон против переплавки монеты или вывоза её очень суров. Но что такой промысел практикуется, не подлежит никакому сомнению, так как прибыль, доставляемая им, огромна, число же гиней в обращении, принимая во внимание, что в течение настоящего царствования их было отчеканено почти на 60 млн. ф. ст., уменьшилось до очень незначительной суммы. Для развития моей аргументации будет достаточно доказать, что такой промысел может практиковаться с выгодой, так как если лица, занимающиеся этим промыслом, могут открыто и охотно продавать гинеи по 23 шилл. или даже больше в банкнотах, то они могли бы продавать свои товары за золото дешевле, чем за банкноты. Достаточно очевидно, что покупка гиней за 23 шилл. даёт премию от 9 до 10%, а продажа золота за 4 ф. ст. 13 шилл., т. е. с премией почти в 20%, является промыслом более выгодным, чем многие другие в пределах лондонского Сити. Если бы нужны были ещё другие доказательства обесценения банкнот и зависимости этого обесценения от излишнего выпуска их, то мы нашли бы их в нынешних вексельных курсах с иностранными государствами. Чтобы это стало ясным, требуется рассмотреть, что такое вексельный курс, а также правила и пределы, которыми он регулируется. Если я покупаю у купца, живущего в Голландии, товары этой страны, то сделка заключается в деньгах, обращающихся там. Я обязался в результате этой сделки уплатить купцу определённое количество унций серебра данной пробы. Так как сравнительная стоимость серебра и золота почти одинакова во всём мире, то мой долг может быть оценён в серебре или числе унций золота, на которое он обменивается. Если же голландский купец купил у жителя Лондона товары, которые оценены в английских деньгах, то он обязался уплатить определённое число унций золота известной пробы. Чтобы сберечь расходы на пересылку и страхование, с которыми связаны вывоз и ввоз известного количества золота, нужного для ликвидации этих долгов, обе стороны находят для себя удобным производить платёж при помощи векселя, после того как они пришли к соглашению о том, сколько денег одной страны эквивалентно деньгам другой, принимая во внимание их вес, пробу и т. д., и установили, таким образом, так называемый вексельный паритет. Это делается так: я плачу английскому купцу сумму, которую я должен моему корреспонденту в Голландии, а английский купец даёт приказ своему корреспонденту в Голландии уплатить моему ту же самую сумму, оценённую по согласованному вексельному курсу в голландских деньгах. Выгода для обеих сторон заключается в сбережении расходов на пересылку и страхование. Так вот, если двое или больше торговцев задолжали этим путём купцам в Голландии, между ними возникло бы соревнование с целью купить этот вексель, и продавец его не удовлетворился бы уже более том, что он сберёг расходы на пересылку и страхование, связанные с ввозом его золота, но вывез бы свой вексель и получил бы за него премию; обеим заинтересованным сторонам было бы выгодно уплатить ему эту премию, если только она не превосходит расходов по перевозке металла. Премия по необходимости держится в таких пределах, ибо в противном случае оба купца сказали бы: "Количество унций золота, которое я должен в Голландии, имеется налицо для уплаты моего долга. Я готов дать его вам, чтобы вы уплатили его вместо меня, и прибавить к нему расходы, которые будут сопряжены с отсылкой, но ничто не может побудить меня дать больше, и, если вы не принимаете моего предложения, я не буду испытывать большей невыгоды, посылая золото!" Таков, следовательно, естественный предел падения вексельного курса: он не может упасть ниже паритета больше, чем на сумму этих расходов, и не может подняться выше его больше, чем на эту сумму. Но с тех пор, как Английский банк приостановил платежи звонкой монетой, падение вексельных курсов совершалось параллельно повышению цены золота, и в настоящее время оно значительно ниже, чем указанные мною пределы. Объяснить это можно следующим образом. Купец не может больше сказать, что он имеет достаточное число унций золота, чтобы послать за границу для уплаты своего долга; он, правда, может сказать, что имеет достаточное число банкнот и что если бы он мог продать их по паритету или обменять в Английском банке соответственно их номинальной стоимости, т. е. получить по унции золота за каждые 3 ф. ст. 17 шилл. 10 1/2 пенс., то он имел бы достаточно золота, чтобы уплатить свой долг. Однако при существующем положении вещей он может или продать свои банкноты и быть довольным, если ему удастся получить унцию золота, или З ф. ст. 17 шилл. 10 1/2 пенс. за каждые 4 ф. ст. 13 шилл. в банкнотах, или согласиться сделать скидку в этом размере лицу, которому он хочет сбыть свой вексель. Оказывается, таким образом, что вексельный курс может не только упасть до пределов, о которых я прежде упоминал, но и в обратном отношении к росту цены золота или, верное, к обесценению банкнот. Но таковы пределы, внутри которых он устанавливается даже и теперь. Он не может, с одной стороны, подняться выше паритета больше, чем на сумму расходов по перевозке и т. д., связанную с ввозом золота, ни, с другой стороны, упасть больше, чем на сумму расходов по перевозке и т. д., связанную с вывозом золота и прибавленную к сумме, на которую обесценились банкноты. Если бы векселя оплачивались золотом, а не банкнотами, то приостановка банком платежей звонкой монетой никоим образом не могла бы подействовать на вексельный курс свыше тех специфических пределов, которые я уже указал. Что остаётся тогда от аргумента, который так часто употреблялся в парламенте и согласно которому для Английского банка было бы небезопасно платить звонкой монетой до тех пор, пока уровень вексельного курса продолжает быть против нас? Ясно ведь, что прекращение платежей звонкой монетой и является причиной существующего низкого вексельного курса. Пусть по предложению парламента Английский банк будет извлекать постепенно из обращения сумму в 2 или 3 млн. ф. ст. банкнотами, не обязуясь платить с самого начала звонкой монетой, и мы очень скоро увидим, что рыночная цена золота понизится до своей монетной цены в 3 ф. ст. 17 шилл. 10 1/2 пенс., что цена каждого товара испытает подобное же уменьшение и что вексельный курс с иностранными государствами будет ограничен вышеупомянутыми пределами. Тогда стало бы очевидно, что все недостатки нашего денежного обращения вызываются чрезмерными выпусками Английского банка - той опасной властью, которою он облечён, уменьшать по своему произволу стоимость собственности каждого владельца денег и вызывать повышение цен продовольствия и всех предметов жизненной необходимости, нанося тем самым убыток владельцам государственных аннуитетов и всем лицам, доходы которых представляют постоянную величину и которые не могут поэтому свалить со своих плеч ни одной части этого бремени. II. Редактору "Morning Chronicle" Сэр! В соображениях по поводу высокой цены золота, которые я высказал в "Morning Chronicle" от 29 августа, я выразил свои опасения по поводу серьёзных последствий, которые могут быть вызваны возрастающим обесценением бумажных денег. Мне казалось, что Английский банк, уменьшая стоимость собственности столь многих лиц, и притом в таком размере, в каком это ему угодно, может вызвать разорение многих тысяч людей. Я желал поэтому обратить внимание публики на те очень опасные полномочия, которыми облечено это учреждение; но я не высказывал опасения - не больше, чем ваш корреспондент за подписью "Друг банкнот", - что эмиссии Английского банка могут навлечь на нас опасность национального банкротства. Допуская вместе с этим писателем, что спрос на золото возрос, в то время как обычные поставки его были задержаны, я не убеждён выдвинутыми им аргументами в том, что это могло бы оказать воздействие на рыночную цену золота при условии, конечно, что не обесценен тот эталон, которым измеряется цена. Нельзя сомневаться в том, что недостаток золота должен был увеличить его стоимость; несомненно также, что вследствие этого на золото при обмене его на другие товары можно будет получить увеличенное их количество; но никакой недостаток, как бы он ни был велик, не может поднять рыночную цену золота намного выше его монетной цены, если только золото не измеряется обесцененным средством обращения. Из фунта золота чеканятся 44 1/2 гинеи, или 46 ф. ст. 14 шилл. 6 пенс. Это есть, следовательно, монетная цена, которая не может быть названа, как это делает ваш корреспондент, произвольной стоимостью. Это - простое констатирование факта, что 44 1/2 гинеи имеют тот же самый вес, что и фунт золота, a 1/12 часть этого количества, или 3 ф. ст. 17 шилл. 10 1/2 пенс., - такой же вес, как 1 унция. Опыт показал нам - и в особенности опыт 20 лет, предшествовавших 1797 г., с их сменой войны и мира, благоприятного и неблагоприятного положения торговли, - что 46 ф. ст. 14 шилл. 6 пенс., или монетный фунт, могут купить иногда немного больше, а иногда немного меньше, чем фунт нечеканного золота, и, пока на такое же количество банкнот можно купить столько же золота, о них нельзя сказать, что они обесценены. В таком положении банкноты находились всегда до приостановки платежей Английским банком и ещё некоторое время спустя после этого. Может ли автор объяснить нам, каким образом спрос, как бы ни был он велик, может побудить кого-либо дать, как это делалось в последнее время, 55 ф. ст. 16 шилл. в банкнотах за фунт золота, если последние имеют такую же стоимость, как 55 ф. ст. 16 шилл. в монете? Думает ли он, что золото, действительно содержащееся в 55 ф. ст. 16 шилл., весит l 1/5 фунта? Думает ли он всерьёз, что он отдал бы их за 1 фунт? Если мы согласимся, что он этого не сделает, то факт обесценения банкнот вполне установлен. Если бы для покупки золота было дано большее, чем обычно, количество хлеба, металлических изделий или другого какого-либо товара, то можно было бы с полным основанием сказать, что редкость золота повысила его стоимость. Но каковы факты? Если я иду на рынок с хлебом или металлическими изделиями, я могу купить 55 ф. ст. 16 шилл. в банкнотах за такое же точно количество этих товаров, какое я должен отдать, чтобы получить фунт золота, или 46 ф. ст. 14 шилл. 6 пенс. Я не оспариваю мнения автора, что для иностранца может быть выгодно посылать свои товары в Лондон и, продав их здесь за 25 шилл., отдать эту сумму для покупки 1 гинеи. Он может сделать это с прибылью для себя. Но он не дал бы 25 шилл. за гинею, если бы он не платил за неё обесцененными деньгами. И опять-таки я спрашиваю, считает ли автор возможным, чтобы гинея и 4 шилл. отдавались за гинею или за соответствующее количество банкнот, если они обмениваются на эту сумму? Замечания нашего автора ведут к предположению, что так как золото продаётся на континенте по более высокой цене, чем у нас, то мы могли бы получить там за него 4 ф. ст. 15 шилл. или больше за унцию; но мы ошиблись бы, сделав такой вывод. Золото оплачивается там в необесцененных деньгах и стоит, вероятно, несколько выше 4 ф. ст. за унцию. Но тот, кто покупает его здесь за 4 ф. ст. 10 шилл., может, однако, продать его за границей по цене, стоящей там, или благодаря низкому вексельному курсу (вызванному обесценением) он может вознаградить себя за обесценение в 15 или 20%, которому подверглись наши средства обращения. Наш автор утверждает также, что все влияния на вексельный курс, "которые я приписываю выпуску банкнот, имелись бы налицо, если бы в обращении не было ни одной банкноты". Если бы наше обращение велось целиком при помощи звонкой монеты, нашему автору было бы, я думаю, трудно убедить нас, что вексельный курс может быть на 20% против нас. Что могло бы побудить кого-нибудь, кто должен 100 ф. ст. в Гамбурге, покупать здесь вексель на эту сумму, давая за него 120 ф. ст., если расходы, связанные с вывозом 100 ф. ст. для оплаты его долга, не превышают 4 или 5 ф. ст.? Строгость закона против вывоза золотой монеты не позволяет никому открыто продавать банкноты ниже номинальной цены, но не из чувства совестливости, мешающего совершить безнравственный или незаконный акт (каковое мнение приписывает мне автор), а из опасения стать предметом подозрения, раз известно, что гинеи покупаются только для вывоза. При таких условиях за скупщиком гиней будут следить, и он не в состоянии будет выполнить своё намерение. Отмените закон, и что может помешать продаже унции стандартного золота в гинеях за такую же высокую цену, как унции португальской монеты, если известно, что гинея скорее превосходит её по своей пробе? И если унция стандартного золота в гинеях продавалась бы на рынке (как это было в последнее время с португальской монетой) по 4 ф. ст. 13 шилл., то как долго продавал бы лавочник свои товары по одной и той же цене, безразлично, за золото или банкноты? Кары закона снизили, следовательно, стоимость немногих гиней, оставшихся в обращении, до уровня стоимости банкнот, но пошлите их за границу, и они там купят ровно столько же, сколько купит одинаковое количество португальской монеты. Отсюда искушение вывозить их, которое действует так же, как спрос из-за границы. Каналы нашего денежного обращения уже переполнены, и было бы более чем бесполезно удерживать здесь гинеи. Уменьшите, наоборот, количество обращающихся денег, извлекая излишнее количество банкнот. Сбросьте со счетов часть их, как по справедливому замечанию вашего корреспондента это было сделано во Франции и других странах путём аннулирования их бумажно-кредитного обращения. Что сможет тогда воспрепятствовать платёжеспособному спросу, который будет, таким образом, немедленно создан, вызвать ввоз золота и как его следствие - благоприятный вексельный курс? Если бы количество обращающихся у нас денег было увеличено на 1/5, то до тех пор, пока эта 1/5 не была бы извлечена, цены золота и товаров остались бы без изменения. Увеличьте количество банкнот, и цепы возрастут ещё больше; но извлеките эту 1/5, как я настоятельно рекомендую, и тогда золото и всякий другой товар найдут свой надлежащий уровень, и, пока банк продолжает пользоваться доверием публики, те, кто владеет унцией золота в форме 3 ф. ст. 17 шилл. 10 1/2 пенс. в банкнотах, всегда могут купить эту унцию золота в натуре. Предложение изменить монетную цену и приравнять её к рыночной цене золота, или, другими словами, объявить, что 3 ф. ст. 17 шилл. 10 1/2 пенс. в монете приравниваются 4 ф. ст. 13 шилл., только обострило бы зло, на которое я жалуюсь, не говоря уже о его кричащей несправедливости. Такое насильственное мероприятие подняло бы рыночную цену золота на 20% выше его новой монетной цены и ещё больше понизило бы стоимость банкнот в той же самой пропорции. Таким талантливым экономистом, как д-р Адам Смит, было неопровержимо доказано, что норма процента по ссудам регулируется нормой прибыли только на ту часть капитала, которая состоит не из денег, а также, что эта прибыль не регулируется ничем, будучи вполне независимой от большего или меньшего количества денег, выпускаемых для целей обращения; увеличение средств обращения увеличит цены всех товаров, но не понизит норму процента. Мы не должны поэтому руководствоваться в наших суждениях об эмиссиях Английского банка критерием нормы процента, так настоятельно рекомендуемым вашим корреспондентом, ибо раз аргументация д-ра Смита правильна, то, будь количество наших средств обращения в 10 раз больше, чем оно есть, норма процента не была бы затронута этим надолго. Я думаю, сэр, что мне удалось доказать, что мои опасения не совсем неосновательны и что налицо имеется большое обесценение нашей денежной массы, затрагивающее интересы владетелей государственных аннуитетов, так же как и тех, чья собственность состоит из денег, без всякой соответствующей выгоды. Зло, связанное с изменчивым эталоном стоимости, поскольку оно затрагивает все сделки, слишком очевидно, чтобы на него ещё нужно было указывать. Постоянство стоимости драгоценных металлов в первую очередь рекомендовало их в качестве всеобщего средства обмена. Это преимущество теперь потеряно для нас, и мы не можем считать, что наше денежное обращение покоится на солидном основании, пока оно не будет восстановлено до уровня стоимости остальных стран. Г-н Коббетт полагает, что после извлечения определённого количества банкнот Английского банка из обращения место их было бы немедленно занято провинциальными банкнотами. По моему мнению, ничего подобного не произойдёт, напротив, я думаю, что такая мера вынудила бы провинциальные банки извлечь из обращения столько же, если не значительно больше, их банкнот. Банкноты Английского банка и банкноты провинциального банка представляют теперь одинаковую стоимость, и количества их находятся в соответствии с теми функциями, которые они должны выполнять. Извлекая банкноты Английского банка из обращения, вы увеличиваете их стоимость и понижаете цены товаров в тех местах, где они имеют обращение. Банкнота Английского банка будет при этих условиях иметь большую стоимость, чем провинциальная банкнота, потому что она будет нужна для покупки на более дешёвом рынке; а так как провинциальный банк обязан давать банкноты Английского банка в обмен на свои собственные, то на них будет предъявляться спрос до тех пор, пока количество провинциальных банкнот не будет находиться в том же самом отношении к количеству лондонских банкнот, в каком оно было прежде. Это вызовет соответствующее падение цен всех товаров, на которые обмениваются провинциальные банкноты. Лицу, писавшему в газете "Pilot", угодно было сделать предположение, что джентльмен, выступавший в вашей газете под именем "Меркатора", писал "в помощь или подражание мне или в союзе и заговоре со мной". Этот факт имеет сам по себе весьма малое значение. Если его аргументы или мои слабы, покажите это, но "Не-делец" ошибается: мне, так же как и ему, взгляды "Меркатора" стали известны только через посредство "Morning Chronicle". Остаюсь, сэр, и т. д. III. Редактору "Morning Chronicle" Сэр! Если бы ваш корреспондент "Друг банкнот" доказывал ещё в то время, когда он в первый раз сделал мне честь отметить мои замечания о высокой цене золота, как он это делает теперь, что банкноты были представителями серебряных, а не золотых монет, то мы скорее открыли бы источники наших разногласий о предмете нашего спора. Я избавил бы его тогда, сэр, от труда дать столько доказательств следующему бесспорному положению: если бы серебро было единственной мерой стоимости, то тот факт, что золото стоит 4 ф. ст. 13 шилл. за унцию, не является сам по себе доказательством обесценения банкнот. Я, право же, думал, что доказал это положение в следующих замечаниях: "Когда мы говорим о высокой цене золота, то решительно всё равно, измеряется ли она в золоте или банкнотах, которые можно немедленно обменять на золото. Она может быть высока, будучи оценена в серебре или в товарах всякого рода". Из содержания первого и следующего писем явствовало, что я рассматривал золотую монету как эталон обмена и измерял им обесценение банкнот. Я не имел основания предполагать, что ваш корреспондент смотрел иначе на этот вопрос. В одном месте он называет банкноты "заместителями золота", в другом он замечает, что "если бы банк не был связан запрещением платить звонкой монетой, то большой и растущий спрос на золото на континенте извлёк бы из нашей страны каждую гинею и оставил бы нас без всяких ресурсов на крайний случай, когда кредит мог бы пошатнуться". Запрещение размена могло только дать возможность директорам Английского банка, если они были расположены к этому, противодействовать вывозу за границу накопленных в банке гиней. Гинеи, находившиеся в обращении, могли быть вывезены из страны как до, так и после этой меры. Но если бы одно только серебро было эталоном денежного обращения, как это в настоящее время утверждают, то банк мог бы платить по своим банкнотам теперешней неполновесной серебряной монетой, например в шиллингах, потерявших 24% своего стандартного веса и стоимости. Гинея, следовательно, не нуждалась бы в этой защите. На серебро не проявлялся бы спрос потому, что оно могло бы быть расплавлено или вывезено только с потерей в 24%. Если бы серебро было эталоном денежного обращения, то банкноты обращались бы в 1797 г. с премией в 24%, а в настоящее время - с премией в 14%. Но если, как я попытаюсь доказать, мерой стоимости является золото и банкноты являются, следовательно, представителями золотой монеты, то я вправе ожидать, что автор согласится со мной относительно обесценения банкнот, а также и с тем, что превышение монетной цены золота его рыночной ценой является мерой его обесценения. Цена стандартного серебряного слитка составляла в последний вторник 5 шилл. 9 1/2 пенс. за унцию. В тот же день цена стандартного золотого слитка равнялась 4 ф. ст. 10 шилл. за унцию, следовательно, унция золота равнялась приблизительно 15 1/2, а не 18 унциям серебра. Итак, если мы будем оценивать стоимость банкнот ценою золотых слитков, то банкноты окажутся обесцененными на 15 1/2%, если ценою серебряных слитков, - то на 12%. Но ваш корреспондент, несомненно, заметил бы, что это заключение, сделанное на основании цены серебра, было бы правильно лишь при условии, что наши серебряные деньги не были попорчены обрезыванием и соскабливанием; поскольку же мы знаем, что они обесценены в силу своей неполновесности, то ясно, что высокая цена золотых слитков была вызвана в значительной степени, а серебряных слитков целиком этим дефектом. Согласно этой аргументации банкноты являются представителями не наших стандартных серебряных денег, а нашей неполновесной серебряной монеты. Лорд Ливерпуль в письме к королю о состоянии денежного обращения заметил, что действующий теперь закон, находящийся в силе с 1774 г., гласит: "Никакая уплата, произведённая когда-либо серебряной монетой королевства на сумму, превосходящую 25 ф. ст., не может почитаться в пределах Великобритании или Ирландии законной или произведённою законным платёжным средством для большей стоимости, чем та, которая соответствует ей по весу, т. е. 5 шилл. 2 пенса за каждую унцию серебра". Банкноты не являются поэтому представителями неполновесных серебряных денег. Держатель банкноты в 1 тыс. ф. ст. может отказаться принять в уплату больше чем 25 ф. ст. в нынешней неполновесной серебряной монете. Если бы остаток в 975 ф. ст. был уплачен ему в шиллингах, он получил бы их по весу по их монетной цене в 5 шилл. 2 пенса за унцию, что вместе с 25 ф. ст. неполновесного серебра при продаже по теперешней цене в 5 шилл. 9 1/2 пенс. за унцию дало бы 1 110 ф.ст. в банкнотах, а это доказывает, что на основании принципов, установленных нашим же автором, банкноты были бы обесценены на 11% , если бы серебро сделалось эталоном денежного обращения. В силу оснований, приводимых лордом Ливерпулем в его вышеупомянутом труде, я считаю золото стандартной мерой стоимости. Он замечает, что "серебряные монеты не являются уже больше главной мерой стоимости: все товары получают теперь свою цену или стоимость по отношению к золотой монете точно так же, как и раньше они получали стоимость по отношению к серебряной монете. Существующие недостатки серебряной монеты, как они ни велики, не принимаются благодаря этому во внимание при уплате цены какого-нибудь товара в размерах суммы, для которой серебро является законным платёжным средством. Ясно поэтому, что золотая монета стала теперь и на практике и в общественном мнении главной мерой собственности". Он констатирует затем, что в царствование Вильяма III стоимость находившейся в обращении гинеи доходила до 30 шилл. и что стоимость золотой монеты повышалась или падала пропорционально тому, была ли серебряная монета более или менее совершенна. "Такое увеличение или изменение в стоимости золотой монеты не имело места с 1717 г., когда цена или стоимость гинеи была определена особым постановлением и удостоверением Монетного двора в 21 шилл., а стоимость других золотых монет определялась соответственно стоимости гинеи; серебряные же монеты, обращающиеся теперь, давно были и всё ещё являются по крайней мере такими же неполновесными, какими они были в начале царствования короля Вильяма. Несмотря на это, гинея и другие золотые монеты постоянно обращались с 1717 г. по норме или стоимости, данной им удостоверением Монетного двора". "Оба изложенные соображения ясно доказывают мнение народа Великобритании как по вопросу о внутренней торговле, так и по отношению к внутренним делам. Теперь я хочу показать, каково было мнение на этот счёт иноземных народов". В царствование короля Вильяма вексельные курсы повышались или падали в соответствии с совершенством или недостатками нашей серебряной монеты. До перечеканки в 1695 г. вексельные курсы со всеми чужими странами были против Англии на 4 шилл. на фунт, а с некоторыми ещё гораздо больше. "Однако это зло больше не существовало с 1717 г., хотя наша серебряная монета в течение всего этого периода была очень испорчена. Но, с другой стороны, наши вексельные курсы с чужими странами в очень большой степени склонялись против нас, когда наша золотая монета была неполновесна, т. е. до реформы нашего золотого денежного обращения в 1774 г." Лорд Ливерпуль считает это доказательством того, что иностранцы рассматривали нашу золотую монету как главную меру собственности. Другой аргумент почерпнут из цен золотых и серебряных слитков. Когда наша золотая монета была до перечеканки в 1774 г. неполновесна, цена золотых слитков поднялась значительно выше их монетной стоимости, но сейчас же после того, как золотая монета доведена была до её настоящего состояния совершенства, цена золотых слитков упала несколько даже ниже монетной цены и продолжала держаться на этом уровне в течение 23 лет - до 1797 г. "Таким образом, из этих фактов явствует, что цена золотых слитков испытала на себе влияние состояния нашей золотой монеты, хотя начиная с 1717 г. влияние плохого состояния или положения нашей серебряной монеты не отражалось на их цене". Цена серебряных слитков испытывала на себе с 1717 г. влияние совершенства или недостатков нашей золотой монеты, но не была в такой степени затронута плохим состоянием нашей серебряной монеты. "Из всего этого явствует, что стоимость золотых или серебряных слитков оценивалась по крайней мере в течение 40 лет соответственно состоянию исключительно нашей золотой монеты, а не серебряной. Цена обоих этих металлов повышалась, когда наша золотая монета ухудшалась, она упала, когда наша золотая монета была доведена до настоящего совершенства, и можно поэтому с полным основанием сделать вывод, что в мнении торговцев драгоценными металлами (которые могут считаться лучшими судьями в этом деле) золотая монета сделалась главной мерой собственности, а потому и орудием торговли". В другом месте лорд Ливерпуль высказывает мнение, что фунт стерлингов составляет 20/21 гинеи. То же самое мнение высказывается сэром Джемсом Стюартом. "В настоящее время, - говорит он, - нет фунтов стерлингов в серебряной монете; количество серебра в Англии отнюдь не пропорционально размерам торгового обращения, и поэтому единственными деньгами, в которых может быть измерена стоимость фунта стерлингов, являются гинеи". Директора Английского банка должны были быть того же мнения, констатируя в своих показаниях парламенту, что они обычно ограничивали количество своих банкнот, когда рыночная цена золота превосходила его монетную цену. В докладе Комитета палаты лордов в 1797 г. сказано, что "золото есть торговая монета Великобритании, а серебро в течение уже многих лет было только товаром, который не имел никакой твёрдой цены и очень редко посылается на Монетный двор для чеканки, но изменяется (в цене) согласно спросу на него на рынке". Остаюсь, сэр, вашим покорным слугой 4 ноября. 1) Ответ г-ну Троуэру "Фактически, - говорит г-н Троуэр, - банкноты в настоящее время не представляют ни золота, ни серебра, так как банк не имеет права платить по своим банкнотам ни золотом, ни серебром". Спор между г-ном Троуэром и мною, как я его понял, идёт о том, является ли банкнота обязательством платить золотом или серебром. Верно, что Английский банк законом освобождён от выполнения своих обязательств, но этот факт не должен мешать нам установить, в чём состоит его обязательство и каким образом он будет вынужден выполнять его, если закон будет отменён. Именно в этом пункте различаются наши взгляды на предмет. Г-н Троуэр утверждает, что если бы Английский банк был внезапно вынужден выполнить свои обязательства, он мог бы платить и платил бы серебряной монетой, так как для него это выгодно; я, напротив, доказываю, что, призванный сделать это, он был бы вынужден платить золотой монетой, что серебряная монета недостаточна для этой цели и что имеется такой закон, в силу которого нельзя чеканить серебряную монету. Я допускаю, что при возможности перечеканить серебро в монету этому металлу отдали бы предпочтение, потому что его можно получить дешевле, но, пока существует закон против чеканки серебра, мы вынуждены пользоваться только золотом. Г-н Троуэр сам признаёт полностью моё утверждение, когда говорит: "Если в это время (когда закон, запрещающий размен, будет отменён) закон, запрещающий чеканку серебряной монеты, будет сохранять свою силу, то в этом случае золото, несомненно, должно быть рассматриваемо как мера стоимости в этой стране". Имеет ли г-н Троуэр право говорить о вещах не как они действительно существуют, а как они будут существовать по его предположению когда-нибудь в будущем? Конечно, закон, запрещающий чеканку серебра, может быть отменён, и, когда это случится, г-н Троуэр будет, может быть, прав: серебро может тогда стать стандартной мерой стоимости, но, пока закон остаётся в силе, золото должно быть по необходимости такой мерой, и, следовательно, стоимость банкнот может быть измерена их сравнительной стоимостью по отношению к золотой монете или слиткам. Тот факт, что в обращении находится больше серебра, чем золота, легко может быть объяснён в первую очередь тем, что банкнот меньшего достоинства, чем в 1 ф. ст., не существует, и приходится, следовательно, употреблять серебро при мелких платежах. Во-вторых, поскольку банкноты являются заместителями золотой монеты, в гинеях абсолютно нет нужды. А это в соединении с их высокой стоимостью сравнительно с их заместителями достаточно объясняет их исчезновение из обращения. В-третьих, так как золотая монета удержала свой стандартный вес, а серебряная потеряла 40% своего веса, выгодно переплавлять гинеи и удерживать серебро в обращении. Перейдём теперь ко второму предмету спора - тому действию на цены товаров, а также золотых и серебряных слитков, которое г-н Троуэр приписывает неполновесности серебряной монеты. Почему же, спрошу я, если это действительно так, то же самое действие не сказывалось на рыночных ценах этих металлов до приостановки размена банкнот Английским банком в 1797 г.? Сказать, что золотая монета была тогда стандартной мерой и что эта монета не была испорчена, а потому такого действия не воспоследовало, не значит дать удовлетворительный ответ. Я считаю этот ответ неудовлетворительным, так как золото было ведь мерой стоимости по той причине, что им было выгоднее платить долг, чем стандартной серебряной монетой, но мы теперь говорим не о стандартной серебряной монете, а о неполновесной. Последняя была тогда, так же как и теперь, сравнительно дешевле, чем золотая монета, и если она может быть использована с большей выгодой для уплаты долга теперь, то это могло иметь место и тогда. Однако тогда это не приводило к тем же результатам; золотые слитки стоили всё время ниже их монетной цены, а серебряные - выше таковой только потому, что монетные соотношения были неточно определены. Быть может, несколько дальнейших разъяснений сделают этот вопрос более ясным. В 1797 г. серебряная монета была обесценена на 24%, в то же самое время отношение стоимостей золота и серебра на рынке составляло 14 3/4 : 1, тогда как в монете они оценивались как 15 : 1, поэтому при сравнении стандартных металлов за меру стоимости принималось золото. Но отношение стоимости золота к стоимости неполновесной монеты равнялось 19 : 1. Значит, тогда, как и теперь, существовали одинаковые основания к тому, чтобы цена золотых слитков была выше их монетной цены, ибо в обоих случаях это было связано с ухудшением серебряной монеты. Я поэтому утверждаю, что если, как это предполагает г-н Троуэр, цена товаров подверглась изменению вследствие ухудшенного состояния серебряной монеты, то это явление имело место в силу тех же оснований и в той же мере в 1797 г., как и много лет назад. Может ли г-н Троуэр объяснить, почему этого не было в течение 23 лет до 1797 г., когда золото стоило ниже своей монетной цены? Я сказал: "Сравните неполновесную серебряную монету с золотой монетой стандартного качества - разве она не имеет одинаковой стоимости с ней?". Г-н Троуэр отвечает: "Вы говорите, что банкноты подверглись обесценению на 20%, сравните их с полновесной золотой монетой, - разве они не имеют одинаковой стоимости с ней?". В другом месте г-н Троуэр замечает, что если верно, как я утверждаю, что 1 тыс. ф. ст. в неполновесной серебряной монете купят ровно столько же золотых или серебряных слитков, как 1 тыс. ф. ст. в золотой монете, то так же верно, что 1 тыс. ф. ст. в банкнотах купят столько же. Если, таким образом, допустить, что в настоящее время 1 тыс. ф. ст. в золотой монете, в неполновесной серебряной монете или в банкнотах имеют совершенно одинаковую стоимость, когда на них покупаются товары, то где же причина, что ни за одну из них нельзя купить столько золотых или серебряных слитков, сколько в 1797 г., т. е. до издания закона о запрещении размена банкнот? И, хотя во внутреннем обращении они могут иметь одинаковую стоимость, является ли это совпадение в их стоимости естественным или принудительным? Не подлежит никакому сомнению, что стоимость банкнот и неполновесной серебряной монеты регулируется в настоящее время не стоимостью полновесной золотой монеты. Если бы это было так, цена золота не была бы выше его монетной цены. Ведь г-н Троуэр всегда соглашался, что никто не дал бы больше одной унции золота за унцию золота; поэтому золото не могло бы стоить 4 ф. ст. 10 шилл. или 4 ф. ст. 13 шилл. за унцию, если бы стоимость всех обращающихся денег равнялась стоимости золотой монеты. Отсюда неизбежно вытекает, что стоимость золотой монеты доведена до уровня неполноценной серебряной монеты или банкнот. Но я уже заметил, что до 1797 г. стоимость неполноценной серебряной монеты всегда поднималась до стоимости золотой монеты (потому что количество её было всегда умеренным) и что, хотя для определённой суммы она была законным платёжным средством, она не была ни достаточно изобильна, ни достаточно ходка, чтобы поднять цену золотых слитков выше их монетной цены. Ни разу не случилось, чтобы кто-нибудь купил золотой слиток хотя бы на один пенс дороже за унцию только потому, что он желал... платить неполновесной серебряной монетой. Если, таким образом, золотая и серебряная монеты имели одинаковую стоимость и были одновременно обесценены в своей меновой стоимости до 4/5 их действительной стоимости, короче говоря, до стоимости банкнот, находившихся в обращении одновременно с ними, то чему он может приписать это явление, если не обесценению банкнот? Предположим, что закон против вывоза гиней отменён. Г-н Троуэр не будет тогда утверждать, что золотая монета, серебряная монета и банкноты имеют одинаковую стоимость, потому что он уже допустил, что никто не даст больше 1 унции золота за унцию золота; однако при этих обстоятельствах золото будет продаваться за 4 ф. ст. 10 шилл. или 4 ф. ст. 13 шилл. в банкнотах или неполновесных шиллингах, но в золотой монете оно будет стоить не выше 3 ф. ст. 17 шилл. 10 1/2 пенс. за унцию. Стоимость, по которой обращается в настоящее время золотая монета, есть принудительная стоимость; её естественная стоимость на 15% выше её принудительной стоимости, но отмените закон, удалите силу, которая заставляет снижаться её стоимость, и она немедленно приобретёт вновь свою естественную стоимость. Допустим, что я, таким образом, уступил в первом спорном пункте и допустил, что банкноты представляют обязательства платить серебряной, а не золотой монетой, тогда стало бы очевидным, что обесценение серебряной монеты не могло бы произвести на цены золотых или серебряных слитков или всяких других товаров никакого другого действия, кроме того ничтожного влияния, какое могло бы оказать на них наличие незначительной доли неполновесной серебряной монеты, рассматриваемой как законное платёжное средство. До перечеканки золотой монеты в 1774 г. золотой слиток стоил, как я уже заметил, 4 ф. ст. за унцию, т. е. на 2 1/2% выше монетной цены золота. Обесценение золотой монеты должно было аналогичным образом повысить цены всех других товаров. Против этого положения нельзя больше спорить. Сейчас же после перечеканки цена золота упала ниже его монетной цены. Пока золотая монета теряла, таким образом, в весе, за гинею, только что вышедшую с Монетного двора и, следовательно, не подвергшуюся ещё снашиванию, или за гинею, находившуюся в резерве и не подвергавшуюся снашиванию, можно было бы купить не больше товаров, чем за потёртую и неполновесную гинею; однако отсюда нельзя было бы заключить, что неполновесная и новенькая гинеи имеют одинаковую стоимость, так как ясно, что цены всех товаров регулировались бы в этом случае не количеством золота в новеньких гинеях, а количеством золота, действительно содержащегося в старых гинеях. Точно так же и теперь: хотя в обращении находится немного гиней и при покупке товаров они расцениваются не по более высокой стоимости, чем та же сумма в банкнотах, однако цены товаров регулируются не количеством золота, которое содержат гинеи, но количеством его, за которое можно купить банкноты. Если монета полновесна и банкноты не обесценены, то эти два количества должны быть всегда почти одинаковы. Тот факт, что золотая монета была в течение почти целого столетия главной мерой стоимости, установлен, по моему мнению, вполне бесспорно доводами лорда Ливерпуля. Они вкратце заключаются в следующем. Обесценение серебряной монеты в течение этого периода не вызвало какого-нибудь перевеса рыночной цены золотых или серебряных слитков над их монетной ценой; оно не произвело также никакого влияния на вексельные курсы с иноземными странами, в то время как обесценение золотой монеты, имевшее место в течение части столетия, сейчас же вызывало повышение рыночной цены золотых и серебряных слитков и соответствующее воздействие на уровень вексельных курсов; немедленно после того, как золотая монета была доведена до её теперешнего состояния совершенства, цена слитков упала ниже их монетной цены, и вексельные курсы достигали паритета или были благоприятны для нас. Лорд Ливерпуль ясно доказал этот факт, но не дал удовлетворительных объяснений, почему золото должно было стать стандартной мерой стоимости предпочтительно перед серебром. Я думаю, что золото должно быть главной, если не единственной, мерой стоимости до тех пор, пока относительная стоимость золота и серебра будет меньше на рынке, чем их относительная стоимость в монете согласно монетному уставу. Золотая и серебряная монеты одинаково являются в силу закона признанным платёжным средством, если они имеют законный вес. В силу монетного устава золото в 15 9/124 раза дороже серебра. На рынке же до того времени, когда писал лорд Ливерпуль, золото было - в среднем за очень долгий период - только в 14 3/4 раза дороже серебра, поэтому каждому должнику выгодно было платить своп долг в золотых монетах, и, следовательно, каждому, кто доставлял на Монетный двор металл для чеканки, в том числе и Английскому банку, было выгодно доставлять с этой целью золото, а не серебро. Таким образом, если бы я был купцом, склады которого хорошо снабжены товарами, и был бы должен 1 тыс. ф. ст., я мог бы купить столько золотых слитков, сколько содержится золота в 1 тыс. ф. ст., при помощи меньшего количества товаров, чем я должен был бы отдать, чтобы получить соответствующее количество серебряных слитков, содержащееся в 1 тыс. ф. ст., и это побудило бы меня купить золото, а не серебро и направить в Монетный двор для чеканки не серебро, а золото. Пока золото было только в 14 3/4 раза дороже серебра, цена серебряного слитка была бы всегда выше его монетной цены, поэтому для Английского банка было бы убыточно покупать серебряные слитки для чеканки, тогда как при покупке для этой цели золотых слитков он не потерпел бы никаких убытков. Итак, очевидно, что золото будет единственной мерой стоимости только тогда, когда в сравнении с серебром оно будет стоить на рынке дешевле, чем согласно монетному уставу. В течение этого времени банкноты будут представителями золотой монеты, потому что Английский банк будет всегда платить в монете, чеканка которой обойдётся ему всего дешевле. Но если с течением времени, как это, повидимому, имело недавно место, золото сделалось бы дороже и ценилось бы на рынке по отношению к серебру выше, чем в форме монеты, - если бы оно было в 15 1/2 или 16 раз дороже серебра, то золото стоило бы выше своей монетной цены, а серебро сохраняло бы свою монетную стоимость или было бы ниже её. Золото могло бы тогда быть с выгодой переплавлено, а серебро с выгодой же перечеканено в монету. Серебро стало бы, таким образом, мерой стоимости; Английский банк оплачивал бы свои банкноты в серебре, и, следовательно, банкноты стали бы представителями серебряной, а не золотой монеты. В этом состоит на самом деле доказательство г-на Троуэра. Высокая цена золотых слитков не есть сама по себе, как он справедливо утверждает, доказательство обесценения банкнот, потому что золотые слитки могут подняться в цене выше своей монетной стоимости в результате изменения их стоимости по отношению к серебру; это может произойти даже при полном отсутствии банкнот. Из того, что я уже сказал, явствует, что я безоговорочно принимаю это положение за истину. Но если причина высокой цены золотых слитков именно такова, то цена серебряных слитков никогда не будет выше их монетной цены до тех пор, пока одни только полновесные монеты будут законным платёжным средством. Когда цена серебряных слитков была выше их монетной цены, а цена золотых равнялась своей монетной цене или была ниже её (а это было общим явлением до 1797 г.), то никто не утверждал, что банкноты обесценены, и если бы цена золотых слитков была на 20% выше их монетной цены, а цена серебряных равнялась их монетной цене, то я считал бы, что банкноты не подверглись обесценению. Но раз цена обоих металлов выше их монетных цен, то это - убедительное доказательство, что находящиеся в обращении банкноты обесценены. Г-н Троуэр хочет объяснить этот факт установленным обесценением серебряных денег. Если бы эти неполновесные деньги были законным платёжным средством, я не спорил бы с ним об этом, но он сам признаёт, что это не так, поэтому неполновесность серебряной монеты не может быть причиной высокой цены серебряных слитков. Я хочу ответить теперь на некоторые замечания г-на Троуэра по поводу моего последнего письма в "Morning Chronicle". Я приводил цену серебра в 5 шилл. 9 1/2 пенс., не имея намерения усилить или ослабить мою аргументацию. Мне кажется, что цена 5 шилл. 7 пенс. не была упомянута г-ном Троуэром, когда он писал, и я не думал, что расчёты его основаны на этой цене; но, как он замечает, мы спорим о принципах, а потому цена в 5 шилл. 7 пенс. для меня так же годится, как цена в 5 шилл. 9 1/2 пенс. Г-ну Троуэру кажется, что в моём высказывании имеется несогласованность, что если бы серебро было принято за денежный эталон, то банкноты обращались бы в 1797 г. с премией в 24%, а теперь - с премией в 14%; при этом предполагается, что эталоном служит неполноценная серебряная монета, на том основании, что на 100 ф. ст. в банкнотах можно было купить в 1797 г. на 24% больше серебра в слитках, чем его содержалось в 100 ф. ст. неполновесной серебряной монеты, и притом купить по его настоящей цене, т. е. на 14% дороже. Я, кроме того, сказал, что "если мы оцениваем стоимость банкнот в серебряных слитках, то мы найдём, что они подверглись обесценению в 12%", а в другом месте: "что если бы серебро было принято за денежный эталон, то банкноты, находящиеся в обращении, стоили бы на 11% меньше". Меня приглашают объяснить эти места. Я думал, что если бы наши серебряные деньги отличались стандартным монетным весом и, следовательно, были бы так же хороши, как одинаковое количество слитков, то обращающиеся банкноты, оцениваемые таким мерилом, стоили бы на 12% меньше; но так как наши деньги не отличаются такой чистотой, так как по закону при крупных платежах кредитор может быть вынужден принимать в уплату до 25 ф. ст. неполноценной монеты, то банкноты, оцененные в наших серебряных деньгах, стоили бы на 11% меньше. В расчётах, сделанных г-ном Троуэром, он приписывает весь излишек рыночной цены золота над его монетной ценой обесценению серебряной монеты, за исключением лишь той части этого излишка, которая вызвана изменением в относительной стоимости двух металлов. Он прав, оценивая изменение в относительной стоимости золота и серебра (он приводит цены в 4 ф. ст. 13 шилл. для золота и 5 шилл. 7 пенс. для серебра) в 11 ф. ст. 7 шилл. 2 пенса на 100 ф. ст., но он делает поспешное заключение, приписывая баланс превышения цены золота над банкнотами, т. е. 8 ф. ст. 1 шилл. 3 пенса, обесценению серебряных денег, - он считает доказанным то, что является предметом спора, и не объясняет нам своих данных. При том же правиле, если бы он взял теперешние цены золотых и серебряных слитков, т. е. 4 ф. ст. 10 шилл. и 5 шилл. 9 1/2 пенс., он должен был бы установить действие обесценения серебряной монеты по крайней мере в 12%. Он ведь не скажет, что обесценение серебряной монеты увеличилось с тех пор, как началась, дискуссия, поэтому он должен найти другую причину для объяснения разницы между 8 ф. ст. 1 шилл. 3 пенс. и 12 ф. ст. Г-н Троуэр говорит, что если бы в обращении был только один металл, то рыночная цена превосходила бы монетную в точном соответствии с порчей монеты, но если в обращении находятся два металла, то из этого не следует, что слитки оплачиваются обесцененными деньгами. Из того, что уже было сказано, следует, что, хотя мы имеем в обращении два металла, один необходимо должен быть вытеснен из обращения, а так как обесцененная серебряная монета не является законным платёжным средством, то ею нельзя измерить никакой стоимости. Меня обвиняют в том, что я устанавливаю невозможный случай, и спрашивают: "Какое доверие может быть оказано такой гипотезе? Это способ рассуждения столь же необычный, сколь и бесполезный". Но разве предположить, что должник платил бы мне серебряной монетой, значит предположить невозможный случай? Вопреки мнению г-на Троуэра я утверждаю, что находящиеся в обращении банкноты обесценены, а в доказательство моего положения я устанавливаю, что если мой должник решит уплатить мне свой долг серебром, он будет вынужден законом уплатить такую сумму, которая равнялась бы по стоимости 1 120 ф. ст. в банкнотах. Разве это не удовлетворительный аргумент, доказывающий, что серебро, содержащееся в 1 тыс. ф. ст., стоит больше, чем 1 тыс. ф. ст. в банкнотах? Тот факт, что уплата такого рода невозможна до тех пор, пока закон позволяет платить бумагой, которая, правда, называется 1 тыс. ф. ст., но может купить лишь столько серебра, сколько содержится в 900 ф. ст., представляет злоупотребление, против которого я протестую, а так как никто не отрицает, что 1 тыс. ф. ст. стоят больше, то наличие злоупотребления доказано. Я согласен с г-ном Троуэром в том, что серебро есть законное платёжное средство на всякую сумму, как и золото, если оно имеет свой монетный вес, но с его стороны это допущение фатально для его аргумента. На 62 шилл. стандартного веса, которые по его допущению равняются фунту серебра, я всегда могу купить фунт серебра в слитке. Он не отрицает этого. Он вполне соглашается, что если серебряная монета полновесна, то цена серебряных слитков, оплачиваемых серебряной монетой, не может превышать их монетную цену. Но на 62 шилл. в банкнотах я не могу купить фунт серебра, за фунт серебра я вынужден дать 3 ф. ст. 7 шилл. банкнотами, а это составит премию в 8 ф. ст. 1 шилл. 8 пенс. Можно ли, желая быть последовательным, утверждать, что 62 шилл. стандартного веса, являющиеся законным платёжным средством, стоят не больше, чем 3 ф. ст. 2 шилл. в банкнотах? Если бы наш Монетный двор предписывал, чтобы каждый шиллинг весил унцию, то до тех пор, пока шиллинги были бы полновесными, серебро не могло бы стоить больше шиллинга за унцию; даже при обесценении денег и падении веса шиллинга только до пол-унции цена серебра не поднялась бы всё же выше 1 шилл. за унцию, если бы закон защищал продавца слитков от уплаты неполновесной монетой. "Конечно, - сказал бы он, - я продал вам серебро по 1 шилл. за унцию, но шиллинг, которым вы мне платите, неполновесен, вы должны поэтому платить мне по весу согласно монетной цене шиллинга". Продавец получит поэтому в конечном счёте по два неполновесных шиллинга за унцию, хотя он продал своё серебро по одному. Что таково было положение дел на рынке серебряных слитков, учит нас опыт почти целого столетия. Цена серебряных слитков редко поднималась выше их монетной цены, и увеличение последней объяснялось изменениями в относительной стоимости золота и серебра. Серебро оплачивалось в золоте, и потому золото сохраняло свою монетную стоимость. 2) Ответ г-м Троттеру и Троуэру Что собственно хочет сказать г-н Троттер, утверждая, что внешние долги, может быть, выгоднее уплатить путём вывоза дорогих товаров, чем дешёвых, - вывозом золота, которое у нас дороже, чем товаров, которые у нас дешевле, чем за границей? Это, очевидно, невозможно; это включает противоречие, и нет нужды доказывать его нелепость. Если г-н Троттер думает, что вывоз всех других товаров будет сопровождаться такими большими расходами, которые сделают вывоз золота более выгодным, то он не сможет тогда утверждать, что золото дороже у нас, чем за границей, потому что оно при всех обстоятельствах наиболее дешёвый экспортный товар. Когда мы говорим, что золото у нас дороже, чем за границей, а товары дешевле, то мы должны включить в расчёт расходы, сопровождающие их вывоз на иностранные рынки, иначе они не могут служить удовлетворительными предметами сравнения. Если же г-н Троттер хочет сказать, что только золото будет принято в уплату за наш долг, какова бы ни была его относительная цена, - ибо здесь прекращается всякое сравнение между золотом и другими предметами, - то ведь мы обязались платить золотом, и ничто, кроме золота, не освободит нас от наших обязательств. Но я имею теперь дело не с замечаниями г-на Троттера, а с замечаниями г-на Троуэра. Г-н Троуэр замечает, что если бы можно было допустить, что иностранный купец будет ввозить золото с убытком, то из этого следовало бы, что купцы меняют два товара, на одном из которых оба теряют (я предполагаю, что этот товар - слитки); их прибыли, говорит он, должны быть тогда получены с другого товара. Продавец должен прибавить к цене товара, например пшеницы, убыток, который он потерпел на золоте, полученном в уплату; далее покупатель должен прибавить к цене товара (пшеницы), кроме прибыли, убыток, который он терпит на золоте, каковым он платит за товар. Во-первых, это не удовлетворительный ответ г-ну Троттеру, который предполагает, что долг уже заключён и что по этому долгу можно платить только деньгами. Аргумент г-на Троуэра не имеет также никакого отношения к какому-либо новому договору, который может иметь место между экспортёром пшеницы с континента и экспортёром слитков золота или денег из Англии и который обязательно включает определение стоимости этих товаров. Он имеет в виду следующий случай: импортёр пшеницы в Англию обязался уплатить известную сумму денег - слиток золота определённого веса, и наступило время, когда его кредитор не примет в уплату ничего другого. Во-вторых, допуская, что аргумент применяется правильно, мы всё же не знаем, за чей счёт заключена сделка - за счёт иностранного или английского купца? Мы должны, очевидно, предположить, что за счёт обоих и что оба они заинтересованы в стоимости золота, потому что оба должны сделать надбавку к цене пшеницы, чтобы компенсировать себя за потерю на слитках: один из них должен это сделать потому, что слитки дёшевы, другой - потому, что они дороги. Если же имеется указание, что ввоз пшеницы в Англию идёт только за счёт английского купца, то сделка была закончена, поскольку речь шла об иностранном купце, тогда, когда он продал пшеницу. Он купил её во Франции за известную сумму французских денег и продал её за известную сумму французских же денег, которые должны быть ему уплачены или при помощи векселя, или путём пересылки слитков одинаковой стоимости, - он поэтому заинтересован только в том, чтобы получить деньги для своего платежа и прибыль, если таковая ему причитается. Он мог бы, по всей вероятности, быть только агентом и интересоваться только получением комиссии за своп хлопоты. Если же сделка заключена за счёт английского купца, то какое побуждение может он иметь для ввоза пшеницы, если золото, которое он обязался дать взамен её, будет в Англии дороже, чем во Франции, или, говоря другими словами, если он не может продать её за большую сумму денег, чем он за неё заплатил? Если же он может так поступить, то не доказывает ли это, что золото дешевле в Англии, чем во Франции? Что на товар - пшеницу - можно в Англии купить больше золота, чем во Франции? Поскольку речь идет об этих двух товарах, какое лучшее доказательство можем мы иметь, что золото дороже во Франции, чем в Англии? Разве сказать: нет, ведь пшеница дороже в Англии - значит дать удовлетворительный ответ? По отношению к чему она дороже? Конечно, к золоту. Я думаю, что это только другой способ сказать, что золото дешевле в Англии и дороже во Франции. Как можем мы различить в таком случае, получена ли прибыль путём продажи денег или путём покупки пшеницы, раз мы видим, что обе выражают в точности одно и то же? Итак, в предположенном случае - вывоз золота в обмен на пшеницу, несмотря на то, что оно дороже в вывозящей стране, - необходимо принять во внимание и факт, что пшеница дешевле во ввозящей стране. Но можно ли бороться против невыгоды вывоза золота путём повышения цены пшеницы? Это было бы равносильно заявлению, что так как пшеница дешевле у нас, чем за границей, то я увеличу её количество, ввозя ещё больше, и в то же время подниму её цену. Именно к такому аргументу пришлось бы прибегнуть, если бы вся сделка была заключена за счёт иностранного купца. Высокая цена слитков - доказательство обесценивания банкнот (Лондон 1811)Четвертое издание с приложением Автор последующих строк уже представил через посредство "Morning Chronicle" на суд общества некоторые размышления на тему о бумажно-денежном обращении. Он счёл целесообразным вновь опубликовать свои взгляды на этот вопрос в такой форме, которая скорее сможет вызвать плодотворное обсуждение. Основанием для этого является то величайшее беспокойство, с которым он наблюдает прогрессирующее обесценение бумажных денег. Его опасения возросли, когда он увидел, что большая часть общества совершенно отрицает это обесценение и что другие, признающие наличие его, приписывают его какой угодно причине, но только не той, которую автор считает единственно действительной. Чтобы применить успешно какое-либо средство против зла такого большого размера, весьма важно не оставить никаких сомнений насчёт причины этого зла. Опираясь на установленные начала политической экономии, автор ставит себе целью выдвинуть доводы, которые, по его мнению, доказывают, что бумажные деньги нашей страны давно уже подверглись да и теперь ещё подвергаются значительному обесценению и что причиной тому является излишек их количества, а не недостаток доверия к Английскому банку или сомнения в его способности выполнить свои обязательства. Автор делает это без какого-либо неприятного сознания, так как он вполне убеждён, что страна имеет в своём распоряжении средства восстановить бумажные деньги в их настоящей стоимости, т. е. стоимости монеты, для уплаты которой они должны служить порукой. Ему известно, что он мало что может прибавить к аргументам, которые так искусно были развиты лордом Кингом и которые давно уже должны были убедить всех; но так как зло всё более обостряется, то он полагает, что общество не перестанет выказывать интерес к предмету, который по своей важности не уступает никакому другому и с которым так тесно связано всеобщее благосостояние. 1 декабря 1809 г. ВЫСОКАЯ ЦЕНА СЛИТКОВ - ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ОБЕСЦЕНЕНИЯ БАНКНОТНаиболее авторитетные писатели по вопросам политической экономии исходили из предположения, что драгоценные металлы, употребляемые для обращения товаров всего мира, распределялись до учреждения банков в известных пропорциях между различными цивилизованными нациями земного шара соответственно состоянию их торговли и богатства, а следовательно, и соответственно числу и частоте платежей, которые им приходилось производить. При таком распределении драгоценные металлы всюду сохраняли одну и ту же стоимость, а так как каждая страна одинаково нуждалась в количестве металлов, которое в данное время обращалось в ней, то не было никакого искушения ввозить или вывозить их. Как и все остальные товары, золото и серебро имеют присущую им стоимость, которая не является произвольной, а зависит от их редкости, количества труда, затраченного на их добывание, и стоимости капитала, применяемого в рудниках для добычи их. "...Свойства полезности, красоты и редкости, - говорит д-р Смит, - лежат в основе высокой цены драгоценных металлов, которые повсюду обмениваются на большое количество других товаров. Эта их высокая стоимость предшествовала и была независима от чеканки из них монеты и явилась именно тем качеством, которое сделало их пригодными для такого употребления" <Адам Смит, Исследование о природе и причинах богатства народов, т. I, Соцэкгиз, 1935, стр. 155-156. - Прим. ред.>. Если бы количество золота и серебра, употребляемое во всём мире в качестве монеты, было чрезмерно ограничено или излишне велико, то это ни в малейшей степени не повлияло бы на пропорции, в которых они распределялись бы между различными нациями; изменение в их количестве вызвало бы только сравнительное вздорожание или удешевление товаров, на которые они обмениваются. Меньшее количество монеты выполняло бы функции средства обращения так же хорошо, как и большее. 10 млн. были бы так же пригодны для этой цели, как и 100 млн. Д-р Смит замечает, что "самые обильные рудники драгоценных металлов или камней могут мало прибавить к мировому богатству. Продукт, стоимость которого обусловливается главным образом его редкостью, необходимо уменьшается в стоимости при обилии его" <Адам Смит, Исследование о природе и причинах богатства народов, т. I, стр. 156. - Прим. ред.>. Если в своём поступательном движении к богатству одна нация подвигается быстрее, чем другая, то первая предъявит спрос на более значительную долю денег всего мира и получит её. Торговля, количество товаров, платежи этой нации возрастут, и общее денежное обращение всего мира будет распределено соответственно новым пропорциям. Все страны будут поэтому содействовать удовлетворению этого действительного спроса. Таким же точно образом, если какая-либо нация расточит часть своего богатства или потеряет часть своей торговли, она не сможет удержать то же самое количество средств обращения, которым она владела прежде. Часть его будет вывезена и распределится между другими нациями, пока не будут восстановлены обычные пропорции. Пока положение стран по отношению друг к другу продолжает оставаться неизменным, то, как бы обширна ни была торговля между ними, их вывоз и ввоз будут в целом одинаковы. Англия могла бы вывезти из Франции больше товаров, чем ввезти в неё, но в результате она ввезла бы больше товаров в какую-нибудь другую страну, а Франция ввезла бы больше из этой последней. Таким образом, вывоз и ввоз всех стран будут взаимно уравновешиваться, необходимые платежи будут производиться при помощи векселей, металлические же деньги не будут передвигаться, потому что стоимость их во всех странах будет одинакова. Если бы в какой-нибудь из этих стран был открыт золотой рудник, то средства обращения её понизились бы в своей стоимости, поскольку в обращение поступило бы возросшее количество драгоценных металлов, не могущих поэтому иметь такую же стоимость, как средства обращения в других странах. Золото и серебро в монете или слитках стали бы немедленно, повинуясь закону, регулирующему все остальные товары, предметами вывоза; они покинули бы страну, где они стали дёшевы, и направились бы в страны, где они дороже, и продолжали бы это делать до тех пор, пока рудник сохранял бы свою производительность и пока не восстановилось бы вновь отношение, существовавшее в каждой стране между капиталом и деньгами до открытия рудника, а золото и серебро не обрели бы всюду одинаковую стоимость. Взамен за вывезенное золото были бы ввезены товары, и хотя то, что обычно называется торговым балансом, было бы против страны, вывозящей деньги или слитки, стало бы всё же очевидно, что она ведёт в высшей степени выгодную торговлю, ибо она вывозила бы то, что для неё совершенно бесполезно, в обмен за товары, которые могут быть употреблены для расширения её промышленности и возрастания её богатства. Если бы вместо открытия в стране рудника в ней был учреждён банк наподобие Английского банка с правом выпускать свои банкноты в качестве средств обращения, то выпуск - путём ли ссуды торговцам или авансов правительству - большого количества банкнот, а следовательно, значительное увеличение суммы средств обращения привело бы к такому же результату, как и открытие рудника. Средства обращения понизились бы в своей стоимости, а товары повысились бы соответственно в цене. Равновесие между данной страной и остальными могло бы быть восстановлено только путём вывоза части монет. Таким образом, учреждение банка этого типа и сопровождающий его выпуск банкнот действуют так же, как и открытие рудника, как побуждение к вывозу либо слитков, либо монеты, и выгодны лишь постольку, поскольку может быть достигнута эта цель. Банк заменяет дорогостоящие средства обращения такими, которые не имеют стоимости, и даёт нам возможность превратить драгоценные металлы (которые, хотя они и представляют весьма необходимую часть нашего капитала, не приносят никакого дохода) в капитал, который будет доставлять доход. Д-р А. Смит уподобляет выгоды, доставляемые учреждением банка, выгодам, которые могут быть получены путём превращения наших дорог в пастбища и хлебные поля и проведения дорог в воздухе. Дороги, как и монеты, весьма полезны, но ни те, ни другие не приносят дохода. Нашлись бы, правда, люди, которых устрашило бы то обстоятельство, что звонкая монета оставляет страну, и которые рассматривали бы торговлю, требующую, чтобы мы расстались с звонкой монетой, как невыгодную. Закон действительно рассматривает её как таковую и поэтому принимает меры против вывоза звонкой монеты. Однако достаточно весьма небольшого размышления, чтобы убедиться, что звонкая монета вывозится по нашему выбору, а не по необходимости, и что для нас в высшей степени выгодно менять излишние товары на такие, которые могут быть использованы производительно. Вывоз звонкой монеты может быть предоставлен в любое время и без всякой опасности усмотрению отдельных лиц; монета не будет вывозиться в большем количестве, чем какой-либо другой товар, если только вывоз его не окажется выгодным для страны. Если бы вывоз монеты был выгоден, никакие законы не могли бы помешать ему на деле. К счастью, в этом случае, как и в большинстве других, раз в области торговли существует свободная конкуренция, интересы отдельного лица и интересы всего общества никогда не расходятся между собою. Если бы возможно было добиться строгого выполнения закона против переплавки или вывоза монеты при одновременной свободе вывоза золотых слитков, то этот закон не доставил бы никаких выгод; он, наоборот, причинил бы большой убыток тем, кому пришлось бы, вероятно, платить 2 унции, а то и больше, золота в монете за 1 унцию золота в слитках. Это привело бы к подлинному обесценению наших средств обращения, и цены всех других товаров поднялись бы в том же самом отношении, в каком увеличилась бы цена золотых слитков. Владелец денег терпел бы в этом случае такой же убыток, какой испытал бы собственник хлеба, если бы был проведён закон, запрещающий ему продавать свой хлеб дороже, чем за половину его рыночной стоимости. Закон против вывоза монеты имеет такую тенденцию, но его так легко обойти, что золото в слитках всегда имело почти такую же стоимость, как золото в монете. Оказывается, таким образом, что средства обращения одной страны не могут иметь в течение сколько-нибудь продолжительного времени большую стоимость, чем средства обращения другой страны, поскольку речь идёт об одинаковых количествах драгоценного металла. Излишек средств обращения есть только относительное понятие. Так, если бы сумма средств обращения составляла в Англии 10 млн., во Франции - 5 млн., в Голландии - 4 млн. и т. д., то даже при удвоении или утроении суммы средств обращения ни одна страна не заметила бы излишка в средствах обращения до тех пор, пока сохранилось бы прежнее отношение между количествами денег в этих странах. Цены товаров возросли бы всюду благодаря росту количества средств обращения, но ни одна страна не прибегла бы к вывозу денег. Но если бы данное отношение было нарушено тем, что в одной лишь Англии сумма средств обращения увеличилась вдвое, тогда как во Франции, Голландии и т. д. эта сумма оставалась бы без изменения, мы заметили бы излишек в средствах обращения; и по тем же основаниям другие страны ощутили бы недостаток в них, и часть нашего излишка вывозилась бы, пока не восстановились бы снова пропорции 10, 5, 4 и т. д. Если бы во Франции унция золота имела большую стоимость, чем в Англии, и могла бы поэтому купить во Франции большее количество товаров, имеющихся в обеих странах, то золото немедленно начало бы уходить из Англии ради этой цели; мы предпочитали бы тогда посылать золото вместо каких-нибудь других товаров, так как оно являлось бы самым дешёвым товаром на английском рынке; ведь если бы золото было во Франции дороже, чем в Англии, то товары были бы там дешевле, и мы поэтому не посылали бы их с дорогого рынка на дешёвый, а, наоборот, они поступали бы с дешёвого на дорогой рынок и обменивались бы на наше золото. Банк может продолжать выпуск своих банкнот, а звонкая монета может вывозиться с выгодой для страны до тех пор, пока банкноты остаются разменными на звонкую монету по предъявлению, потому что банк не может никогда выпустить банкнот на сумму большую, чем стоимость монеты, которая обращалась бы, если бы не было банка <cтрого говоря, количество банкнот могло бы превысить эту стоимость, ибо, по мере того как банк увеличивал бы количество мировых средств обращения, Англия удерживала бы за собой известную долю этого приращения>. Если бы Английский банк попытался превысить это количество, то излишек банкнот немедленно вернулся бы к нему для размена на звонкую монету, так как наши средства обращения, понизившись в силу этого в своей стоимости, могли бы быть вывезены с выгодой и не могли бы быть удержаны в обращении нашей страны. Таковы, как я уже объяснил раньше, способы, при помощи которых наши средства обращения приходят к одному уровню со средствами обращения других стран. Как только будет достигнут этот одинаковый уровень, исчезнет всякая выгода, доставляемая вывозом. Но если банк будет выпускать вместо вернувшихся к нему банкнот новые, полагая, что то количество средств обращения, которое было необходимо в истекшем году, будет необходимо и в текущем году, или по какой-либо другой причине, то снова возродится и с теми же самыми результатами стимул к вывозу звонкой монеты, вызванный первоначально излишком средств обращения. Снова усилится спрос на золото, вексельный курс сделается неблагоприятным, и цена золотых слитков поднимется несколько выше их монетной цены, поскольку закон разрешает вывозить слитки, но запрещает вывозить монету; разница же в цене будет приблизительно равна достаточному вознаграждению за риск. Таким образом, если бы Английский банк упорствовал в своём стремлении возвращать свои банкноты в обращение, из его сундуков можно было бы извлечь все гинеи до последней. Если бы Английский банк, желая восполнить недостаток своего золотого запаса, скупал золотые слитки по повышенной цене и перечеканивал их в гинеи, то это не помогло бы беде: спрос на гинеи не прекратился бы, но вместо вывоза их переплавляли бы и продавали банку в форме слитков по более высокой цене. "...Работа Монетного двора, - заметил д-р Смит, намекая на аналогичный случай, - уподобилась работе Пенелопы: сработанное днём уничтожалось ночью" <Адам Смит, Исследование о природе и причинах богатства народов, т. II, Соцэкгиз, 1935, стр. 115. - Прим. ред.>. Тот же самый взгляд высказывается и г-ном Торнтоном: "Установив, что гинеи в сундуках Английского банка уменьшаются с каждым днём, его руководители вполне естественно пожелали бы вернуть их всеми действительными и не чрезвычайно дорогими средствами. Они будут в известной мере расположены покупать золото даже и по убыточной цене и перечеканивать его в новые гинеи, но им придётся делать это как раз в то время, когда многие переплавляют частным образом то, что отчеканено. Одна сторона переплавляла бы и продавала, в то время как другая скупала бы и чеканила. И каждая из этих двух конкурирующих операций будет производиться не в видах действительного вывоза каждой переплавленной гинеи в Гамбург: эти операции, или по крайней мере значительная часть их, будут ограничены пределами Лондона, так как и те, которые чеканят из слитков гинеи, и те, которые переплавляют гинеи в слитки, живут в одном и том же месте и дают постоянную работу друг другу". "Если мы предположим, - продолжает г-н Торнтон, - как мы это и делаем сейчас, что Английский банк ведёт такое же состязание с плавильщиками монеты, то он, очевидно, вступает с ними в очень неравный бой, и если бы даже банк устал в этом бою не так скоро, он, конечно, устал бы скорее, чем его противники". Поэтому Английский банк был бы вынужден в конце концов пустить в ход единственное средство, имеющееся в его распоряжении, чтобы приостановить требования на гинеи: его руководители стали бы извлекать часть своих банкнот из обращения, пока стоимость остающихся банкнот не поднялась бы до стоимости золотых слитков, а следовательно и до уровня стоимости средств обращения других стран. Тогда отпала бы всякая выгода от вывоза золотых слитков, а вместе с ней и соблазн разменивать банкноты на гинеи. Итак, с этой точки зрения оказывается, что соблазн вывозить деньги в обмен на товары или то, что называется неблагоприятным торговым балансом, порождается только излишком средств обращения. Но г-н Торнтон, который рассматривает этот предмет очень пространно, предполагает, что очень неблагоприятный торговый баланс мог быть вызван в нашей стране плохим урожаем и последовавшим за ним ввозом хлеба, причём страна, которой мы задолжали, выразила нежелание принимать в уплату наши товары. Поэтому баланс нашего долга чужой стране должен был быть выплачен из той части наших денег, которая состоит из монеты, а это привело к спросу на золотые слитки и возрастанию цены последних. Г-н Торнтон считает, что Английский банк оказывает значительное облегчение торговцам, заполняя своими банкнотами пустоту, причиняемую вывозом монеты. Г-н Торнтон признаёт во многих местах своего труда, что цена золотых слитков измеряется золотой монетой, а также, что закон, направленный против переплавки золотой монеты в слитки и вывоза её, легко обходится. Но раз это так, то из этого следует, что никакой спрос на золотые слитки, вызванный той или иной причиной, не может повысить денежную цену этого товара. Ошибочность этого рассуждения происходит оттого, что автор не проводит различия между возрастанием стоимости золота и возрастанием его монетной цены. При большом спросе на хлеб денежная цена его возросла бы, ибо, сравнивая хлеб с деньгами, мы в действительности сравниваем его с другим товаром; по той же самой причине, когда возникает большой спрос на золото, его хлебная цена должна возрасти, но ни в том, ни в другом случае один бушель пшеницы не будет стоить дороже другого или одна унция золота дороже другой. Одна унция слиткового золота не могла бы, пока цена его измеряется в золотой монете, иметь большую стоимость, чем унция золота в монете, или 3 ф. ст. 17 шилл. 10 1/2 пенс., каков бы ни был спрос на него. Если бы этот аргумент не считался решающим, то я указал бы, что предполагаемая здесь пустота в обращении может быть обусловлена только уничтожением или ограничением бумажного обращения; эта пустота была бы скоро пополнена ввозом слитков, которые не преминули бы потянуться к прибыльному рынку, так как при уменьшении числа обращающихся денег увеличилась бы их стоимость. Как бы ни был велик недостаток в хлебе, вывоз денег лимитировался бы их возросшей редкостью. Спрос на деньги настолько всеобщ, и при настоящем состоянии цивилизации деньги имеют такое существенное значение для коммерческих сделок, что они никогда не будут вывозиться в излишнем количестве. Даже во время такой войны, как настоящая, когда неприятель пытается запретить всякую торговлю с нами, та стоимость, которую приобрели бы средства обращения при увеличении их редкости, предотвратила бы вывоз их в размерах, создающих пустоту в обращении. Г-н Торнтон не объяснил нам, почему в другой стране имелось бы нежелание получать наши товары в обмен за её хлеб, а ему необходимо было бы доказать, что при наличии такого нежелания мы настолько считались бы с ним, что согласились бы расстаться с нашей монетой. Если мы соглашаемся давать монету в обмен за товары, то это должно делаться нами свободно, а не из необходимости. Мы не ввозили бы больше товаров, чем мы вывозим, если бы не имели излишка средств обращения, который может поэтому стать частью нашего вывоза. Вывоз монеты вызывается её дешевизной и является не следствием, а причиной неблагоприятного баланса: мы не вывозили бы её, если бы она не шла на более выгодный рынок или если бы мы имели в своём распоряжении другой товар, который мы могли бы вывозить с большей выгодой. Вывоз монеты есть спасительное средство против избыточного обращения, но так как избыток или излишество средств обращения есть, как я уже старался доказать, только относительное понятие, то ясно, что иностранный спрос на монету порождается лишь сравнительным недостатком средств обращения во ввозящей стране - недостатком, который и вызывает повышение их стоимости. Вывоз этот является всецело вопросом выгоды. Если бы лица, продавшие в Англию хлеб на сумму, скажем, в 1 млн., могли ввезти к себе товары, которые стоят 1 млн. в Англии, но за которые за границей можно выручить больше, чем при посылке туда 1 млн. в деньгах, то они предпочли бы товары; в противном случае они предъявили бы спрос на монету. Иностранцы предпочитают получать золото в обмен на свой хлеб только на основании сравнения стоимости золота и других товаров на своём и на нашем рынках, раз золото на лондонском рынке дешевле, чем на их собственном. Если мы уменьшаем количество средств обращения, мы придаём им добавочную стоимость, а это побуждает иностранцев изменить свой выбор и предпочесть товары. Если я должен в Гамбурге 100 ф. ст., я буду стараться найти наиболее дешёвый способ уплаты их. Если я пошлю деньги, то, предполагая, что издержки пересылки составляют 5 ф. ст., погашение долга обойдётся мне в 105 ф. ст. Если я покупаю здесь сукно, которое вместе с расходами по пересылке будет стоить мне 106 ф. ст. и которое в Гамбурге продаётся за 100 ф. ст., то очевидно, что мне гораздо выгоднее послать деньги. Если покупка и расходы по пересылке металлических изделий для уплаты моего долга обойдутся мне в 107 ф. ст., я предпочту скорее послать сукно, чем металлические изделия, но я не пошлю ни один из этих товаров и отдам предпочтение деньгам, потому что последние представляют самый дешёвый экспортный товар на лондонском рынке. Те же самые основания будут руководить экспортером хлеба, если сделка происходит за его собственный счет. Но если Английский банк, "опасаясь за безопасность своего учреждения" и зная, что требуемое число гиней будет извлечено из его сундуков по монетной цене, счел бы необходимым уменьшить количество своих банкнот, находящихся в обращении, то стоимости денег, сукна и металлических изделий не относились бы больше друг к другу, как 105, 106 и 107; деньги стали бы наиболее дорогими из трех, и поэтому было бы менее выгодно использовать их для погашения заграничных долгов. Если бы - и это является более важным случаем - мы согласились платить субсидию иностранному государству, то деньги не стали бы вывозиться, пока имелись бы товары, которыми можно было бы дешевле погасить платёж. Интересы отдельных лиц сделали бы вывоз денег ненужным <Это в полной мере подтверждается заявлением мистера Роза в палате общин, что наш вывоз превышает наш ввоз на сумму, кажется, в 16 млн. ф. ст. В возмещение за этот вывоз нельзя было ввезти никаких слитков, ибо хорошо известно, что раз цена слитков была в течение всего года выше за границей, чем у нас, то значительное количество нашей золотой монеты вывозилось; поэтому к стоимости баланса вывоза необходимо прибавить стоимость вывезенных слитков. Часть этой суммы иностранные государства могут быть нам должны, но остаток должен в точности равняться нашим расходам за границей, состоящим из субсидий нашим союзникам и содержания там нашей армии и флота>. Итак, звонкая монета будет посылаться за границу для погашения долгов только тогда, когда она имеется в чрезмерном изобилии, когда она представляет самый дешёвый товар для вывоза. Если бы в такое время Английский банк платил по своим банкнотам наличными деньгами, то для этой цели потребовалось бы золото. Оно получалось бы по монетной цене, тогда как его цена в слитках была бы несколько выше его стоимости в монете, поскольку слитки могли бы вывозиться совершенно легально, а монета была бы запрещена к вывозу. Очевидно, следовательно, что обесценение обращающихся денег является необходимым следствием их избытка и что при обычном состоянии национального денежного обращения это обесценение встречает противодействие в вывозе драгоценных металлов. <В статье, помещённой в журнале, пользующемся большой и заслуженной известностью ("Edinburgh Review", v. I, p. 183), было указано, что увеличение количества бумажных денег вызовет только повышение бумажной или выраженной в средствах обращения цены товаров, но оставит без изменения их слитковую цену. Это было бы верно в такое время, когда денежное обращение состояло бы целиком из бумажных денег, не подлежащих размену на металлические деньги, но не тогда, когда последние составляют какую-либо часть денежного обращения. В последнем случае результатом возросшего выпуска бумажных денег было бы извлечение из обращения такого же количества металлических денег; но это не могло бы быть сделано без увеличения количества слитков на рынке и уменьшения вследствие этого их стоимости или, другими словами, возрастания слитковой цены товаров. Только вследствие этого падения стоимости металлических денег и слитков возникает искушение вывозить их; наказание же переплавку монеты является единственной причиной незначительной разницы между стоимостью монеты и слитков или незначительного перевеса рыночной цены над монетной. Но вывоз слитков - это синоним неблагоприятного торгового баланса. Какими бы причинами ни вызывался вывоз слитков в обмен на товары, по моему мнению, совершенно неправильно называть его неблагоприятным торговым балансом. Когда обращение состоит всецело из бумажных денег, всякое возрастание их количества повышает денежную цену слитков (не понижая, однако, их стоимости) таким же образом и в том же отношении, в каком оно повышает цены других товаров; по той же причине это возрастание понижает вексельные курсы. Это понижение является, однако, только номинальным, а отнюдь не реальным; оно не повлечёт за собой вывоза слитков, потому что действительная стоимость слитком не уменьшилась, так как не произошло никакого увеличения их количества на рынке>. Таковы, по моему мнению, законы, которые регулируют распределение драгоценных металлов по всему миру и которые обусловливают и ограничивают их перемещение из одной страны в другую, регулируя стоимость их в каждой из них. Но, прежде чем я перейду на основе этих принципов к анализу главного предмета моего исследования, мне необходимо будет показать, что является в нашей стране стандартной мерой стоимости, представителем которой должны являться и самые бумажные деньги; определить их нормальное состояние или их обесценение можно только путем сравнения с такой мерой. Можно утверждать, что ни в одной стране, где находящиеся в обращении деньги состоят из двух металлов, не существует постоянной меры стоимости <строго говоря, не может существовать никакой постоянной меры стоимости. Мера стоимости сама по себе должна была бы быть неизменной; но таковым не может быть ни золото, ни серебро, потому что оба они подвержены колебаниям (в своей стоимости), так же как и другие товары; между тем опыт учит нас, что хотя изменения в стоимости золота или серебра могут быть значительны при сравнении отдаленных друг от друга периодов, но по отношению к коротким промежуткам времени стоимость их до известной степени устойчива. Именно это свойство помимо других преимуществ делает их более пригодными, чем всякий другой товар, для выполнения функций денег; поэтому с точки зрения, с которой мы рассматриваем их, золото и серебро могут быть названы мерой стоимости>, потому что эти металлы постоянно подвергаются изменению в стоимости по отношению друг к другу. Как бы точно ни устанавливали директора Монетного двора относительную стоимость золота и серебра в монете в тот момент, когда они фиксируют это отношение, он не в состоянии предупредить повышение стоимости одного из этих металлов, в то время как стоимость другого остается неизменной или снижается. Когда это случается, то монеты, вычеканенные из одного из металлов, будут переплавляться в слитки, чтобы быть проданными за другой. Г-н Локк, лорд Ливерпуль и многие другие писатели основательно исследовали этот предмет, и все они согласны, что единственное средство против зла, причиняемого этим путём денежному обращению, заключается в утверждении только одного из двух металлов стандартной мерой стоимости. Г-н Локк считал наиболее пригодным для этой цели металлом серебро и предложил, чтобы золотой монете предоставили находить самой свою собственную стоимость и представлять в обращении большее или меньшее число шиллингов в зависимости от изменения рыночной цены золота по отношению к серебру. Лорд Ливерпуль, напротив, утверждал <"A Treatise on the Coins of the Realm", Oxford 1805, p. 152-155>, что золото не только является наиболее пригодным металлом для выполнения функций всеобщей меры стоимости в нашей стране, но что в силу общего соглашения всего народа оно сделалось уже таковой, принималось за таковую иностранцами и соответствовало наилучшим образом росту торговли и богатства Англии. Он поэтому предложил, чтобы только золотая монета служила законным платёжным средством для сумм, превышающих одну гинею, а серебро - для сумм, не превышающих этого размера. В силу существующего закона золотая монета является законным платёжным средством для всех сумм, но в 1774 г. было постановлено: "В пределах Великобритании или Ирландии уплата серебряной монетою королевства суммы, превосходящей 25 ф. ст., в один раз не может почитаться законной; серебряная монета не может также почитаться законным платёжным средством для большей стоимости, чем та, которая соответствует ей по весу, т. е. 5 шилл. 2 пенса за каждую унцию серебра". Правило это было возобновлено в 1798 г. и остаётся в силе до настоящего дня. Согласно ряду соображений, приводимых лордом Ливерпулем, не может, повидимому, подлежать никакому сомнению, что золотая монета была главной мерой стоимости уже в течение почти столетия. Это, думается мне, следует, однако, приписывать неточному определению монетных соотношений. Золото было оценено слишком высоко, поэтому серебро, имеющее свой стандартный вес, не могло оставаться в обращении. Если бы было издано новое правило и серебро было бы оценено слишком высоко или (что то же самое) если бы рыночное соотношение цен золота и серебра стало больше, чем соотношение, установленное Монетным двором, то тогда золото исчезло бы из обращения, а серебро стало бы стандартным средством обращения. Это может потребовать дальнейших разъяснений. Стоимость золота в монете относится к стоимости серебра в монете, как 15 9/124 : 1. Одна унция золота, которая перечеканивается в 3 ф. ст. 17 шилл. 10 1/2 пенс. золотой монеты, стоит согласно монетному уставу 15 9/124 унции серебра, потому что такое количество серебра по весу тоже перечеканивается в 3 ф. ст. 17 шилл. 10 1/2 пенс. серебряной монеты. Пока отношение стоимости золота к стоимости серебра будет на рынке меньше, чем 15 : 1, как это было в течение многих лет до последнего времени, золотая монета неизбежно останется стандартной мерой стоимости; ведь ни Английский банк, ни какое-либо отдельное лицо не послали бы 15 9/124 унции серебра на Монетный двор для перечеканки в 3 ф. ст. 17 шилл. 10 1/2 пенс., если бы они могли продать это количество серебра на рынке за сумму большую, чем 3 ф. ст. 17 шилл. 10 1/2 пенс. в золотой монете, а они могли бы это сделать при условии, что унцию золота можно купить меньше, чем за 15 унций серебра. Но если отношение стоимости золота и серебра превышает установленное Монетным двором отношение 15 9/124 : 1, то золото не будет посылаться на Монетный двор для чеканки, ибо, поскольку каждый из этих металлов является законным платёжным средством на любую сумму, владелец унции золота не пошлёт её на Монетный двор для перечеканки в 3 ф. ст. 17 шилл. 10 1/2 пенс. золотой монеты, пока он может продать золото, а в подобном случае он это сможет сделать за большую сумму, чем 3 ф. ст. 17 шилл. 10 1/2 пенс. в серебряной монете. Не только золото не будет посылаться на Монетный двор для перечеканки, но торговец, противозаконно торгующий золотом, будет переплавлять золотую монету и продавать её в виде слитков за большую сумму, чем её номинальная стоимость в серебряной монете. Таким образом, золото исчезло бы в этом случае из обращения, и серебро стало бы стандартной мерой стоимости. Так как золото испытало в последнее время значительное повышение стоимости в сравнении с серебром (унция стандартного золота, которая в среднем за много лет равнялась по своей стоимости 14 3/4 унции стандартного серебра, теперь стоит на рынке столько же, сколько 15 1/2, унций), то дело обстояло бы так именно теперь, если бы был отменён закон, ограничивающий права Английского банка по размену банкнот, и была бы допущена такая же свободная чеканка серебра на Монетном дворе, как и золота. Но в парламентском акте 39-го года царствования Георга III имеется следующая статья: "Принимая во внимание, что до тех пор, пока не будут введены меры, признанные необходимыми, могут возникнуть неудобства от чеканки серебра; принимая во внимание, что в силу существующей низкой цены на слитки серебра, вызванной временными обстоятельствами, на Монетный двор доставлено было небольшое количество слитков серебра для перечеканки в монету и есть основание полагать, что в дальнейшем может быть предъявлено ещё некоторое количество его и что поэтому необходимо прекратить на время чеканку серебра, да будет постановлено, что со дня опубликования настоящего закона слитки серебра не должны быть принимаемы для чеканки на Монетном дворе, а также не должна быть выдаваема та серебряная монета, которая могла уже быть в чеканке, несмотря ни на какой закон, противоречащий настоящему". Закон этот и теперь сохраняет свою силу. Могло бы поэтому казаться, что законодательство ставило себе целью признать золото эталоном денежного обращения в нашей стране. Пока этот закон сохраняет свою силу, серебряная монета должна употребляться только для мелких платежей, а для этой цели вполне достаточно находящегося в обращении количества этой монеты. Для должника могло бы быть выгодно уплачивать свои большие долги в серебряной монете, если бы он мог перечеканить слитки серебра в монету, но, не имея возможности сделать это благодаря вышеупомянутому закону, он по необходимости вынужден уплачивать свой долг в золотой монете; последнюю он может получить на Монетном дворе за свои слитки золота в любом размере. Пока этот закон остаётся в силе, золото во всяком случае должно всегда оставаться эталоном денежного обращения. Если бы рыночная стоимость унции золота стала равной стоимости 30 унций серебра, золото оставалось бы всё же мерой стоимости, пока названное запрещение сохраняло бы свою силу. Ровно ничего не изменилось бы для владельца 30 унций серебра оттого, что он узнал бы, что мог когда-то уплатить долг в 3 ф. ст. 17 шилл. 10 1/2 пенс., приобретя 15 9/124 унции серебра для перечеканки в монету на Монетном дворе; ведь в данном случае он всё равно не имел бы других путей погасить свой долг, кроме продажи своих 30 унций серебра по рыночной стоимости, т. е. за унцию золота, или за 3 ф. ст. 17 шилл. 10 1/2 пенс. золотой монеты. Публика несла в различные периоды весьма серьёзные потери от того обесценения обращающихся денег, которое было результатом противозаконной порчи монеты. Пропорционально степени порчи монеты возрастают в своей номинальной стоимости цены всех товаров, на которые можно обменивать монету, не исключая золотых и серебряных слитков. Соответственно этому мы находим, что до перечеканки, произведённой в царствование короля Вильяма III, серебряная монета была испорчена в такой степени, что унция серебра, которая должна была содержаться в 62 пенс., продавалась за 77 пенс., а гинея, которая была оценена на Монетном дворе в 20 шилл., принималась во всех сделках за 30 шилл. Зло это было тогда устранено при помощи перечеканки. Такие же последствия были порождены порчей золотой монеты и были исправлены в 1774 г. тем же самым путём. Наша золотая монета продолжала сохранять почти стандартную пробу 1774 г., но наши серебряные деньги снова подверглись порче. Испытание, произведённое на Монетном дворе в 1798 г., показало, что наши шиллинги оказались на 24%, а шестипенсовики на 38% ниже своей монетной стоимости. Мне сообщили, что после нового испытания, произведённого недавно, они оказались ещё значительно более обесценены. Они не содержат, следовательно, столько чистого серебра, сколько содержали в царствование короля Вильяма. Однако до 1798 г. это ухудшение монеты не сопровождалось такими последствиями, какие мы наблюдали в предыдущем случае. Тогда и золотые и серебряные слитки поднялись в цене пропорционально порче серебряной монеты. Все иностранные вексельные курсы стояли против нас на полные 20%, а некоторые из них ещё выше. Но хотя порча серебряной монеты продолжалась много лет, она до 1798 г. никогда не приводила к повышению ни цены золота, ни цены серебра и не производила никакого воздействия на вексельный курс. Это убедительно доказывает, что золотая монета считалась в течение этого времени стандартной мерой стоимости. Какое-либо ухудшение золотой монеты произвело бы тогда такое же действие на цены золотых и серебряных слитков, а также на вексельные курсы, какое производилось прежде порчей серебряной монеты <когда до перечеканки в 1774 г. порче подверглась золотая монета, то золотые и серебряные слитки поднялись в цене выше своей монетной цены и немедленно понизились, как только золотая монета достигла своего теперешнего совершенства. Вексельные курсы в силу тех же причин превратились из неблагоприятных в благоприятные>. Пока средства обращения различных стран состоят из драгоценных металлов или из бумажных денег, разменных во всякое время на металл, пока металлическое обращение не испорчено обрезыванием и стиранием, паритет этих денег может быть установлен при помощи сравнения их веса и пробы. Так, паритет между Голландией и Англией составляет около 11 флоринов, потому что чистое серебро, которое содержится в 11 флоринах, равняется по весу чистому серебру, содержащемуся в 20 полновесных шиллингах. Этот паритет не устанавливается и не может быть установлен абсолютно; так как в Англии эталоном торгового обращения является золото, а в Голландии - серебро, то фунт стерлингов, или 20/21 гинеи, может в различное время стоить больше или меньше, чем 20 полновесных шиллингов, и поэтому стоить больше или меньше, чем их эквивалент в 11 флоринов. Для нашей цели будет достаточно определить паритет или в серебре, или в золоте. Если я имею долг в Голландии, то, зная паритет, я знаю также количество наших денег, которое необходимо для погашения этого долга. Если мой долг составляет 1 100 флоринов и золото не изменилось в стоимости, то на 100 ф. ст. в нашем чистом золоте можно купить столько голландских денег, сколько необходимо для уплаты моего долга. Вывозя поэтому 100 ф. ст. в монете или (что то же самое) уплатив торговцу слитками 100 ф. ст. в монете и возместив ему издержки, связанные с их транспортом, как фрахт и страховка, а также его прибыль, я покупаю у него вексель, который погасит мой долг, он же вывезет слитки, чтобы дать своему корреспонденту возможность уплатить вексель, когда наступит срок платежа. Эти расходы представляют, таким образом, крайние пределы неблагоприятного вексельного курса. Как бы ни был велик мой долг, - пусть он равняется даже наиболее крупной субсидии, которую когда-либо наша страна давала союзной стране, - всё же, пока я могу платить торговцу слитками монетой установленной стоимости, он будет охотно вывозить слитки и продавать мне векселя. Но, если я буду платить ему за его вексель неполновесной монетой или обесцененными бумажными деньгами, он не пожелает продать мне свой вексель по этой норме, так как, раз монета неполновесна, она не содержит того количества чистого золота или серебра, какое должно содержаться в 100 ф. ст. Торговец слитками должен будет поэтому вывезти дополнительное количество таких испорченных монет, чтобы иметь возможность оплатить мой долг в 100 ф. ст. или их эквивалент в 1 100 флоринов. Если я плачу ему бумажными деньгами, то, не имея возможности послать их за границу, он рассчитает, может ли он на них купить столько золота или серебра в слитках, сколько содержится в той монете, заместителем которой являются бумажные деньги. Если это окажется возможным, то бумажные деньги будут для него так же приемлемы, как монеты, если же нет, он будет рассчитывать на дальнейшую премию за свой вексель, равную по своей величине обесценению бумажных денег. Итак, пока обращающиеся деньги состоят из полновесной монеты или из бумажных денег, разменных по предъявлению на полновесную монету, вексельный курс может быть выше или ниже паритета только на сумму расходов по пересылке драгоценных металлов. Если же в обращении находятся обесцененные бумажные деньги, то вексельный курс неизбежно понизится пропорционально степени их обесценения. Таким образом, вексельный курс является достаточно точным критерием для суждения о степени порчи обращающихся денег, происходящей или от обрезывания монеты, или от обесценения бумажных денег. Сэр Джемс Стюарт замечает, что "если бы наша мера длины - фут - была изменена сразу во всей Англии путём увеличения или уменьшения его на соответственную часть его установленной длины, то это изменение можно было бы лучше всего раскрыть путём сравнения нового фута с парижским футом или футом какой-нибудь другой страны, который не подвергся бы никакому изменению. Точно так же если бы фунт стерлингов, который является английской денежной единицей, оказался изменённым и если бы изменение, которому он подвергся, было трудно определить в силу осложнившихся условий, то лучшим путём для определения этого изменения было бы сравнение прежней и настоящей его стоимости с деньгами других наций, которые не испытали никакого изменения; вексельный курс выполняет это с наибольшей точностью" <James Stuart, An Inquiry into the Principles of Political Economy, London 1767, v. I, p. 534. В другом месте автор говорит: "Вексельный курс является поэтому, по моему скромному мнению, одним из лучших мерил для определения стоимости теперешнего фунта стерлингов" (р. 570)>. Критик "Edinburgh Review", говоря о памфлете лорда Кинга <"Мысли об ограничении размена банкнот на звонкую монету", июль 1803>, замечает: "Из того, что наш ввоз всегда состоит частью из слитков, ещё не следует, что торговый баланс всегда будет в нашу пользу. Слитки, - говорит он, - представляют товар, спрос на который, как и на всякий другой товар, изменчив и который может войти, как и всякий другой товар, в перечень ввозных или вывозных товаров. Этот вывоз или ввоз слитков не будет воздействовать на движение вексельного курса иным путём, чем вывоз или ввоз каких-нибудь других товаров". Никто не вывозит и не ввозит слитков, не справившись раньше с уровнем вексельного курса. Только при помощи этого уровня можно определить относительную стоимость слитков в двух странах, между которыми устанавливается вексельный курс, поэтому торговец слитками осведомляется об уровне вексельного курса таким же точно образом, как другие купцы знакомятся с прейскурантом, раньше чем они решают вопрос о вывозе или ввозе других товаров. Если 11 флоринов в Голландии содержат такое же количество чистого серебра, как 20 полновесных шиллингов, то серебряный слиток, равный по весу 20 полновесным шиллингам, никогда не будет вывезен из Лондона в Амстердам, пока вексельный курс находится на уровне паритета или неблагоприятен для Голландии. С вывозом его необходимо сопряжены некоторые расходы и риск, а термин "паритет" как раз и означает, что в Голландии путём покупки векселя и без всяких других издержек можно получить определённое количество серебра в слитках такого же веса и чистоты. Кто будет посылать слитки в Голландию с издержками в 3 или 4%, когда, покупая вексель по паритету, он в действительности получает приказ на доставку своему корреспонденту в Голландию слитка такого же веса, какой он готов был послать? Столь же резонно было бы утверждать, что если цена хлеба в Англии выше, чем на континенте, то хлеб, несмотря на все расходы по его вывозу, будет послан туда, чтобы быть проданным на более дешёвом рынке. Отметив уже выше расстройства, которым подвергается металлическое обращение, я перейду теперь к рассмотрению тех из них, которые, хотя и не вызываются испорченным состоянием золотой или серебряной монеты, тем не менее более серьёзны по своим конечным результатам. Наши средства обращения почти целиком состоят из бумажных денег, и нам следует наблюдать за обесценением последних с такой же бдительностью, как за обесценением металлических, а именно это мы упустили из виду. Парламент, ограничив права Английского банка платить наличными, дал возможность директорам этого учреждения увеличивать или уменьшать по своему произволу количество и сумму банкнот, а так как этим путём были устранены существовавшие прежде препятствия к излишнему выпуску банкнот, то директора приобрели тем самым власть увеличивать или уменьшать стоимость бумажных денег. Я прослежу существующее зло до самого его источника и докажу наличие его при помощи двух безошибочных критериев, которые я упомянул выше, а именно вексельного курса и цены слитков. Я использую при этом отчёт г-на Торнтона о деятельности Английского банка до приостановки размена, чтобы доказать, что Английский банк явно действовал сообразно с тем принципом, признание которого было подчёркнуто самим г-ном Торнтоном, а именно, что стоимость банкнот зависит от их количества и что банк устанавливал колебания в их стоимости при помощи только что указанных мною критериев. Г-н Торнтон говорит: "Когда вексельный курс страны становился иногда столь неблагоприятным, что вызывал существенное превышение рыночной цены золота над его монетной ценой, то директора Английского банка, как это явствует из показаний, данных некоторыми из них перед парламентом, бывали расположены прибегать к уменьшению количества банкнот, как к способу уменьшения или устранения повышения цены золота, заботясь, таким образом, о безопасности своего учреждения. Сверх того они всегда держались обыкновения соблюдать известные границы при выпуске своих банкнот в силу тех же благоразумных оснований". И в другом месте он говорит: "Когда цена, которой наша монета может достигнуть в чужих странах, такова, что вызывает искушение вывозить её из королевства, директора банка, естественно, уменьшали до некоторой степени количество своих банкнот из опасения за безопасность своего учреждения. Уменьшая количество банкнот, они повышают их стоимость, а повышая их стоимость, они повышают также стоимость обращающейся в Англии монеты, которая обменивается на них. Таким образом, стоимость нашей золотой монеты сама приспособляется к стоимости обращающихся банкнот, а последним директора банка придают такую стоимость, какая необходима, чтобы предупредить значительный вывоз; эта стоимость иногда выше, иногда несколько ниже цены, по которой сбывается наша монета за границей". Итак, Английский банк, сознавая необходимость обеспечить безопасность своего учреждения, всегда предупреждал, до издания закона об ограничении оплаты наличными, чрезмерно обильные выпуски бумажных денег. Так, мы находим, что в течение 23-летнего периода до прекращения платежей звонкой монетой в 1797 г. средняя цена золотых слитков составляла 3 ф. ст. 17 шилл. 7 3/4 пенса за унцию, приблизительно на 2 3/4 пенса ниже их монетной цены, а в течение 16 лет, до 1774 г., она никогда не была значительно выше 4 ф. ст. за унцию. Следует вспомнить, что в течение этих 16 лет наша золотая монета пострадала от снашивания и 4 ф. ст. такой стёртой монеты не весили поэтому, вероятно, столько, сколько унция золота, на которую они обменивались. Д-р А. Смит рассматривает всякое постоянное превышение рыночной цены золота над монетной как следствие состояния звонкой монеты. Пока монета сохраняет свой стандартный вес и чистоту, рыночная цена золотых слитков, по его мнению, не может намного превзойти монетную цену. Г-н Торнтон утверждает, что это не может быть единственной причиной. "Мы испытали, - говорит он, - в последнее время колебания в наших вексельных курсах и соответствующие изменения на рынке сравнительно с монетной ценой золота, составлявшие не менее 8 или 10%, в то время как состояние нашей монеты во всех отношениях оставалось неизменным". Г-н Торнтон должен был принять во внимание, что в ту пору, когда он писал, Английскому банку нельзя было предъявлять банкноты для обмена на звонкую монету и что именно это являлось той причиной обесценения денег, которой д-р Смит не мог предвидеть. Если бы г-н Торнтон доказал, что в цене золота произошло колебание в 10%, в то время когда банк оплачивал свои банкноты звонкой монетой, и что монета была полновесной, то лишь в этом случае он доказал бы, что д-р Смит трактовал этот важный вопрос недостаточно и неудовлетворительно. <До тех пор, пока монеты из обоих металлов являются законным платёжным средством и нет никаких запрещений чеканки обоих металлов, превышение рыночной цены над монетной ценой золотых или серебряных слитков может быть вызвано изменением в относительной стоимости этих металлов, но вызванное этой причиной превышение рыночной цены над монетной будет сейчас же замечено, так как оно коснётся цены только одного из этих металлов. Таким образом, золото было бы равно или ниже монетной цены, когда серебро было бы выше, или серебро было бы равно или ниже своей монетной цены, когда золото было бы выше. В самом конце 1795 г., когда Английский банк имел в обращении значительно больше банкнот, чем в каком-либо предыдущем или последующем году, т. е. когда уже начались его затруднения и он, повидимому, отказался от всякого благоразумия в ведении своих дел и сделал своим единственным директором г-на Питта, цена золотых слитков на короткое время возросла до 4 ф. ст. 3 шилл. или 4 ф. ст. 4 шилл. за унцию. Однако директора всё же имели некоторые опасения насчёт последствий. В докладной записке, посланной г-ну Питту, датированной октябрём 1795 г., они констатируют, что "спрос на золото, повидимому, не очень скоро прекратится" и что "это возбудило сильную тревогу на собрании директоров", и затем замечают: "То обстоятельство, что нынешняя цена золота составляет от 4 ф. ст. 3 шилл. до 4 ф. ст. 4 шилл. <трудно решить, на чем основано это утверждение, так как согласно отчету, представленному недавно в парламент, они покупали, повидимому, в течение 1795 г. золотые слитки не дороже 3 ф. ст. 17 шилл. 6 пенс.> за унцию и наши гинеи покупаются за 3 ф. ст. 17 шилл. 10 1/2 пенс., ясно показывает, на чём основаны наши опасения; необходимо только указать на эти факты канцлеру казначейства". Следует отметить, что в бюллетене Уайттенголла цена золота ни разу не отмечалась в течение всего года выше его монетной цены. В декабре оно котируется в нём по 3 ф. ст. 17 шилл. 4 пенса.]>. Но так как в настоящее время все препятствия против излишних выпусков Английского банка устранены парламентским актом, запрещающим оплату банкнот наличностью, то директора банка уже не связаны больше "опасениями за безопасность своего учреждения" и могут не ограничивать количество своих банкнот суммой, при которой они сохраняли бы ту же стоимость, что и стоимость монеты, ими представляемой. Соответственно этому мы находим, что золотые слитки поднялись в цене с 3 ф. ст. 17 шилл. 7 3/4 пенс., средней цены их до 1797 г., до 4 ф. ст. 10 шилл., а в последнее время даже до 4 ф. ст. 13 шилл. за унцию. Итак, мы можем с полным основанием сделать вывод, что разница в относительной стоимости, или, другими словами, падение действительной стоимости банкнот, было вызвано слишком обильным количеством их, которое было выпущено банком в обращение. Та самая причина, которая вызвала разницу в 15-20% в стоимости банкнот в сравнении с золотыми слитками, может привести к возрастанию этой разницы до 50%. Для обесценения, которое может произойти от постоянного увеличения количества бумажных денег, нет никаких пределов. Стимул, который излишние средства обращения дают вывозу монеты, приобрёл новую силу, но не может, как прежде, устранить себя сам. Мы имеем в обращении только такие бумажные деньги, которые необходимо ограничиваются пределами нашей страны. Всякое возрастание их количества снижает их стоимость ниже стоимости золотых и серебряных слитков и ниже стоимости денежного обращения других стран. Результат получается такой же точно, к какому привело бы обрезывание нашей монеты. Если бы от каждой гинеи была отделена 1/5, то рыночная цена золотых слитков поднялась бы на 1/5 выше монетной цены. Вес 44 1/2 гинеи (число гиней, которое весит один фунт и потому называется монетной ценой) уже не составлял бы больше один фунт; следовательно, только количество их, большее на 1/5, или около 56 ф. ст., было бы ценою фунта золота, а разность между рыночной и монетной ценой, между 56 ф. ст. и 46 ф. ст. 14 шилл. 6 пенс., была бы мерой обесценения. Если бы такая неполновесная монета продолжала называться гинеей и если бы стоимость золотых слитков и всех других товаров измерялась в неполновесной монете, то гинея, только что выпущенная из Монетного двора, считалась бы стоящей 1 ф. ст. 5 шилл., и такая сумма была бы дана за нее торговцем-спекулянтом, но при этом произошло бы не увеличение стоимости новой гинеи, а падение стоимости неполновесных гиней. Это стало бы сейчас же очевидно, если бы было издано распоряжение, позволяющее обращение неполновесных гиней только по установленному весу и по монетной цене в 3 ф. ст. 17 шилл. 10 1/2 пенс. Это означало бы, что новые и тяжёлые гинеи стали бы стандартной мерой стоимости вместо обрезанных и неполновесных гиней. Последние обращались бы тогда по их настоящей стоимости и назывались бы 17- или 18-шиллинговыми монетами. Точно так же если бы можно было издать теперь постановление, преследующее ту же цель, то банкноты не перестали бы обращаться, но стоили бы не больше, чем стоимость золотого слитка, который можно было бы на них купить. Тогда нельзя было бы сказать, что стоимость гинеи составляет 1 ф. ст. 5 шилл., но банкнота в 1 ф. ст. обращалась бы только по стоимости в 16 или 17 шилл. В настоящее время золотая монета есть только товар, а банкноты - стандартная мера стоимости, но в случае издания такого постановления золотые монеты были бы этой мерой, а банкноты сделались бы рыночным товаром. "Именно постоянство наших общих вексельных курсов, - говорит г-н Торнтон, - или, другими словами, совпадение монетной цены со слитковой ценой золота, является, повидимому, настоящим доказательством, что обращающиеся банкноты не испытали обесценения". Когда стимул к вывозу золота налицо, то, пока Английский банк не платит наличными и золото поэтому не может быть получено по его монетной цене, незначительное количество его, которое может быть получено, будет собираться для вывоза и банкноты будут продаваться за золото только с вычетом, пропорциональным их излишку. Говоря, однако, что золото продаётся по высокой цене, мы ошибаемся: не золото, а бумажные деньги изменили свою стоимость. Если мы сравним унцию золота, или 3 ф. ст. 17 шилл. 10 1/2 пенс., с товарами, то окажется, что она находится к ним в таком же отношении, как и прежде, а если этого нет, то это объясняется возросшим обложением или какой-либо другой из тех причин, которые постоянно влияют на их стоимость. Но если мы сопоставим сумму в 3 ф. ст. 17 шилл. 10 1/2 пенс. в банкнотах, являющуюся заместителем унции золота, с товарами, то мы обнаружим обесценение банкнот. На любом рынке мира я вынужден расстаться с 4 ф. ст. 10 шилл. в банкнотах, чтобы купить то же самое количество товаров, которое я могу получить за золото, содержащееся в 3 ф. ст. 17 шилл. 10 1/2 пенс. монеты. Часто утверждали, что гинея в Гамбурге стоит 26 или 28 шилл., но мы очень сильно обманулись бы, если бы сделали на этом основании вывод, что гинея может быть продана в Гамбурге за такое же количество серебра, какое содержится в 26 или 28 шилл. До изменения в относительной стоимости золота и серебра гинея не могла бы быть продана в Гамбурге за столько серебра, сколько содержится в 21 полновесном шиллинге; по нынешней же рыночной цене гинея продаётся за такую сумму серебряной монеты, которая, будучи ввезена и передана в наш Монетный двор для чеканки, дала бы в нашей стандартной серебряной монете 21 шилл. 5 пенс. <Относительная стоимость золота и серебра на континенте почти такая же, как в Лондоне.> И всё же несомненно, что то же самое количество серебра покупает в Гамбурге вексель, по которому в Лондоне уплачивается в банкнотах 26 или 28 шилл. Можно ли привести более удовлетворительное доказательство обесценения наших денег? Говорят, что если бы законопроект, ограничивающий размен, не вошёл в силу, то все гинеи уплыли бы из страны <при этом имеют, очевидно, в виду, что из страны ушли бы все гинеи, находящиеся в Английском банке: ведь такого искушения, как 15% , вполне достаточно, чтобы вывезти из страны все те гинеи, которые могут быть извлечены из обращения>. Это, без сомнения, верно, но если бы Английский банк стал уменьшать количество своих банкнот до тех пор, пока стоимость их не возросла на 15%, запрещение размена могло бы быть отменено без всякого опасения, так как не было бы никакого искушения вывозить звонкую монету. Но как бы долго ни откладывалась такая мера, как бы велико ни было обесценение банкнот, Английский банк сможет восстановить платежи наличными лишь при условии, что он сведёт количество своих банкнот, находящихся в обращении, до этих пределов. Все писатели по вопросам политической экономии признают, что закон представляет бесполезный барьер против вывоза гиней; его так легко обойти, что сомнительно, чтобы он удержал в Англии хотя бы на одну гинею больше, чем их осталось бы там без этого закона. Г-н Локк, сэр Джемс Стюарт, д-р А. Смит, лорд Ливерпуль и г-н Торнтон - все сходятся на этот счёт. Последний замечает, что существующее "британское законодательство бесспорно способствует ослаблению и ограничению вывоза гиней, хотя и не может действительно помешать ему: вывоз поощряется неблагоприятным торговым балансом, и изданные законы могут разве что слегка сократить его, когда прибыль от вывоза становится очень большой". К тому же, после того как каждая гинея, которая при настоящем положении вещей может быть получена спекулянтом, будет переплавлена и вывезена, последний будет колебаться открыто покупать гинеи за банкноты с премией, потому что, хотя такая спекуляция принесёт ему значительную прибыль, он навлечёт на себя таким путём подозрение. За ним смогут следить и помешать ему осуществить свою цель. Так как наказание, установленное законом, сурово, а искушение для осведомителей велико, то для таких операций необходима тайна. Если можно получать гинеи путём одной лишь отсылки банкнот в Английский банк, то закон легко обойти, но если необходимо собирать их открыто, извлекая их при этом из широких кругов обращения, состоящего почти целиком из бумажных денег, то выгода, получаемая при этом, должна быть очень значительна, чтобы кто-нибудь решился пойти на риск быть пойманным с поличным. Если мы примем во внимание, что в течение настоящего царствования было отчеканено гиней на сумму около 60 млн. ф. ст., то мы можем составить себе некоторое представление о размерах, которые должен был принять вывоз золота. Но отмените закон против вывоза гинеи, разрешите открыто вывозить их из страны, и что может помешать продаже унции стандартного золота в гинеях за такую же хорошую цену в банкнотах, за какую продаётся унция португальской золотой монеты или унция стандартного золота в слитке, раз известно, что гинея равняется им по своей пробе? И если унция стандартного золота в гинеях будет продаваться на рынке по 4 ф. ст. 10 шилл., т. е. по теперешней цене стандартного золота в слитках или по его недавней цене 4 ф. ст. 13 шилл., то какой торговец будет продавать свои товары по одной и той же цене безразлично за золото или банкноты? Если бы цена сюртука составляла 3 ф. ст. 17 шилл. 1/2 пенс., или одну унцию золота, и если бы в то же время унция золота продавалась за 4 ф. ст. 13 шилл. в банкнотах, то можно ли себе представить, чтобы портному было безразлично, заплатят ли ему золотом или банкнотами? Только потому, что за гинею можно купить не больше, чем за билет в 1 ф. ст. и 1 шилл., многие колеблются признать, что банкноты подверглись обесценению. То же мнение защищает и "Edinburgh Review", но если моя аргументация правильна, то я доказал, что подобные возражения не имеют основания. Г-н Торнтон сказал нам, что неблагоприятный торговый баланс объясняет неблагоприятный вексельный курс, но мы уже видели, что влияние неблагоприятного торгового баланса, - если это выражение точно, - на вексельный курс ограничено и не превышает, вероятно, 4 или 5%. Это не может объяснить обесценение в 15 или 20%. Далее г-н Торнтон говорит, и я вполне согласен с ним, что "можно установить как общую истину, что вывоз и ввоз какого-либо государства, естественно, стремятся прийти в какой-то мере в соответствие друг с другом, в силу чего его торговый баланс не может быть в течение очень долгого времени либо очень благоприятным, либо очень неблагоприятным". Так вот, низкий вексельный курс далеко не является временным и существовал ещё до того, как г-н Торнтон писал это в 1802 г.; с тех пор этот курс падал всё ниже, и в данное время он на 15-20% против нас. Следовательно, в согласии с собственными принципами г-н Торнтон должен приписать это падение какой-нибудь более постоянной причине, чем неблагоприятный торговый баланс; я не сомневаюсь в том, что, каково бы ни было его прежнее мнение, он теперь согласится, что это падение вексельного курса может быть объяснено только обесценением средств обращения. Нельзя дальше, думается мне, оспаривать, что банкноты подвергались обесценению. Пока цена золотых слитков составляет 4 ф. ст. 10 шилл. за унцию или, другими словами, пока любой человек соглашается отдать за 1 унцию золота то, что считается обязательством уплатить почти за 1 1/6 унции золота, нельзя утверждать, что 4 ф. ст. 10 шилл. в банкнотах и 4 ф. ст. 10 шилл. в золоте представляют одну и ту же стоимость. Из унции золота чеканится 3 ф. ст. 17 шилл. 10 1/2 пенс.; обладая этой суммой, я, следовательно, имею унцию золота и не буду давать за неё 4 ф. ст. 10 шилл. в золотой монете или в таких банкнотах, которые я могу немедленно обменять на 4 ф. ст. 10 шилл. Было бы вопреки здравому смыслу полагать, что рыночная стоимость унции золота может выразиться в этой сумме, если, конечно, цена не определяется в обесцененном мериле. Если бы цена золота измерялась в серебре, то цена эта могла бы действительно возрасти до 4, 5 или 10 ф. ст. за унцию, и этот факт был бы доказательством не обесценения бумажных денег, а изменения в относительной стоимости золота и серебра. Однако я, думается мне, доказал, что серебро не является стандартной мерой стоимости и потому не может быть мерилом, которым измеряется стоимость золота. Но если бы серебро и было таковым, то, поскольку унция золота стоит на рынке 15 1/2 унций серебра, а 15 1/2 унций серебра равняются по весу ровно 80 шилл. и перечеканиваются именно в 80 шилл., унция золота не может быть продана больше чем за 4 ф. ст. Таким образом, те, кто утверждает, что серебро есть мера стоимости, окажутся не в состоянии доказать, что увеличение спроса на золото в любом размере, каковы бы ни были его причины, может поднять его цену выше 4 ф. ст. за унцию. Всё, что превышает эту цену, должно быть названо в согласии с их собственными принципами обесценением стоимости банкнот, а из этого следует, что если бы банкноты были представителями серебряной монеты, то унция золота, продающаяся теперь за 4 ф. ст. 10 шилл., продавалась бы за количество банкнот, представляющих 17 1/2 унций серебра, в то время как на слитковом рынке она могла бы быть обменена только за 15 1/2 унций. Иначе говоря, 15 1/2 унций серебра в слитках были бы равны по своей стоимости обязательству Английского банка уплатить предъявителю 17 1/2 унций. Рыночная цена серебра, оцениваемого в банкнотах, составляет в настоящее время 5 шилл. 9 1/2 пенс. за унцию, тогда как монетная цена его равняется только 5 шилл. 2 пенс., из чего следует, что стандартное серебро в 100 ф. ст. стоит больше, чем 112 ф. ст. в банкнотах. Но банкноты, скажут нам, пожалуй, являются представителями нашей неполноценной серебряной монеты, а не нашего стандартного серебра. Это неверно, потому что закон, который я уже цитировал, объявляет серебро законным платёжным средством только для сумм, не превышающих 25 ф. ст., исключая платежи по весу. Если бы банк настаивал на уплате держателю банкноты в 1 тыс. ф. ст. серебряной монетой, он был бы обязан дать ему или стандартное серебро полного веса, или же неполновесное серебро равной стоимости, за исключением лишь 25 ф. ст., которые банк мог бы выплатить неполновесной монетой. Но 1 тыс. ф. ст., составленная, таким образом, из 975 ф. ст. полновесных денег и 25 ф. ст. неполновесных, стоит больше, чем 1 112 ф. ст. по теперешней рыночной стоимости серебряных слитков. Говорят, что количество банкнот возросло не в большей пропорции, чем этого требовало увеличение нашей торговли, а потому не может быть чрезмерным. Это утверждение было бы трудно доказать, но если бы оно было верно, то, опираясь на него, можно было бы развить только ошибочную аргументацию. Во-первых, повседневный прогресс, который мы совершаем в искусстве экономного потребления средств обращения благодаря усовершенствованию банковских методов, сделал бы чрезмерным то самое количество банкнот, которое было необходимо для того же уровня торговли в прежнее время. Во-вторых, существует постоянное соперничество между Английским банком и провинциальными банками, стремящимися внедрить в оборот свои банкноты в ущерб банкнотам своих соперников, в каждом округе, где учреждены провинциальные банки, а так как число их более чем удвоилось в точение очень немногих лет, то не вероятно ли, что их деятельность увенчалась успехом и им удалось вытеснить своими банкнотами множество банкнот Английского банка? Если бы это произошло, то в настоящее время оказалось бы чрезмерным то же самое количество банкнот Английского банка, которое в прежнее время при менее развитой торговле было едва достаточно, чтобы держать денежное обращение нашей страны на одном уровне с денежным обращением других стран. Нельзя поэтому сделать правильное заключение, исходя из нынешнего количества находящихся в обращении банкнот; я не сомневаюсь, однако, в том, что если бы факты были исследованы, то мы нашли бы, что увеличение количества банкнот и высокая цена золота обычно сопровождали друг друга. Обычно сомневаются в том, что лишние 2 или 3 млн. банкнот (прибавленные, как предполагают, Английским банком к обращению сверх той суммы, какую оно может легко вынести) могли иметь те последствия, какие им приписывают. Но следует вспомнить, что Английский банк регулирует количество средств обращения всех провинциальных банков, а если Английский банк увеличивает свою эмиссию на 3 млн., то это даёт, вероятно, возможность провинциальным банкам увеличить общее обращение Англии больше чем на 3 млн. Деньги отдельной страны распределяются между различными её областями на основании тех же правил, на основании которых деньги всего мира распределяются между различными нациями, из которых он состоит. Каждый округ будет удерживать в своём обращении часть денег страны, пропорциональную требованиям его торговли, а следовательно, и доле его платежей, в общей торговле всей страны; никакое увеличение количества обращающихся денег не может также иметь места в каком-либо округе, не распространяя своё действие повсюду или не вызывая пропорционального возрастания их количества во всяком другом округе. Именно это обстоятельство поддерживает всегда стоимость провинциальной банкноты на том же уровне, что и стоимость банкнот Английского банка. Если бы в Лондоне, где обращаются только банкноты Английского банка, к количеству их, находящемуся в обращении, был прибавлен 1 млн., то или средства обращения стали бы здесь дешевле, чем в другом месте, или товары стали бы дороже; поэтому из провинции стали бы посылать товары на лондонский рынок, чтобы продать их там по высоким ценам, или, что более вероятно, провинциальные банки использовали бы относительный недостаток средств обращения в провинции и увеличили бы число своих банкнот в той же самой пропорции, в которой это сделал Английский банк, а это означало бы общее, а не частичное воздействие на цены. Таким же манером, если бы количество банкнот Английского банка уменьшилось на 1 млн., увеличилась бы сравнительная стоимость средств обращения в Лондоне, а цены товаров уменьшились бы. Банкнота Английского банка стоила бы тогда больше, чем провинциальная банкнота, потому что на неё был бы предъявлен спрос с целью купить товары на дешёвом рынке; так как провинциальные банки обязаны выдавать банкноты Английского банка по требованию в обмен на свои собственные, то к ним предъявляли бы спрос на банкноты Английского банка, и это длилось бы до тех пор, пока количество провинциальных банкнот не было бы сведено к той же самой доле, какую оно составляло прежде по отношению к лондонским банкнотам, что вызвало бы в результате соответствующее падение цен всех товаров, на которые банкноты обменивались. Провинциальные банки могут увеличить количество своих банкнот лишь в том случае, когда необходимо восполнить относительный недостаток средств обращения в провинции, вызванный возросшей эмиссией Английского банка <они могли бы в некоторых случаях замещать банкноты Английского банка, но это соображение не имеет отношения к вопросу, который мы теперь исследуем>. Если бы они попытались сделать это, то же самое препятствие, которое заставляло Английский банк извлечь часть своих банкнот из обращения, когда он оплачивал их наличными по требованию, вынудило бы провинциальные банки идти по тому же пути. Благодаря возросшему количеству их банкноты потеряли бы в стоимости по сравнению с банкнотами Английского банка, точно так же как банкноты Английского банка потеряли бы в стоимости в сравнении с гинеями, которые они представляют. Они, следовательно, обменивались бы на банкноты Английского банка до тех пор, пока не сравнялись бы с ними в стоимости. Английский банк является великим регулятором провинциального бумажно-денежного обращения. Когда он увеличивает или уменьшает количество своих банкнот, провинциальные банки следуют за ним, но ни при каких условиях не могут они увеличить общее обращение, если только Английский банк не увеличит предварительно количество своих банкнот. Утверждают, что не цена золотых или серебряных слитков, а норма процента является критерием для суждения об изобилии бумажных денег, так как если бы последние имелись в слишком обильном количестве, то процент упал бы, а если бы в недостаточном, то повысился бы. По моему мнению, можно доказать с полной очевидностью, что норма процента регулируется не изобилием или недостатком денег, а изобилием или недостатком той части капитала, которая не состоит из денег. "...Деньги, - замечает д-р А. Смит, - это великое колесо обращения, это великое орудие обмена и торговли, хотя и составляют, наравне с другими орудиями производства, часть, и притом весьма ценную часть, капитала, не входят какою бы то ни было частью в доход общества, которому они принадлежат. И хотя монеты, из которых они состоят, в течение своего годового обращения доставляют каждому человеку следуемый ему доход, сами они в этот доход не входят" <Адам Смит, Исследование о природе и причинах богатства народов, т. I, стр. 243. - Прим. ред.>. "При определении количества производительного труда, которое может занимать оборотный капитал общества, мы всегда должны принимать во внимание только те его части, которые состоят из предметов продовольствия, материалов и готовых изделий: остальную часть, состоящую из денег и служащую только для обращения первых трёх частей, всегда следует вычитать из него. Для того чтобы привести в движение промышленную деятельность, необходимы три вещи: материалы для переработки, инструменты и орудия производства, при помощи которых работают, и заработная плата, или вознаграждение, ради которой выполняется работа. Деньги не представляют собою ни материала для работы, ни орудий, при помощи которых работают; и хотя заработная плата рабочего выплачивается ему обычно деньгами, его реальный доход, как и доход остальных людей, состоит не в деньгах, а в стоимости этих денег, не в металлических монетах, а в том, что можно получить за них" <Адам Смит, Исследование о природе и причинах богатства народов, т. I, стр. 247. - Прим. ред.>. И в других частях своего сочинения Смит доказывает, что открытие копей в Америке, которое в такой большой степени увеличило количество денег, не уменьшило процента за пользование ими, ибо норма процента регулируется прибылью, получаемой при использовании капитала, а не числом или качеством металлических монет, которые употребляются при обращении продуктов этого капитала. Юм придерживался того же мнения. Стоимость средств обращения каждой страны находится в известном отношении к стоимости приводимых ими в обращение товаров. В одних странах это отношение гораздо больше, чем в других, а в некоторых случаях оно изменяется в той же самой стране. Оно зависит от быстроты обращения, от степени доверия и объёма кредита в деловом мире и больше всего от разумной работы банков. В Англии было принято так много способов экономии в пользовании средствами обращения, что стоимость их в сравнении со стоимостью товаров, которые они приводят в обращение, сведена, вероятно (в период доверия <я желал бы, чтобы в дальнейшем для читателя было ясно, что я предполагаю одну и ту же степень доверия и кредита существующей всегда>), к самой небольшой доле, какая только возможна практически. Размеры этой доли определяют различно. Никакое увеличение или уменьшение количества средств обращения, состоят ли они из золотых, серебряных или бумажных денег, не может увеличить или уменьшить их стоимость выше или ниже этой доли. Если рудники перестают доставлять количество, необходимое для годичного потребления драгоценных металлов, то стоимость денег повышается и меньшее их количество будет употребляться в качестве средств обращения. Уменьшение их количества будет пропорционально увеличению их стоимости. Таким же образом, если бы были открыты новые рудники, стоимость драгоценных металлов была бы снижена и большее количество их употреблялось бы для обращения, так что в каждом из этих случаев отношение стоимости денег к стоимости товаров, которые они приводят в обращение, оставалось бы неизменным. Если бы в то время, когда Английский банк оплачивал свои банкноты наличными по требованию, руководители его захотели увеличить количество банкнот, они оказали бы незначительное постоянное воздействие на стоимость средств обращения, потому что почти такое же количество монеты было бы извлечено из обращения и вывезено. Если бы Английский банк был освобождён от оплаты своих банкнот звонкой монетой и вся монета была бы вывезена, то всякий излишек его банкнот обесценил бы стоимость средств обращения пропорционально этому излишку. Если бы 20 млн. ф. ст. составляли сумму средств обращения в Англии до приостановки размена и к ним было бы прибавлено 4 млн., то 24 млн. имели бы не большую стоимость, чем имели прежние 20, при условии, что не изменилось бы количество товаров и что не было соответствующего вывоза монеты. Если бы Английскому банку удалось увеличить последовательно добавочную сумму до 50 или 100 млн. ф. ст., то возросшее количество денег было бы поглощено обращением Англии, но во всяком случае обесценилось бы до стоимости 20 млн. Я не оспариваю, что при выпуске Английским банком на рынок большой добавочной суммы банкнот и отдачи их в ссуду этот выпуск на известное время повлиял бы на норму процента. Те же самые результаты последовали бы в случае открытия клада из золотых и серебряных монет. Если бы количество их было велико, то собственник клада не был бы в состоянии ссудить металлические деньги, а Английский банк - банкноты по 4% и, вероятно, даже и выше 3%, но раз это было бы сделано, то ни банкноты, ни металлические деньги не остались бы без употребления в руках заёмщиков. Они были бы отправлены на все рынки и всюду приводили бы к повышению цен товаров до тех пор, пока они не были бы поглощены обращением в целом. Только в течение промежутка между моментом эмиссии и моментом её воздействия на пены могли бы мы заметить изобилие денег; процент держался бы в течение этого времени ниже своего естественного уровня, но, как только добавочная сумма банкнот или денег была бы поглощена всеобщим обращением, норма процента снова повысилась бы и спрос на новые займы снова стал бы таким же настойчивым, как и до дополнительных эмиссий. Обращение никогда не может быть переполненным. Если бы оно состояло из золота и серебра, то всякое увеличение их количества распространилось бы по всему миру. Если бы оно состояло из бумажных денег, то увеличение их количества распространилось бы только в стране, в которой они выпущены в обращение. Их влияние на цены было бы только местным и номинальным, так как иностранные покупатели получали бы компенсацию при помощи вексельных курсов. Предполагать, что какое бы то ни было увеличение эмиссий Английского банка может иметь последствием постоянное понижение нормы процента и удовлетворение спроса всех заёмщиков, так что для новых займов уже не будет приложения, или что производительный золотой или серебряный рудник может иметь такое же действие, значит приписывать средству обращения такую силу, которой оно никогда не может иметь. Если бы это было возможно, то банки действительно стали бы весьма могучими механизмами. Создавая бумажные деньги и ссужая их по 3 или 2%, т. е. ниже существующей рыночной нормы процента, банк уменьшил бы промышленную прибыль в том же отношении. И если бы Английский банк был достаточно патриотичен, чтобы ссужать свои банкноты из процента не более высокого, чем необходимо для оплаты расходов по содержанию банка, то прибыль понизилась бы ещё более. Ни один народ не мог бы конкурировать с нами иначе, как при помощи подобных же средств, и мы завладели бы торговлей всего мира. К каким только абсурдам не привела бы нас такая теория. Прибыль может быть понижена только в результате конкуренции капиталов, не состоящих из средств обращения. Так как увеличение количества банкнот не прибавляет ничего к этому роду капитала, так как оно не увеличивает ни количество пригодных к вывозу товаров, ни количество наших машин или сырых материалов, то оно не может ни прибавить что-либо к нашей прибыли, ни понизить процент <я признал уже, что Английский банк, поскольку он даёт нам возможность превратить нашу монету в "сырые материалы, продовольствие и т. д.", оказывает услугу нации, так как увеличивает этим путём количество производительного капитала, но я говорю здесь об излишке его банкнот, о том количестве, которое прибавляется к нашему обращению, не вызывая соответствующего вывоза монеты, и которое поэтому снижает стоимость банкнот ниже стоимости металла, содержащегося в монете, которую представляют банкноты>. Когда кто-либо занимает деньги с целью начать какое-нибудь производство, он занимает их как средство, при помощи которого он может приобрести "сырые материалы, продовольствие и т. д.", необходимые для ведения этого производства. И раз он может получить необходимое количество материалов и т. п., для него не имеет большого значения, будет ли он вынужден занять 1 тыс. или 10 тыс. монет. Если он займёт 10 тыс., то номинальная стоимость продукта его производства будет в 10 раз больше того, что стоил бы этот продукт, если бы для производства его достаточно было 1 тыс. Капитал, действительно употребляемый в стране, необходимо ограничивается потребным количеством "сырых материалов, продовольствия и т. д." и может быть одинаково производительным, даже если бы торговля велась всецело путём непосредственного обмена, хотя в данном случае это было бы достигнуто не с одинаковой лёгкостью. Последовательные владельцы средств обращения имеют право распоряжения этим капиталом, но как бы ни было обильно количество денег или банкнот, если бы даже оно могло повысить номинальные цены товаров, если бы оно могло распределить производительный капитал в совершенно иных пропорциях, если бы Английский банк, увеличивая количество своих банкнот, мог дать А возможность вести часть дела, находившегося прежде в распоряжении В и С, - всё это ничуть не увеличило бы реальный доход и богатство страны. В и С могут потерпеть убытки, а А и банк могут получить барыш, но они выиграют ровно столько, сколько потеряют В и С. В данном случае произойдёт насильственное и несправедливое перемещение собственности, но общество от этого ничего не выиграет. Вот почему я держусь мнения, что высокая цена фондов не вызывается обесценением нашего денежного обращения. Цена их должна регулироваться общей нормой процента, уплачиваемого за деньги. Если до обесценения я платил за землю 30-кратный доход с неё и 25-кратный за аннуитет в государственных бумагах, то после обесценения я могу дать более значительную сумму на покупку земли, не платя, однако, за неё дохода за большее число лет: ведь продукт земли будет тоже продаваться в результате обесценения за более значительную номинальную стоимость; но так как аннуитет в государственных бумагах будет выплачиваться обесцененными деньгами, то у меня нет никакого основания платить за него после обесценения более значительную номинальную стоимость, чем до обесценения. Если бы гинеи потеряли половину своей настоящей стоимости благодаря обрезыванию, то стоимость каждого товара, так же как и земли, повысилась бы вдвое в сравнении с их настоящей номинальной стоимостью; но так как процент с государственных бумаг уплачивался бы в неполновесных гинеях, то они не испытали бы на этом основании никакого повышения. Средство, которое я предлагаю против всех зол нашего денежного обращения, состоит в том, что Английский банк должен постепенно уменьшать количество своих банкнот в обращении до тех пор, пока ему не удастся уравнять стоимость остатка (банкнот) со стоимостью монеты, которую они представляют, или другими словами, пока цены золотых и серебряных слитков не сравняются с их монетной ценой. Я хорошо знаю, что полное банкротство бумажно-денежных кредитных обязательств сопровождалось бы самыми гибельными последствиями для промышленности и торговли и что даже их внезапное ограничение причинило бы столько разорения и нищеты, что было бы в высшей степени нецелесообразно обращаться к такому средству восстановить истинную и справедливую стоимость нашего денежного обращения. Если бы Английский банк имел в своём распоряжении больше гиней, чем он имеет банкнот в обращении, то он не мог бы, не нанося большого ущерба стране, оплачивать свои банкноты звонкой монетой, в то время как цена золотых слитков продолжала бы значительно превышать их монетную цену и иностранные вексельные курсы были бы для нас неблагоприятны. Излишек нашего денежного обращения был бы обменен в банке на гинеи, вывезен и таким образом внезапно извлечён из обращения. Следовательно, прежде чем банк сможет без риска платить наличными за банкноты, следует постепенно извлечь излишек их из обращения. Если это будет сделано постепенно, то будет ощущаться лишь незначительное неудобство, так что если бы этот принцип был открыто признан, то в дальнейшем надо было бы решить, следует ли его осуществить в течение одного года или пяти лет. Я вполне убеждён, что мы сможем вернуть наше денежное обращение к его надлежащему состоянию только с помощью этого предварительного шага. Иначе мы рискуем окончательным крахом нашего бумажно-денежного кредита. Если бы директора Английского банка удерживали количество своих банкнот в разумных пределах, если бы они действовали согласно тому принципу, который, по собственному их признанию, регулировал их эмиссии тогда, когда они обязаны были оплачивать банкноты звонкой монетой, а именно ограничивали бы число своих банкнот такой суммой, которая не допускала бы превышения рыночной цены золота над монетной, мы не подвергались бы теперь всем бедствиям обесцененного и постоянно изменяющегося денежного обращения. Хотя Английский банк извлекает значительные выгоды из настоящей системы, хотя цена его основного капитала почти удвоилась с 1797 г. и дивиденд его пропорционально возрос, я готов допустить вместе с г-ном Торнтоном, что в качестве владельцев денег директора его терпят, как и другие люди, потери от обесценения денежного обращения и что эти потери гораздо более серьёзны для них, чем все выгоды, которые они могут получить от обесценения в качестве собственников банковского капитала. Я поэтому оправдываю их от обвинения, что они действуют под влиянием корыстных мотивов, но их ошибки - если это ошибки - не менее гибельны для общества по своим последствиям. Чрезвычайные полномочия, которыми они облечены, дают им возможность регулировать по своему произволу цену, по которой те, кто обладает особым родом собственности, называемой деньгами, могут располагать ими. Директора банка переложили на этих держателей денег все тягости максимума. Сегодня им угодно, чтобы 4 ф. ст. 10 шилл. шли за 3 ф. ст. 17 шилл. 10 1/2 пенс., завтра они могут низвести к той же самой стоимости 4 ф. ст. 15 шилл., а в следующем году 10 ф. ст. будут, может быть, стоить не больше. Насколько, однако, непрочною является собственность, состоящая из денег или аннуитетов, выплачиваемых в деньгах! Какую гарантию имеет государственный кредитор, что проценты по государственному долгу, которые выплачиваются теперь в деньгах, обесцененных на 15%, не будут выплачиваться в дальнейшем в деньгах, потерявших 50%? Для частных кредиторов ущерб не менее серьёзен. Долг, заключённый в 1797 г., может быть оплачен теперь суммой, составляющей 85% его величины, и кто может сказать, что обесценение не будет продолжаться дальше? Следующие замечания д-ра Смита на эту тему столь важны, что я не могу не рекомендовать их серьёзному вниманию всех мыслящих людей. "Изменение объявленной стоимости монеты в сторону повышения служило наиболее употребительным средством, при помощи которого фактическому государственному банкротству придавался вид уплаты долгов. Если, например, монета в 6 пенсов объявлялась актом парламента или королевским указом стоящей столько, сколько шиллинг, а двадцать шестипенсовых монет - сколько фунт стерлингов, то лицо, которое заняло, при прежнем обозначении монеты, 20 шилл., или около 4 унций серебра, заплатит при новом обозначении свой долг двадцатью шестипенсовыми монетами, или немного менее, чем 2 унциями. Национальный долг в размере около 128 млн., почти равный капиталу консолидированного и неконсолидированного долга Великобритании, можно было бы таким путём погасить уплатой 64 млн. нашими теперешними деньгами. Но на самом деле это была бы фиктивная уплата, и кредиторы государства были бы фактически ограблены в размере 10 шилл. с каждого фунта, должного им. При этом бедствие распространилось бы дальше круга кредиторов государства - такую же потерю понесли бы и кредиторы каждого частного лица - и последнее не сопровождалось бы никакой выгодой, но в большинстве случаев было бы связано с добавочными значительными потерями для кредиторов государства. Конечно, если бы эти последние в общем были должны значительные суммы другим людям, то они могли бы в некоторой мере компенсировать свои потери, платя своим кредиторам той же монетой, какою заплатило им государство; но в большинстве стран большая часть кредиторов государства принадлежит к числу богатых людей, которые выступают больше в роли кредиторов, чем должников, по отношению к остальным своим согражданам. Таким образом, фиктивная уплата такого рода, вместо того чтобы уменьшить, в большинстве случаев только увеличивает потери кредиторов государства и, не принося никакой выгоды обществу, распространяет бедствие на значительное число других невинных людей. Она вызывает общее и чрезвычайно опасное перемещение состояний частных людей, обогащая в большинстве случаев ленивого и расточительного должника за счёт трудолюбивого и бережливого кредитора и перенося значительную часть национального капитала из рук тех, кто скорее всего увеличит его, в руки тех, кто, вероятно, расстроит и уничтожит его. Когда государство оказывается в необходимости, как это бывает и с отдельным частным лицом, объявить себя банкротом, то честное, открытое и признанное банкротство всегда является мерой, которая наименее позорит должника и меньше всего причиняет вреда кредитору. О репутации государства, несомненно, очень мало заботятся, когда в целях избежания позора действительного банкротства прибегают к мошеннической уловке этого рода, столь легко разгадываемой и в то же самое время столь гибельной" <Адам Смит, Исследование о природе и причинах богатства народов, т. II, стр. 436-437. - Прим. ред.>. Эти замечания д-ра Смита по поводу неполновесной монеты одинаково применимы и к обесцененным бумажным деньгам. Он перечислил только немногие из бедственных последствий, которыми сопровождается порча средств обращения, но он достаточно предостерёг нас от попыток прибегать к таким опасным экспериментам. Мы постоянно будем иметь причину сокрушаться, если наша великая страна, имея перед своими глазами все последствия принудительного бумажно-денежного обращения в Америке и во Франции, сохранит систему, чреватую столь многими бедствиями. Будем же надеяться, что она окажется более мудрой. Говорят, правда, что положение в Англии иное, так как Английский банк независим от правительства. Если бы это и было верно, то бедствия чрезмерно обильного обращения давали бы себя чувствовать не менее сильно; но можно спросить, является ли независимым от правительства банк, который ссужает своему правительству суммы, на много миллионов превышающие его капитал и сбережения? Когда в 1797 г. постановление о приостановке размена банкнот сделалось необходимым, натиск на Английский банк был вызван, по моему мнению, только политической паникой, а не чрезмерным или недостаточным количеством (как предполагали некоторые) его банкнот в обращении <в этот период цена золота держалась постоянно ниже его монетной цены>. Такова опасность, которой Английский банк подвергается по самой своей природе во всякое время. Никакое благоразумие со стороны его директоров не могло бы, вероятно, отвратить её, но если бы займы банка правительству были более ограничены, если бы то же самое количество банкнот было выпущено в обращение с помощью дисконта их, то банк был бы, по всей вероятности, в состоянии продолжать свои платежи до тех пор, пока паника не улеглась бы. Во всяком случае, поскольку должники банка были бы обязаны уплатить свои долги в течение 60 дней - максимальный срок, на который выдаются дисконтируемые банком векселя, - директора могли бы за это время в случае необходимости выкупить все банкноты, находившиеся в обращении. Только благодаря слишком тесной связи между банком и правительством ограничение размена сделалось необходимостью; той же самой причине мы обязаны тем, что это ограничение длится до сих пор. Во избежание дурных последствий, которые могут сопровождать упорное сохранение этой системы, мы должны всё время настаивать на отмене закона об ограничении размена. Единственная законная гарантия, которой может обладать общество против неосторожности банка, заключается в обязательстве последнего оплачивать банкноты звонкой монетой по предъявлению, а это в свою очередь может быть достигнуто только путём уменьшения количества банкнот, находящихся в обращении, до тех пор, пока номинальная цена золота не понизится до его монетной цены. Этим я закончу. Я буду считать себя счастливым, если мои слабые усилия привлекут общественное внимание к должному рассмотрению состояния нашего денежного обращения. Я хорошо знаю, что ничего не прибавил к тому запасу сведений, которым просвещали общество многие выдающиеся писатели по этому важному вопросу. У меня не было таких претензий. Моя цель заключалась в том, чтобы внести дух спокойного и беспристрастного анализа в обсуждение вопроса, имеющего огромную важность для государства; пренебрежение им может сопровождаться такими последствиями, которые будет оплакивать каждый друг своей страны. ПРИЛОЖЕНИЕЗамечания по поводу некоторых мест статьи в "Edinburgh Review", рассматривающей обесценение бумажных денег, а также предложения относительно обеспечения обществу средства обращения столь же неизменного, как золото, при весьма умеренной затрате этого металла. Так как публика потребовала нового издания настоящего памфлета, то я пользуюсь случаем, чтобы рассмотреть замечания, которые сотрудник "Edinburgh Review" сделал мне честь высказать в последнем номере этого журнала и которые относятся к некоторым местам моей работы. Меня побуждает это сделать убеждение, что дискуссия по каждому пункту, связанному с этим важным вопросом, ускорит принятие мер против существующих злоупотреблений и создаст тенденцию к обеспечению нас от опасности повторения их в будущем. Автор статьи об обесценении денег замечает: "Крупной ошибкой в работе г-на Рикардо является его односторонний взгляд на причины, влияющие на вексельный курс. Он приписывает благоприятный или неблагоприятный вексельный курс исключительно избыточному или недостаточному денежному обращению и оставляет без внимания изменяющиеся желания и потребности различных народов как первоначальную причину временного перевеса ввоза над вывозом или вывоза над ввозом". Затем он комментирует место, в котором я утверждаю, что плохой урожай не вызовет вывоза денег, если только деньги не были относительно дёшевы в вывозящей стране. Заканчивая свои замечания, автор высказывает своё твёрдое убеждение в том, что вывоз денег в предполагаемом случае плохого урожая "вызывается не их дешевизной. Вывоз денег не является, как старается нас убедить г-н Рикардо, причиной неблагоприятного баланса, а его следствием. Он не только спасительное средство против избыточного денежного обращения, но порождается как раз причиной, упоминаемой г-ном Торнтоном, - нежеланием нации-кредитора получить большое добавочное количество товаров, ненужных для немедленного потребления, если её не соблазняет чрезмерная дешевизна их, а также желанием получить золото в слитках - эти деньги торгового мира, не поддаваясь такому соблазну. Не подлежит никакому сомнению, что, как констатировал г-н Рикардо, ни одна нация не уплатит свой долг драгоценными металлами, если она может сделать это дешевле товарами; но цены товаров подвержены сильному понижению в случае переполнения рынка, тогда как драгоценные металлы, принятые по всемирному соглашению людей за всеобщее средство обмена и орудие торговли, могут погасить долг самых больших размеров по его номинальной оценке согласно количеству золота, содержащегося в средствах обращения рассматриваемых стран; и какова бы ни была разница в количествах денег и товаров, которые имеют место после начала этих сделок, нельзя ни на минуту усомниться в том, что причину её следует искать в потребностях и желаниях одной из двух наций, а не в первоначальной избыточности или дефицитности средств обращения в каждой из них". Критик соглашается со мной, что "ни одна нация не уплатит свой долг драгоценными металлами, если она может сделать это дешевле товарами, но цены товаров, - прибавляет он, - подвержены сильному понижению в случае переполнения рынка". Конечно, он подразумевает при этом внешний рынок, но в таком случае его слова выражают то самое мнение, которое он старается опровергнуть, а именно: когда товары не могут быть вывозимы так выгодно, как деньги, то будут вывозиться деньги, что является только другим способом сказать, что деньги никогда не будут вывозиться, если в сравнении с другими странами они не являются избыточными по отношению к товарам. Но непосредственно вслед за этим он настаивает на том, что вывоз "драгоценных металлов есть результат торгового баланса <мы говорим о торговом балансе, абстрагируясь от платёжного баланса. Торговый баланс может быть благоприятен, в то время как платёжный баланс неблагоприятен. Только платёжный баланс влияет на вексельный курс> и порождается причинами, которые могут существовать независимо от излишка или недостатка в средствах обращения". Эти взгляды, кажется мне, прямо противоречат друг другу. Если, однако, драгоценные металлы могут быть вывозимы из страны в обмен на товары, несмотря на то, что они в вывозящей стране так же дороги, как в ввозящей, то каковы будут последствия такого непредусмотрительного вывоза? "Сравнительный недостаток в одной стране и излишек в другой, - говорит критик на стр. 343, - не преминут оказать быстрое действие, изменяя направление платёжного баланса и восстанавливая то равновесие драгоценных металлов, которое было на время нарушено естественным неравенством нужд и потребностей стран, ведущих между собой торговлю". Было бы очень хорошо, если бы критик сказал, когда именно начнётся эта реакция; ведь на первый взгляд кажется, что тот же самый закон, который допускает вывоз монеты из страны, в то время когда она не дешевле, чем в стране, ввозящей её, может также допустить вывоз её в такой момент, когда она дороже. Все торговые спекуляции управляются личным интересом, и раз таковой может быть установлен точно и несомненно, то, допустив другое правило поведения, мы не будем знать, где остановиться. Критик должен был бы поэтому объяснить нам, почему ввозящая страна не могла бы лишиться целиком своей монеты и слитков при продолжении спроса на ввозимый товар. Что может при таких обстоятельствах помешать вывозу средств обращения? Критик говорит: потому что "страна с уменьшенным количеством золота была бы, очевидно, скоро ограничена в своей способности платить драгоценными металлами". Почему скоро? Разве не было им допущено, что "излишек и недостаток средств обращения являются лишь относительными терминами и что обращение страны никогда не может быть чрезмерным" (а следовательно, никогда не может быть и недостаточным) "иначе, как по отношению к другим странам"? Разве из всех этих допущений не следует, что если торговый баланс может стать неблагоприятным для страны, хотя бы обращение её и не было относительно чрезмерным, то не существует всё же никакого препятствия для вывоза её монеты до тех пор, пока в стране остаётся хоть сколько-нибудь денег. Ведь (вследствие возрастания их стоимости) меньшее количество их будет сразу служить так же хорошо для совершения требуемых платежей, как до этого служила большая сумма? Ряд плохих урожаев может согласно этому принципу лишить страну её денег, каково бы ни было их количество и хотя бы они состояли исключительно из драгоценных металлов. То соображение, что уменьшение их стоимости в ввозящей стране и увеличение её в вывозящей вернут деньги в их старый канал, не отвечает на возражение. Когда именно это произойдёт? И в обмен на что именно будут они возвращены? Ответ очевиден - на товары. Итак, окончательный результат всего этого вывоза и ввоза денег сводится к тому, что одна страна ввезла бы один товар в обмен за другой и что монеты и слитки вернулись бы в обеих странах к своему естественному уровню. Можно ли оспаривать, что в стране, где капитал имеется в изобилии, где применяется всяческая экономия в торговле и где конкуренция доведена до крайних пределов, такие результаты не были бы предусмотрены и расходы и хлопоты, сопровождающие эти бесполезные операции, не были бы предотвращены? Можно ли допустить, что деньги посылаются за границу только для того, чтобы сделать их дорогими в одной стране и дешёвыми в другой и этим путём обеспечить их возвращение к нам? Особенно достойно замечания, что предрассудок, который рассматривает монету и слитки как вещи, существенно отличающиеся во всех их операциях от других товаров, укоренился весьма глубоко; так, писатели, прекрасно знакомые с общими истинами политической экономии, сначала приглашают своих читателей рассматривать деньги и слитки только как товары, тоже подчиняющиеся "общему началу предложения и спроса, бесспорно составляющими основание, на котором построена вся надстройка политической экономии", а потом сами забывают эти указания и рассуждают о деньгах и законах, регулирующих их вывоз и ввоз, так, как будто эти законы совершенно отличны от законов, которыми регулируются вывоз и ввоз других товаров. Если бы наш критик говорил о кофе или о сахаре, он отрицал бы возможность вывоза этих товаров из Англии на континент, если только они не дороже там, чем здесь. Тщетно доказывали бы мы ему, что наш урожай был плох и что мы нуждаемся в хлебе. Он настойчиво и уверенно доказывал бы, что как бы ни была у нас велика нужда в хлебе, для Англии не было бы возможно посылать, а для Франции (к примеру) получать кофе или сахар в обмен на хлеб до тех пор, пока кофе или сахар стоят в Англии больше денег, чем во Франции. Как, сказал бы он, вы считаете возможным для нас посылать ящик кофе во Францию, чтобы продать его там за 100 ф. ст., когда он стоит здесь 105 ф. ст. и когда, посылая 100 ф. ст. из этих 105 ф. ст., мы могли бы одинаково уплатить долг за ввозимую к нам пшеницу? А я говорю ему: считаете ли вы возможным, чтобы мы согласились посылать или Франция согласилась получать (если сделка ведётся за её счёт) 100 ф. ст. в деньгах, когда 95 ф. ст., вложенные в кофе и вывезенные нами, будут стоить по прибытии во Францию столько же, сколько 100 ф. ст.? Но во Франции в кофе не нуждаются, рынок там переполнен им, - пусть так, но деньги там нужны ещё меньше, и доказательством служит то, что кофе на сумму в 100 ф. ст. будет продан за сумму большую, чем 100 ф. ст. Единственное доказательство относительной дешевизны денег в двух местах, которым мы располагаем, состоит в сопоставлении их с товарами. Товары измеряют стоимость денег таким же образом, как деньги измеряют стоимость товаров. Если поэтому за товары можно получить больше денег в Англии, чем во Франции, мы можем сказать с уверенностью, что деньги дешевле в Англии и что они вывозятся, чтобы найти свой уровень, а не отступить от него. Если после сравнения относительной стоимости кофе, сахара, слоновой кости, индиго и всех других экспортных товаров на двух рынках я настаиваю на посылке денег, то какое другое доказательство ещё нужно, что в настоящее время деньги являются на английском рынке наиболее дешёвым из всех этих товаров по сравнению со всеми иностранными рынками и что, следовательно, вывоз их наиболее прибылен? Какое ещё нужно свидетельство относительного изобилия и дешевизны денег в Англии сравнительно с Францией, чем то, что во Франции за них можно купить больше хлеба, больше индиго, больше кофе, больше сахара, больше всяких экспортных товаров, чем в Англии? Мне могут, правда, сказать, что предположение моего критика заключается не в том, что кофе, сахар, индиго, слоновая кость и т. д. дешевле, чем деньги, но что эти товары и деньги одинаково дёшевы в обеих странах, т. е. что 100 ф. ст., посланные в виде денег или вложенные в кофе, сахар, индиго, слоновую кость и т. д., будут иметь во Франции одинаковую стоимость. Если бы стоимость всех этих товаров была взвешена с такой точностью, то что побудило бы экспортёра послать один товар предпочтительно перед другими в обмен на хлеб, по отношению к которому все они дешевле в Англии? Если он посылает деньги и таким путём нарушает естественный уровень, то критик говорит нам, что в силу увеличения количества денег во Франции и уменьшения их количества в Англии они станут во Франции дешевле, чем в Англии, и их будут вновь ввозить в обмен на товары до тех пор, пока не восстановится этот уровень. Но разве тот же результат не получился бы при вывозе кофе или какого-нибудь другого товара, стоимость которого по отношению к деньгам одинакова в обеих странах? Разве равновесие между предложением и спросом не было бы нарушено и разве уменьшенная стоимость кофе и т. д. вследствие увеличения его количества во Франции и возросшая стоимость его в Англии вследствие уменьшения его количества не вызвали бы его обратный ввоз в Англию? Некоторые из таких товаров могли бы быть вывезены без значительного неудобства, связанного с повышением их цены; но деньги, которые приводят в обращение все другие товары и увеличение или уменьшение количества которых даже в небольшом отношении повышает или понижает цены в чрезвычайной степени, не могут вывозиться без самых серьёзных последствий. Тут сказывается, следовательно, ошибочный принцип нашего критика. Согласно моей системе не представляло бы, напротив, никакой трудности определить способ производить возмещения так, чтобы сохранить относительное количество и относительную стоимость средств обращения двух стран даже в таком крайне невероятном случае, как одинаковая стоимость всех товаров, включая деньги и исключая только хлеб. Если бы средства обращения Англии состояли целиком из драгоценных металлов и составляли 1/50 стоимости товаров, которые они приводят в обращение, то всё количество денег, которое при предположенных условиях было бы вывезено в обмен на хлеб, составило бы 1/50 стоимости этого хлеба, на остальную сумму мы вывезли бы товары, и, таким образом, отношения между деньгами и товарами сохранились бы одинаково в обеих странах. Англия вследствие плохого урожая попала бы в положение страны, которая лишилась части своих товаров, а потому нуждается в уменьшенном количестве средств обращения. Денежное обращение, которое прежде соответствовало её платежам, стало бы теперь избыточным, и деньги сделались бы более дешёвыми пропорционально 1/50 её уменьшенного производства; вывоз этой суммы восстановил бы, следовательно, стоимость её денег до стоимости их в других странах. Итак, мы вполне доказали, повидимому, что плохой урожай влияет на вексельный курс только тем, что делает количество обращающихся денег, находившееся до тех пор на надлежащем уровне, чрезмерным. На таком примере полностью подтверждается, следовательно, принцип, согласно которому причины неблагоприятного вексельного курса всегда могут быть прослежены до относительно чрезмерного обращения. Если мы можем предположить, что после неблагоприятного урожая, когда представляется случай для необычайно большого ввоза хлеба в Англию, другая нация обладает этим товаром в чрезмерном изобилии, "но не имеет нужды в каком бы то ни было товаре", то мы должны будем, конечно, заключить, что такая нация не будет вывозить свой хлеб в обмен на товары, но она не вывезет его также и за деньги: ведь деньги это такой товар, в котором никакая страна не нуждается абсолютно, а лишь относительно, как признаёт определённо и сам критик. Такой случай, однако, невозможен, потому что нация, имеющая в своём распоряжении все товары, необходимые для потребления и для удовольствия всех её жителей, которые имеют на что купить их, не оставит хлеб, превышающий её возможное потребление, гнить в амбарах. Пока желание накоплять не погасло в груди человека, он будет стремиться реализовать излишек своей продукции над своим потреблением в форме капитала, а это он может сделать, только занимая лично или давая другим с помощью ссуд возможность занимать добавочное число рабочих: доход может быть превращён в капитал только посредством труда. Если доход его состоит из хлеба, он будет расположен обменивать его на топливо, мясо, масло, сыр и другие товары, на которые обычно затрачивается заработная плата, или, что то же самое, он продаст свой хлеб за деньги, уплатит заработную плату своим рабочим деньгами и создаст, таким образом, спрос на те товары, которые могут быть получены из других стран в обмен на излишний хлеб. Таким путём будут воспроизведены товары, имеющие большую стоимость, которые он сможет употребить таким же образом, умножая собственное богатство и увеличивая богатство и ресурсы своей страны. Нет большего заблуждения, чем предположение, что может существовать такая нация, которая не нуждалась бы в каких-нибудь товарах. Она может обладать в избытке одним или многими товарами, для которых не находит рынка у себя дома. Она может иметь больше сахара, кофе, сала, чем она может потребить или которыми она может распорядиться, но ни одна страна никогда не имела всеобщего перепроизводства всех товаров. Это, очевидно, невозможно. Если страна обладает всеми предметами, необходимыми для поддержания жизни и для комфорта человека, и если соответствующие доли тех и других соответствуют обычной практике потребления, то, несмотря на изобилие, они всегда найдут рынок сбыта; из этого следует, что раз страна обладает товаром, на который нет спроса дома, она будет стремиться обменять его на другие товары в той пропорции, в которой они потребляются. Ни одна страна не производит хлеб или какой-либо другой товар с целью реализовать его стоимость в деньгах - случай, предполагаемый или заключающийся в случае, предположенном в статье критика, так как деньги являются наиболее невыгодным объектом, которому может быть посвящён труд человека. Деньги представляют как раз тот товар, который, пока он не обменён снова, никогда не прибавляет ничего к богатству страны; ясно, следовательно, что увеличение их количества так же мало является добровольным актом со стороны какой-либо страны, как и со стороны отдельного индивида. Деньги навязываются им только вследствие их относительно меньшей стоимости в тех странах, с которыми данная страна или данный индивид находятся в сношениях. Пока страна употребляет в качестве денег драгоценные металлы и не имеет собственных рудников, вполне мыслимо, что она может в значительной степени увеличить количество продуктов своей земли и труда, ничего не прибавляя к богатству, ибо страны, владеющие рудниками, могут добыть в то же самое время такое огромное количество драгоценных металлов, что вынудят промышленную страну увеличить своё денежное обращение на сумму, равную по стоимости всему приросту её производства. Но при таких условиях добавочное количество денег плюс количество их, находившееся раньше в обращении, не будет иметь большей стоимости, чем первоначальное количество средств обращения. Таким образом, наша промышленная нация станет данницей тех стран, которые владеют рудниками, и будет вести торговлю, в которой она ничего не выигрывает, а всё теряет. Я вовсе не расположен отрицать, что вексельные курсы находятся в состоянии постоянных колебаний по отношению ко всем странам, но, как правило, эти колебания не достигают таких пределов, при которых становится более выгодным делать переводы при помощи слитков, чем посредством покупки векселей. Пока это так, нельзя оспаривать, что ввоз балансируется вывозом. Изменяющийся спрос всех стран может быть удовлетворён, а вексельные курсы их будут одинаково уклоняться в какой-то степени от паритета, если денежное обращение одной из них чрезмерно или недостаточно в сравнении с остальными. Предположим, что Англия посылает товары в Голландию и не находит там товаров, которые пригодны для английского рынка, или, что то же самое, предположим, что мы можем купить эти товары дешевле во Франции. В этом случае мы ограничиваем свою операцию продажей товаров в Голландии и покупкой других товаров во Франции. Денежное обращение Англии не нарушается какой-либо из этих сделок, так как мы платим Франции векселем на Голландию, и в данном случае не будет ни излишка ввоза, ни излишка вывоза. Однако вексельный курс может быть для нас благоприятен по отношению к Голландии и неблагоприятен по отношению к Франции и будет таковым, если счета не будут балансированы ввозом во Францию товаров из Голландии или из какой-нибудь страны, задолжавшей Голландии. Если такого ввоза не будет, то неблагоприятный вексельный курс может образоваться только благодаря относительному избытку средств обращения в Голландии в сравнении с количеством их во Франции, и для обеих стран будет более удобно, чтобы оплата векселей производилась путём пересылки слитков. Если баланс установится при помощи пересылки товаров, то вексельный курс между всеми тремя странами будет на уровне паритета. Если он установится при помощи слитков, то вексельный курс между Голландией и Англией будет настолько выше паритета, насколько вексельный курс между Францией и Англией будет ниже паритета, разница же будет равняться расходам по пересылке слитков из Голландии во Францию. Результат был бы тот же, если бы в такой сделке приняла участие любая нация мира. Если бы Англия купила товары у Франции и продала их Голландии, то Франция могла бы купить на такую же сумму товаров у Италии, Италия могла бы это сделать по отношению к России, Россия - по отношению к Германии, а Германия могла бы закупить в Голландии товары на ту же сумму за вычетом лишь 100 тыс. ф. ст. Германии могла бы быть нужна такая сумма в слитках либо для пополнения недостатка средств обращения, либо для производства металлической посуды. Все эти разнообразные сделки могли бы быть выполнены посредством векселей, за исключением 100 тыс. ф. ст., которые были бы уплачены Голландией из имеющегося у неё излишка монеты или слитков или собраны Голландией в монетах различных стран Европы. Вопреки заявлению критика никто не утверждает, что "плохой урожай или необходимость уплаты субсидии какой-либо стране немедленно и неизменно сопровождались бы необычным спросом на муслины, металлические изделия и колониальные продукты": ведь те же результаты получались бы и при условии, что страна, платящая субсидию или страдающая от плохого урожая, принуждена была бы ввозить меньше других товаров, чем она привыкла делать прежде. Наш критик замечает (стр. 345): "Ошибка того же рода, как та, на которую мы здесь указали, проникла и в другие части памфлета г-на Рикардо и в особенности отличает начало его рассуждений. Он, повидимому, думает, что если драгоценные металлы были однажды распределены между различными странами земли соответственно их относительному богатству и торговле, то, поскольку каждая из них одинаково нуждается в том количестве этих металлов, которое она действительно использует, ни одна не будет подвергаться искушению ввозить их или вывозить до тех пор, пока не будет открыт либо новый рудник, либо новый банк или пока не наступит какое-нибудь резкое изменение в их относительном благосостоянии". И затем (стр. 361): "Мы уже обратили внимание на ошибку (допущенную, однако, главным образом г-ном Рикардо и от которой "Доклад о слитках" совершенно свободен), состоящую в том, что г-н Рикардо отрицает существование торгового или платёжного баланса, не связанного с каким-нибудь первоначальным излишком или недостатком средств обращения". "Но имеется и другое положение, на котором сходятся все исследователи и с которым мы тем не менее не можем согласиться, склоняясь скорее к взглядам меркантилистов на этот предмет. Хотя эти исследователи признают, что слитки иногда перемещаются из одной страны в другую в силу причин, связанных с вексельным курсом, они всё же представляют дело так, как будто сделки такого рода играют совершенно незначительную роль. Г-н Гэскиссон замечает, что "операции по торговле слитками имеют своим почти единственным источником новые партии металла, которые ежегодно доставляются из рудников Нового Света; эти операции ограничиваются главным образом распределением новых партий металла между различными частями Европы. Если бы доставка их совершенно прекратилась, то сделки с золотом и серебром как предметами внешней торговли были бы очень незначительны и весьма кратковременны"". "Г-н Рикардо в своём ответе г-ну Бозанкету ссылается на это место с особенным одобрением". Так вот, я не в состоянии выяснить, чем это мнение г-на Гэскиссона отличается от высказанного мною прежде и комментированного нашим критиком. Оба положения в сущности совершенно одинаковы и должны или устоять, или пасть вместе. Если "мы признаём, что слитки иногда перемещаются из одной страны в другую в силу причин, связанных с вексельным курсом", то мы не признаём, что это будет происходить до тех пор, пока вексельный курс упадёт до пределов, при которых вывоз слитков сделается прибыльным; я держусь того мнения, что если бы он упал так сильно, то лишь в результате дешевизны и избыточности средств обращения, которое имело бы своим почти единственным источником новые партии металла, ежегодно доставляемые из рудников Нового Света. Таким образом, положение, по которому критик расходится со мной, не другое, а то же самое. Если "хорошо известно, что большинство государств имеет в своих обычных торговых сношениях почти постоянно благоприятный вексельный курс с некоторыми странами и почти постоянно неблагоприятный с другими", то какой другой причине можно приписать это, кроме той, которая была упомянута г-ном Гэскиссоном? "Новым партиям металла, которые ежегодно доставляются (и почти по тому же самому назначению) из рудников Нового Света". Д-р Смит, повидимому, не отдавал себе достаточного отчёта в том могущественном и единообразном воздействии, которое этот поток слитков оказывал на вексельный курс; он был склонен сильно переоценивать употребление слитков при ведении различных окольных отраслей внешней торговли, к которым страна считает необходимым прибегать. В ранних и примитивных торговых сделках между нациями, как и в ранних и примитивных сделках между индивидами, люди мало экономят как деньги, так и слитки; только под влиянием цивилизации и культуры бумажные деньги начинают выполнять при обмене между различными государствами те самые функции, которые они с такой выгодой выполняют при обмене между отдельными лицами в одной и той же стране. Мне кажется. что критик недостаточно осведомлён о тех размерах, в которых осуществляется принцип экономии драгоценных металлов при обмене между нациями. Он, повидимому, не признаёт даже всей силы этого принципа и в пределах одной нации: из одного абзаца на стр. 346 читатели могут сделать вывод, что, по мнению нашего критика, между отдельными областями одной и той же страны происходит частое перемещение средств обращения. Он сообщает нам, что "в употреблении всегда имеется и будет иметься известное количество драгоценных металлов, долженствующее выполнять те же функции при обмене между разными нациями, связанными друг с другом узами торговли, какие деньги одной страны выполняют по отношению к отдалённым друг от друга областям". Какие же функции выполняют деньги данной страны по отношению к отдалённым друг от друга областям? Я глубоко убеждён, что во всём многообразии торговых сделок, которые совершаются между отдалёнными друг от друга областями нашего королевства, деньги принимают очень незначительное участие, так как ввоз почти всегда балансируется вывозом <часть продукта отдельных областей вывозится без всякой компенсации, потому что составляет доход абсентеистов (землевладельцев, живущих постоянно вне пределов данной провинции), но это соображение не может иметь никакого влияния на вопрос о средствах обращения>; доказательством этому служит тот факт, что местные средства обращения отдельных областей (а они не имеют никаких других) редко имеют хождение на каком-либо значительном расстоянии от того места, где они выпущены. Мне кажется, что критик соблазнился ошибочной доктриной купцов, согласно которой деньги могут вывозиться в обмен на товары, хотя бы они и не были дешевле в вывозящей стране. Ведь иначе он никак не мог бы объяснить повышение вексельного курса, которое в некоторых случаях сопровождало увеличение количества банкнот, как это констатировал в докладе, представленном Комитету о слитках, г-н Пирс, бывший прежде заместителем управляющего, а теперь ставший управляющим Английским банком. Критик говорит: "С этой точки зрения, конечно, не легко объяснить улучшение вексельного курса при явно возрастающем выпуске банкнот: явление, имевшее место довольно часто; на этом особенно настаивал заместитель управляющего Английским банком, как на доказательстве, что наш вексельный курс не находится ни в какой связи с состоянием нашего обращения". Однако эти обстоятельства не являются абсолютно несовместимыми между собою. Г-н Пирс подобно критику "Edinburgh Review", повидимому, совершенно не понял принципа, выдвинутого защитниками отмены билля о запрещении платежей звонкой монетой. Сторонники отмены вовсе не утверждают, как это им приписывают, что увеличение количества банкнот будет постоянно понижать вексельный курс; по их мнению, такой результат получится только в случае избыточного денежного обращения. Остаётся, следовательно, рассмотреть, всегда ли увеличение количества банкнот необходимо сопровождается непрерывным ростом количества находящихся в обращении денег; ведь если я покажу отчётливо, что это не так, то объяснить повышение вексельного курса увеличением количества банкнот будет отнюдь не трудно. Каждый охотно допустит, что, пока в обращении находится большое количество монеты, всякое возрастание количества банкнот, хотя бы на короткое время, понизит стоимость всего денежного обращения, как бумажного, так и золотого. Такое понижение не будет, однако, постоянным, потому что избыток и дешевизна средств обращения понизят вексельный курс и вызовут вывоз части монеты; последний прекратится, как только остаток средств обращения приобретёт вновь свою прежнюю стоимость и восстановится паритет вексельного курса. Увеличение количества мелких банкнот приведёт, таким образом, в конечном результате к замене одних средств обращения другими, металлического обращения бумажно-денежным, но не будет иметь такого действия, какое имеет подлинное и непрерывное увеличение количества денег, находящихся в обращении <что увеличение количества банкнот ниже 5 ф. ст. должно скорее рассматриваться как замена вывезенной монеты, чем как действительное увеличение средств обращения, это нередко и справедливо утверждают люди, возражающие против аргументации Комитета о слитках; но когда те же самые джентльмены желают установить свою любимую теорию, согласно которой между количеством средств обращения и нормой вексельного курса нет никакой связи, они не забывают призвать на помощь те самые мелкие банкноты, которые они прежде отвергали>. Но мы, однако, имеем в своём распоряжении критерий, с помощью которого мы можем определить относительное количество денег, находившихся в обращении в различные периоды независимо от банкнот; хотя мы и не можем положиться безусловно на этот критерий, он всё же будет достаточно точным для решения обсуждаемого нами теперь вопроса. Этим критерием служит количество банкнот в 5 ф. ст. и выше, находящееся в обращении и сохраняющее всегда, как мы имеем основание считать, некоторую довольно правильную пропорцию ко всей массе средств обращения. Так, если с 1797 г. банкноты этой категории увеличились с 12 до 16 млн., мы можем сделать вывод, что вся масса средств обращения выросла на 1/3, если области, в которых обращаются банкноты, не расширились и не сократились. Банкноты ниже 5 ф. ст. будут выпускаться по мере того, как металлические деньги извлекаются из обращения, и количество их будет увеличиваться дальше, если увеличится также количество банкнот высшего наименования. Если я прав в этом пункте, т. е. в том, что увеличение количества наших средств обращения связано с увеличением количества банкнот в 5 ф. ст. и выше и никоим образом не может быть объяснено увеличение количества однофунтовых или двухфунтовых банкнот, которые заняли место вывезенных или спрятанных гиней, то я должен целиком отвергнуть расчёты г-на Пирса, ибо последний исходит из предположения, что каждое увеличение количества банкнот этой категории представляет увеличение средств обращения на ту же сумму. Если мы примем во внимание, что в 1797 г. в обращении не было банкнот в 1 и 2 ф. ст., но что их место было целиком заполнено гинеями и что, начиная с этого периода, таких банкнот было выпущено не меньше чем на 7 млн. ф. ст., - отчасти для того, чтобы занять место вывезенных и спрятанных гиней, отчасти чтобы сохранить пропорцию между средствами обращения для крупных и для мелких платежей, - то мы увидим, к каким ошибкам может привести такое рассуждение. Я не могу придавать записке г-на Пирса, о которой идёт речь, никакого значения, поскольку она выступает против мнения, которое я позволил себе высказать, а именно, что неблагоприятный торговый баланс, а следовательно, и низкий вексельный курс могут во всех случаях быть прослежены до относительно избыточного и дешёвого обращения <мы не думаем отрицать, что внезапное нашествие неприятеля или какое-либо потрясение, делающее владение собственностью в данной стране непрочным, может составить исключение из этого правила, но вексельный курс будет в общем неблагоприятен для стран, находящихся в таких условиях>. Но если бы рассуждение г-на Пирса не было столь же неверным, как неверны его факты, то это нисколько не гарантировало бы верности заключений, которые он из них сделал. Г-н Пирс констатирует, что количество банкнот возросло с января 1808 г. до рождества 1809 г. с 17 1/2 до 18 млн., или на 500 тыс. ф. ст., тогда как вексельный курс на Гамбург упал в течение этого же периода с 34 шилл. 9 гротов до 28 шилл. 6 гротов; следовательно, увеличение количества банкнот составляло меньше чем 3%, а падение вексельного курса - больше чем 18%. Но откуда получил г-н Пирс информацию, согласно которой только 18 млн. ф. ст. в банкнотах находилось в обращении к рождеству 1809 г.? Просмотрев все отчёты, которые мне удалось найти относительно количества банкнот в обращении в конце 1809 г., я могу только сделать вывод, что утверждение г-на Пирса неправильно. Г-н Мэшет в своих таблицах даёт четыре годичные сводки о числе банкнот. В последней, за 1809 г., он констатирует, что количество банкнот в обращении составляло 19 742 998 ф. ст. Согласно приложению к "Докладу о слитках" и отчётам, недавно представленным в палату общин, количество банкнот, находившихся в обращении, повидимому, составляло:
В течение многих месяцев до декабря оно не было ниже. Когда я впервые обнаружил эту неточность, я думал, что г-н Пирс мог пропустить в обеих оценках соло-векселя Английского банка, хотя в декабре 1809 г. сумма их не превышала 880 880 ф. ст.; но, заглянув в отчёт о числе банкнот в обращении, включающий и соло-векселя Английского банка в январе 1808 г., я нашёл, что г-н Пирс показал их в большей сумме, чем я мог где бы то ни было найти: действительно, его оценка превышает цифру, приведённую в отчёте Английского банка на 1 января 1808 г., почти на 900 тыс. ф. ст., а это значит, что с 1 января 1808 г. до 12 декабря 1809 г. общая сумма банкнот возросла с 16619240 до 19727520 ф. ст. - разница больше чем в 3 млн. ф. ст. вместо 500 тыс., о которых говорил г-н Пирс, и в 2 млн., если справка г-на Пирса верна для какого-нибудь момента в январе 1808 г. Кроме того, утверждение г-на Пирса, что с января 1803 г. до конца 1807 г. общая сумма банкнот возросла с 16 1/2 до 18 млн. ф. ст., - увеличение на 1 1/2 млн. ф. ст. - преувеличивает, по-моему, на полмиллиона действительную цифру. Увеличение количества банкнот в 5 ф. ст. и выше, включая соло-вексель банка, не превысило в течение этого периода 150 тыс. ф. ст. Важно подчеркнуть все эти ошибки для того, чтобы те, кто, несмотря на мои аргументы, соглашается в принципе с г-ном Пирсом, увидели бы, что факты не оправдывают в данном случае выводы, которые этот джентльмен извлёк из них; в действительности все расчёты, основанные на каких-либо отдельных данных о сумме банкнот за день или неделю при более высокой или более низкой общей средней, взятой для некоторого более раннего или более позднего периода, мало пригодны для опровержения теории, которая имеет за собой много других доказательств своей истинности. Таковой я считаю теорию, согласно которой неограниченное увеличение денежного обращения, в основе которого не лежит какой-либо определённый стандарт стоимости, может и должно производить постоянное понижение вексельного курса сравнительно со страной, денежное обращение которой имеет в своей основе такой стандарт. Определив, таким образом, подлинную значимость записки г-на Пирса, я прошу читателя обратить внимание на таблицу, которую я составил на основе данных, приведённых в "Докладе о слитках" и в документах, которые были представлены с того времени палате общин. Я приглашаю читателя сравнить количество обращающихся в стране более крупных банкнот с изменениями в вексельном курсе; я уверен, что он не найдёт никакого затруднения в согласовании принципа, защищаемого мною, с действительными рассматриваемыми нами фактами, в особенности, если он примет во внимание, что результат увеличения массы средств обращения проявляется полностью не сразу: для получения полного эффекта требуется известный период. Надо также помнить, что повышение или понижение цены серебра в сравнении с ценой золота изменяет относительную стоимость денег в Англии и в Гамбурге и, следовательно, делает денежное обращение той или другой страны относительно избыточным и дешёвым и что тот же самый результат вызывается, как я уже констатировал, богатым или скудным урожаем в нашей стране или в тех странах, с которыми мы ведём торговлю, или, наконец, каким-нибудь другим увеличением или уменьшением их действительного богатства; такие увеличения или уменьшения изменяют отношение между товарами и деньгами, а тем самым и стоимость средств обращения. При наличии таких поправок я опасаюсь лишь одного: могут найти, что возражения г-на Пирса следует отвергнуть, не прибегая, однако, к признанию несостоятельности его принципа. Допустить его значило бы установить меркантилистскую теорию вексельного курса и взять на себя ответственность за столь значительный отлив средств обращения, что ему можно было бы противодействовать только накоплением нашей монеты в Английском банке и освобождением директоров его от обязательства уплачивать банкноты звонкой монетой.
Вексельные курсы на Гамбург взяты из "Бюллетеня Ллойда". Среднее количество банкнот с 1797 до 1809 г. включительно взято в следующей таблице из доклада Комитета о слитках. Вексельные курсы извлечены из таблицы, представленной Монетным двором парламенту. Английский банк представил парламенту три отчёта о количестве его банкнот, находившихся в обращении в 1810 г.: первый - за 7 и 12-е число каждого месяца, второй - понедельно с 19 января до 28 декабря 1810 г. и третий - также понедельно с 3 марта до 29 декабря 1810 г. Средняя сумма банкнот Английского банка составляет (ф. ст.):
В годы, отмеченные звёздочкой <см. таблицу ниже. - Прим. ред.>, стоимость серебра в сравнении с золотом превышала монетную оценку; в особенности это имело место в 1801 г., когда можно было купить унцию золота за количество серебра меньше 14 унций. Монетная оценка давала отношение 1 : 15,07; нынешняя рыночная цена - почти 1 : 16.
В текущем 1811 г. Английский банк представил отчёт о сумме своих банкнот за первые 18 дней этого года. Средняя сумма банкнот в 5 ф. ст. и выше, находившихся в обращении в эти 18 дней, включая соло-векселя банка,
"Если бы, - говорит наш критик, - значительная доля находящихся в обращении денег была взята у праздных людей и у тех, кто живёт на постоянные доходы <Курсив Рикардо. - Прим. ред.>, и передана фермерам, фабрикантам и купцам, то соотношение между капиталом и доходом было бы в значительной степени изменено к выгоде капитала, и в течение короткого времени продукт страны значительно увеличился бы". Верно несомненно, что "не объём" денежного обращения увеличивает национальное богатство, а "иное распределение денег". Если бы поэтому можно было считать несомненным, что изобилие, а следовательно, и обесценение средств обращения уменьшат потребительную способность праздных и непроизводительных классов и увеличат численность трудолюбивых и производительных, то в результате, несомненно, увеличилось бы и национальное богатство, ибо то, что прежде расходовалось в качестве дохода, теперь реализовалось бы в форме капитала. Но вопрос состоит в том, произведёт ли излишек средств обращения именно такое действие? Не будет ли 1 тыс. ф. ст., сбережённая денежным капиталистом из его дохода и отданная в ссуду фермеру, так же производительна, как если бы она была сбережена самим фермером? Наш критик замечает, что "при каждом новом выпуске банкнот не только возрастает количество средств обращения, но изменяется и распределение всей их массы. Значительная часть попадает в руки тех, кто потребляет и производит, а меньшая - в руки тех, кто только потребляет". Но разве это действительно неизбежно? Автор считает, повидимому, доказанным, что люди, имеющие определённый доход, должны потреблять его целиком и что ни одна часть его не может сберегаться и ежегодно прибавляться к капиталу. Но это весьма далеко от истинного положения вещей, и я спросил бы: разве денежные капиталисты, сберегая половину своего дохода и помещая его в фонды, т. е. освобождая, таким образом, капитал, который в конечном счёте будет использован теми, кто потребляет и производит, не дадут такого же стимула росту национального богатства, какой дало бы обесценение их доходов на 50% путём выпуска банкнот и лишения их всякой возможности сберегать; это имело бы место, несмотря на то, что банк ссужал бы промышленнику сумму банкнот, равную по стоимости уменьшенному доходу денежного капиталиста. Различие, и единственное различие, состоит, мне кажется, в том, что в одном случае процент по денежной ссуде уплачивался бы действительному собственнику имущества, а в другом он был бы в конечном счёте уплачен в форме увеличенных дивидендов или премий собственникам Английского банка, которые получили бы возможность присвоить его себе вопреки справедливости. Если бы кредитор банка употребил свои деньги для менее прибыльных операций, чем человек, использовавший сбережения денежных капиталистов, то для страны от этого получился бы чистый убыток. Таким образом, поскольку обесценение средств обращения рассматривается как стимул к производству, оно может дать и положительный результат и отрицательный. Я не вижу никакого основания, в силу которого такое обесценение должно уменьшить численность праздного и увеличить численность производительного класса общества, а что оно принесёт вред - это во всяком случае несомненно, ибо оно должно сопровождаться такой степенью несправедливости по отношению к отдельным лицам, что одно лишь осознание её вызовет порицание и негодование всех тех, кто не остаётся равнодушным к справедливости. С взглядами, изложенными в остальной части статьи, я от души согласен и не сомневаюсь, что старания автора её будут в самой сильной степени способствовать опровержению массы ошибок и предрассудков, прочно укоренившихся в общественном мнении по этому столь важному вопросу. Согласно предложению Комитета о слитках Английский банк должен в течение двух лет возобновить платежи металлом по своим банкнотам; но против такой меры нередко возражают, что в случае принятия её банк будет испытывать значительные трудности в получении необходимого для этой цели количества слитков. Нельзя отрицать, что Английский банк должен благоразумно собрать большой металлический запас, могущий удовлетворить все предъявленные требования, для того чтобы закон об отмене платежей наличными мог быть отменён. Комитет о слитках установил, что средняя сумма банкнот, находившихся в обращении, включая соло-векселя Английского банка, составляла в 1809 г. 19 млн. ф. ст. В течение того же самого периода средняя цена золота равнялась 4 ф. ст. 10 шилл., превосходя, таким образом, его монетную цену почти на 17%, а это является доказательством обесценения денег почти на 15%. Следовательно, уменьшение числа обращавшихся в 1809 г. банкнот на 15% должно было бы в согласии с принципами комитета поднять их до паритета и уменьшить рыночную цену золота до 3 ф. ст. 17 шилл. 10 1/2 пенс.; но до того, как такое уменьшение имело бы место, прекращение действия закона об отмене платежей наличными создало бы непосредственную опасность как для Английского банка, так и для публики. Но, говорят защитники Английского банка, допустим (на самом деле мы этого, конечно, не делаем), что ваши принципы правильны, допустим, что после такого уменьшения количества банкнот стоимость остатка их поднимется настолько, что требовать у банка монету в обмен на банкноты не представит ни для кого никакого интереса, так как вывоз слитков не будет приносить никакой прибыли. Какую гарантию имел бы тогда Английский банк против порождённой капризом или злой волей всеобщей практики отказа от пользования мелкими банкнотами и требований гиней в обмен на них? Английский банк должен был бы тогда не только уменьшить обращение своих банкнот на 15% от общей суммы выпусков в 19 млн., не только запастись слитками на 4 млн. ф. ст., т. е. на всю сумму остающихся в обращении банкнот в 1 и 2 ф. ст., но и обеспечить себя также средствами для удовлетворения возможных требований оплаты мелких банкнот всех провинциальных банков королевства - и всё это в течение короткого периода - в два года. Следует признать, что, могут ли или не могут осуществиться подобные опасения, банку всё равно пришлось бы сделать некоторый запас на самый худший случай, и, хотя такое положение создалось бы в результате его собственной опрометчивости, было бы желательно по возможности спасти его от её последствий. Если такие же выгоды для публики и такую же гарантию против обесценения денег можно получить с помощью более мягких мероприятий, то нужно надеяться, что все стороны, пришедшие к принципиальному соглашению, соединят свои усилия, чтобы осуществить их. Пусть парламент потребует от Английского банка, чтобы он оплачивал (по требованию) все банкноты выше 20 ф. ст. и только их по собственному выбору - золотыми монетами, золотыми стандартными слитками или иностранною монетою (принимая во внимание разницы в пробе) по английской монетной стоимости золота, т.е. по 3 ф. ст. 17 шилл. 10 1/2 пенс. за унцию, с тем чтобы эти платежи были возобновлены в срок, указанный Комитетом о слитках. Привилегия оплаты банкнот вышеуказанными способами может быть продолжена банку на три или четыре года по возобновлении платежей, а если это будет найдено выгодным, то эта мера может быть объявлена постоянной. При такой системе уровень обесценения денег никогда не упал бы ниже их стандартной цены, так как унция золота и 3 ф. ст. 17 шилл. 10 1/2 пенс. всегда сохраняли бы одинаковую стоимость. При помощи таких постановлений мы действительно могли бы предупредить извлечение из обращения всей суммы мелких банкнот, необходимых для мелких платежей, так как, не обладая такими банкнотами по крайней мере на 20 ф. ст., никто не мог бы обменять их в банке, и даже в этом случае он получал бы за них не монету, а слитки. Правда, за эти слитки можно было бы получить гинеи на Монетном дворе, но не раньше, чем по истечении нескольких недель или месяцев, причём потеря процентов за это время рассматривалась бы как действительный расход - расход, на который никто не согласился бы, пока за мелкие банкноты можно было бы купить столько же товаров, сколько и за гинеи, которые они представляют. Другая выгода, связанная с осуществлением этого плана, заключалась бы в предупреждении бесполезной затраты труда, так бесполезно расходовавшегося при системе, господствовавшей до 1797 г., на чеканку гиней, тогда как последние при каждом случае неблагоприятного вексельного курса, какими бы причинами он ни вызывался, отправлялись в тигель и, несмотря на все запрещения, вывозились в форме слитков. Все стороны признают, что такие запрещения были недействительными и что, какие бы препятствия ни ставились вывозу монеты, они весьма легко обходились. Неблагоприятный вексельный курс может быть в конце концов исправлен только путём вывоза товаров (через посредство слитков) или же путём уменьшения размеров бумажно-денежного обращения. Таким образом, лёгкость, с которой слитки могут быть получены в банке, не может служить возражением против выдвигаемого плана, поскольку такая же степень лёгкости существовала на деле до 1797 г. и должна существовать при системе платежей банком. Такое возражение не следует вообще выдвигать: ведь теперь никто из тех, кто уделил достаточно внимания проблемам денежного обращения, не сомневается больше не только в том, что закон против вывоза металла в форме ли монеты или в какой либо другой совершенно недействителен, но что он также неполитичен и несправедлив; будучи невыгоден только для нас, он выгоден для всего остального мира. Предложенный здесь план объединяет, по моему мнению, выгоды всех банковских систем, принятых до сих пор в Европе. В некоторых его чертах он представляет аналогию с депозитными банками Амстердама и Гамбурга. Через посредство этих учреждений всегда можно купить у банка слитки по установленной неизменной цене. То же самое предлагается для Английского банка. Но в сундуках иностранных депозитных банков действительно сохраняется столько слитков, сколько в их книгах записано кредитов на деньги банка; соответственно этому налицо оказывается большой бездействующий капитал, равный всей сумме торгового обращения. Напротив, в нашем банке будет в наличии сумма банковских денег под названием банкнот в таком размере, в каком этого требуют нужды торговли. В то же время в сундуках банка бездействующий капитал будет храниться лишь в размерах того фонда, который банк будет считать необходимым держать в слитках, чтобы удовлетворять могущий возникнуть на них спрос. Кроме того, следует всегда помнить, что, сокращая выпуск банкнот, банк будет в состоянии уменьшать по своему желанию такой спрос. В подражание Гамбургскому банку, который покупает серебро по установленной цене, для Английского банка необходимо будет установить цену очень немногим ниже монетной цены, по которой он во всякое время покупал бы за свои банкноты золотые слитки, какие ему могут предложить. Совершенство банковской системы заключается в том, что она даёт возможность стране осуществлять своё денежное обращение посредством бумажных денег (всегда сохраняющих свою стандартную стоимость) с возможно меньшим количеством монеты или слитков. Именно к этому и приведёт наш план. И при серебряной монете мы имели бы при денежном обращении, основанном на верных принципах, наиболее экономную и наиболее устойчивую денежную систему в мире. Изменения в цене слитков, каков бы ни был спрос на них на континенте или каково бы ни было количество их, поставляемое рудниками Америки, были бы ограничены пределами цен, по которым Английский банк покупает слитки, и монетной ценой, по которой он продаёт их. Количество обращающихся денег было бы приспособлено к нуждам торговли с наибольшей точностью, и если бы Английский банк был временно настолько неосторожен, что переполнял бы обращение, то сила противодействия, которой обладала бы публика, очень скоро напомнила бы ему о его ошибке. Что касается провинциальных банков, то они, как и теперь, должны были бы оплачивать свои банкноты по требованию банкнотами Английского банка. Это было бы достаточной гарантией против возможности для этих банков чересчур увеличивать бумажно-денежное обращение. Не было бы никакого искушения переплавлять монету, и следовательно, труд, который так бесполезно затрачивался одними на перечеканку того, что другие считали выгодным переплавлять в слитки, был бы полностью сбережён. Деньги не подвергались бы ни порче, ни разрушению и обладали бы столь же неизменной стоимостью, как само золото, - великая цель, которую поставили себе голландцы и которую они осуществили при помощи системы, очень похожей на ту, которая здесь рекомендуется. Высокая цена слитков - доказательство обесценивания банкнот (Лондон 1811)Четвертое издание с приложением Введение
Автор последующих строк уже представил через посредство "Morning Chronicle" на суд общества некоторые размышления на тему о бумажно-денежном обращении. Он счёл целесообразным вновь опубликовать свои взгляды на этот вопрос в такой форме, которая скорее сможет вызвать плодотворное обсуждение. Основанием для этого является то величайшее беспокойство, с которым он наблюдает прогрессирующее обесценение бумажных денег. Его опасения возросли, когда он увидел, что большая часть общества совершенно отрицает это обесценение и что другие, признающие наличие его, приписывают его какой угодно причине, но только не той, которую автор считает единственно действительной. Чтобы применить успешно какое-либо средство против зла такого большого размера, весьма важно не оставить никаких сомнений насчёт причины этого зла. Опираясь на установленные начала политической экономии, автор ставит себе целью выдвинуть доводы, которые, по его мнению, доказывают, что бумажные деньги нашей страны давно уже подверглись да и теперь ещё подвергаются значительному обесценению и что причиной тому является излишек их количества, а не недостаток доверия к Английскому банку или сомнения в его способности выполнить свои обязательства. Автор делает это без какого-либо неприятного сознания, так как он вполне убеждён, что страна имеет в своём распоряжении средства восстановить бумажные деньги в их настоящей стоимости, т. е. стоимости монеты, для уплаты которой они должны служить порукой. Ему известно, что он мало что может прибавить к аргументам, которые так искусно были развиты лордом Кингом и которые давно уже должны были убедить всех; но так как зло всё более обостряется, то он полагает, что общество не перестанет выказывать интерес к предмету, который по своей важности не уступает никакому другому и с которым так тесно связано всеобщее благосостояние. 1 декабря 1809 г. Высокая цена слитков - доказательство обесценивания банкнот
Наиболее авторитетные писатели по вопросам политической экономии исходили из предположения, что драгоценные металлы, употребляемые для обращения товаров всего мира, распределялись до учреждения банков в известных пропорциях между различными цивилизованными нациями земного шара соответственно состоянию их торговли и богатства, а следовательно, и соответственно числу и частоте платежей, которые им приходилось производить. При таком распределении драгоценные металлы всюду сохраняли одну и ту же стоимость, а так как каждая страна одинаково нуждалась в количестве металлов, которое в данное время обращалось в ней, то не было никакого искушения ввозить или вывозить их. Как и все остальные товары, золото и серебро имеют присущую им стоимость, которая не является произвольной, а зависит от их редкости, количества труда, затраченного на их добывание, и стоимости капитала, применяемого в рудниках для добычи их. "...Свойства полезности, красоты и редкости, - говорит д-р Смит, - лежат в основе высокой цены драгоценных металлов, которые повсюду обмениваются на большое количество других товаров. Эта их высокая стоимость предшествовала и была независима от чеканки из них монеты и явилась именно тем качеством, которое сделало их пригодными для такого употребления" <Адам Смит, Исследование о природе и причинах богатства народов, т. I, Соцэкгиз, 1935, стр. 155-156. - Прим. ред.>. Если бы количество золота и серебра, употребляемое во всём мире в качестве монеты, было чрезмерно ограничено или излишне велико, то это ни в малейшей степени не повлияло бы на пропорции, в которых они распределялись бы между различными нациями; изменение в их количестве вызвало бы только сравнительное вздорожание или удешевление товаров, на которые они обмениваются. Меньшее количество монеты выполняло бы функции средства обращения так же хорошо, как и большее. 10 млн. были бы так же пригодны для этой цели, как и 100 млн. Д-р Смит замечает, что "самые обильные рудники драгоценных металлов или камней могут мало прибавить к мировому богатству. Продукт, стоимость которого обусловливается главным образом его редкостью, необходимо уменьшается в стоимости при обилии его" <Адам Смит, Исследование о природе и причинах богатства народов, т. I, стр. 156. - Прим. ред.>. Если в своём поступательном движении к богатству одна нация подвигается быстрее, чем другая, то первая предъявит спрос на более значительную долю денег всего мира и получит её. Торговля, количество товаров, платежи этой нации возрастут, и общее денежное обращение всего мира будет распределено соответственно новым пропорциям. Все страны будут поэтому содействовать удовлетворению этого действительного спроса. Таким же точно образом, если какая-либо нация расточит часть своего богатства или потеряет часть своей торговли, она не сможет удержать то же самое количество средств обращения, которым она владела прежде. Часть его будет вывезена и распределится между другими нациями, пока не будут восстановлены обычные пропорции. Пока положение стран по отношению друг к другу продолжает оставаться неизменным, то, как бы обширна ни была торговля между ними, их вывоз и ввоз будут в целом одинаковы. Англия могла бы вывезти из Франции больше товаров, чем ввезти в неё, но в результате она ввезла бы больше товаров в какую-нибудь другую страну, а Франция ввезла бы больше из этой последней. Таким образом, вывоз и ввоз всех стран будут взаимно уравновешиваться, необходимые платежи будут производиться при помощи векселей, металлические же деньги не будут передвигаться, потому что стоимость их во всех странах будет одинакова. Если бы в какой-нибудь из этих стран был открыт золотой рудник, то средства обращения её понизились бы в своей стоимости, поскольку в обращение поступило бы возросшее количество драгоценных металлов, не могущих поэтому иметь такую же стоимость, как средства обращения в других странах. Золото и серебро в монете или слитках стали бы немедленно, повинуясь закону, регулирующему все остальные товары, предметами вывоза; они покинули бы страну, где они стали дёшевы, и направились бы в страны, где они дороже, и продолжали бы это делать до тех пор, пока рудник сохранял бы свою производительность и пока не восстановилось бы вновь отношение, существовавшее в каждой стране между капиталом и деньгами до открытия рудника, а золото и серебро не обрели бы всюду одинаковую стоимость. Взамен за вывезенное золото были бы ввезены товары, и хотя то, что обычно называется торговым балансом, было бы против страны, вывозящей деньги или слитки, стало бы всё же очевидно, что она ведёт в высшей степени выгодную торговлю, ибо она вывозила бы то, что для неё совершенно бесполезно, в обмен за товары, которые могут быть употреблены для расширения её промышленности и возрастания её богатства. Если бы вместо открытия в стране рудника в ней был учреждён банк наподобие Английского банка с правом выпускать свои банкноты в качестве средств обращения, то выпуск - путём ли ссуды торговцам или авансов правительству - большого количества банкнот, а следовательно, значительное увеличение суммы средств обращения привело бы к такому же результату, как и открытие рудника. Средства обращения понизились бы в своей стоимости, а товары повысились бы соответственно в цене. Равновесие между данной страной и остальными могло бы быть восстановлено только путём вывоза части монет. Таким образом, учреждение банка этого типа и сопровождающий его выпуск банкнот действуют так же, как и открытие рудника, как побуждение к вывозу либо слитков, либо монеты, и выгодны лишь постольку, поскольку может быть достигнута эта цель. Банк заменяет дорогостоящие средства обращения такими, которые не имеют стоимости, и даёт нам возможность превратить драгоценные металлы (которые, хотя они и представляют весьма необходимую часть нашего капитала, не приносят никакого дохода) в капитал, который будет доставлять доход. Д-р А. Смит уподобляет выгоды, доставляемые учреждением банка, выгодам, которые могут быть получены путём превращения наших дорог в пастбища и хлебные поля и проведения дорог в воздухе. Дороги, как и монеты, весьма полезны, но ни те, ни другие не приносят дохода. Нашлись бы, правда, люди, которых устрашило бы то обстоятельство, что звонкая монета оставляет страну, и которые рассматривали бы торговлю, требующую, чтобы мы расстались с звонкой монетой, как невыгодную. Закон действительно рассматривает её как таковую и поэтому принимает меры против вывоза звонкой монеты. Однако достаточно весьма небольшого размышления, чтобы убедиться, что звонкая монета вывозится по нашему выбору, а не по необходимости, и что для нас в высшей степени выгодно менять излишние товары на такие, которые могут быть использованы производительно. Вывоз звонкой монеты может быть предоставлен в любое время и без всякой опасности усмотрению отдельных лиц; монета не будет вывозиться в большем количестве, чем какой-либо другой товар, если только вывоз его не окажется выгодным для страны. Если бы вывоз монеты был выгоден, никакие законы не могли бы помешать ему на деле. К счастью, в этом случае, как и в большинстве других, раз в области торговли существует свободная конкуренция, интересы отдельного лица и интересы всего общества никогда не расходятся между собою. Если бы возможно было добиться строгого выполнения закона против переплавки или вывоза монеты при одновременной свободе вывоза золотых слитков, то этот закон не доставил бы никаких выгод; он, наоборот, причинил бы большой убыток тем, кому пришлось бы, вероятно, платить 2 унции, а то и больше, золота в монете за 1 унцию золота в слитках. Это привело бы к подлинному обесценению наших средств обращения, и цены всех других товаров поднялись бы в том же самом отношении, в каком увеличилась бы цена золотых слитков. Владелец денег терпел бы в этом случае такой же убыток, какой испытал бы собственник хлеба, если бы был проведён закон, запрещающий ему продавать свой хлеб дороже, чем за половину его рыночной стоимости. Закон против вывоза монеты имеет такую тенденцию, но его так легко обойти, что золото в слитках всегда имело почти такую же стоимость, как золото в монете. Оказывается, таким образом, что средства обращения одной страны не могут иметь в течение сколько-нибудь продолжительного времени большую стоимость, чем средства обращения другой страны, поскольку речь идёт об одинаковых количествах драгоценного металла. Излишек средств обращения есть только относительное понятие. Так, если бы сумма средств обращения составляла в Англии 10 млн., во Франции - 5 млн., в Голландии - 4 млн. и т. д., то даже при удвоении или утроении суммы средств обращения ни одна страна не заметила бы излишка в средствах обращения до тех пор, пока сохранилось бы прежнее отношение между количествами денег в этих странах. Цены товаров возросли бы всюду благодаря росту количества средств обращения, но ни одна страна не прибегла бы к вывозу денег. Но если бы данное отношение было нарушено тем, что в одной лишь Англии сумма средств обращения увеличилась вдвое, тогда как во Франции, Голландии и т. д. эта сумма оставалась бы без изменения, мы заметили бы излишек в средствах обращения; и по тем же основаниям другие страны ощутили бы недостаток в них, и часть нашего излишка вывозилась бы, пока не восстановились бы снова пропорции 10, 5, 4 и т. д. Если бы во Франции унция золота имела большую стоимость, чем в Англии, и могла бы поэтому купить во Франции большее количество товаров, имеющихся в обеих странах, то золото немедленно начало бы уходить из Англии ради этой цели; мы предпочитали бы тогда посылать золото вместо каких-нибудь других товаров, так как оно являлось бы самым дешёвым товаром на английском рынке; ведь если бы золото было во Франции дороже, чем в Англии, то товары были бы там дешевле, и мы поэтому не посылали бы их с дорогого рынка на дешёвый, а, наоборот, они поступали бы с дешёвого на дорогой рынок и обменивались бы на наше золото. Банк может продолжать выпуск своих банкнот, а звонкая монета может вывозиться с выгодой для страны до тех пор, пока банкноты остаются разменными на звонкую монету по предъявлению, потому что банк не может никогда выпустить банкнот на сумму большую, чем стоимость монеты, которая обращалась бы, если бы не было банка <cтрого говоря, количество банкнот могло бы превысить эту стоимость, ибо, по мере того как банк увеличивал бы количество мировых средств обращения, Англия удерживала бы за собой известную долю этого приращения>. Если бы Английский банк попытался превысить это количество, то излишек банкнот немедленно вернулся бы к нему для размена на звонкую монету, так как наши средства обращения, понизившись в силу этого в своей стоимости, могли бы быть вывезены с выгодой и не могли бы быть удержаны в обращении нашей страны. Таковы, как я уже объяснил раньше, способы, при помощи которых наши средства обращения приходят к одному уровню со средствами обращения других стран. Как только будет достигнут этот одинаковый уровень, исчезнет всякая выгода, доставляемая вывозом. Но если банк будет выпускать вместо вернувшихся к нему банкнот новые, полагая, что то количество средств обращения, которое было необходимо в истекшем году, будет необходимо и в текущем году, или по какой-либо другой причине, то снова возродится и с теми же самыми результатами стимул к вывозу звонкой монеты, вызванный первоначально излишком средств обращения. Снова усилится спрос на золото, вексельный курс сделается неблагоприятным, и цена золотых слитков поднимется несколько выше их монетной цены, поскольку закон разрешает вывозить слитки, но запрещает вывозить монету; разница же в цене будет приблизительно равна достаточному вознаграждению за риск. Таким образом, если бы Английский банк упорствовал в своём стремлении возвращать свои банкноты в обращение, из его сундуков можно было бы извлечь все гинеи до последней. Если бы Английский банк, желая восполнить недостаток своего золотого запаса, скупал золотые слитки по повышенной цене и перечеканивал их в гинеи, то это не помогло бы беде: спрос на гинеи не прекратился бы, но вместо вывоза их переплавляли бы и продавали банку в форме слитков по более высокой цене. "...Работа Монетного двора, - заметил д-р Смит, намекая на аналогичный случай, - уподобилась работе Пенелопы: сработанное днём уничтожалось ночью" <Адам Смит, Исследование о природе и причинах богатства народов, т. II, Соцэкгиз, 1935, стр. 115. - Прим. ред.>. Тот же самый взгляд высказывается и г-ном Торнтоном: "Установив, что гинеи в сундуках Английского банка уменьшаются с каждым днём, его руководители вполне естественно пожелали бы вернуть их всеми действительными и не чрезвычайно дорогими средствами. Они будут в известной мере расположены покупать золото даже и по убыточной цене и перечеканивать его в новые гинеи, но им придётся делать это как раз в то время, когда многие переплавляют частным образом то, что отчеканено. Одна сторона переплавляла бы и продавала, в то время как другая скупала бы и чеканила. И каждая из этих двух конкурирующих операций будет производиться не в видах действительного вывоза каждой переплавленной гинеи в Гамбург: эти операции, или по крайней мере значительная часть их, будут ограничены пределами Лондона, так как и те, которые чеканят из слитков гинеи, и те, которые переплавляют гинеи в слитки, живут в одном и том же месте и дают постоянную работу друг другу". "Если мы предположим, - продолжает г-н Торнтон, - как мы это и делаем сейчас, что Английский банк ведёт такое же состязание с плавильщиками монеты, то он, очевидно, вступает с ними в очень неравный бой, и если бы даже банк устал в этом бою не так скоро, он, конечно, устал бы скорее, чем его противники". Поэтому Английский банк был бы вынужден в конце концов пустить в ход единственное средство, имеющееся в его распоряжении, чтобы приостановить требования на гинеи: его руководители стали бы извлекать часть своих банкнот из обращения, пока стоимость остающихся банкнот не поднялась бы до стоимости золотых слитков, а следовательно и до уровня стоимости средств обращения других стран. Тогда отпала бы всякая выгода от вывоза золотых слитков, а вместе с ней и соблазн разменивать банкноты на гинеи. Итак, с этой точки зрения оказывается, что соблазн вывозить деньги в обмен на товары или то, что называется неблагоприятным торговым балансом, порождается только излишком средств обращения. Но г-н Торнтон, который рассматривает этот предмет очень пространно, предполагает, что очень неблагоприятный торговый баланс мог быть вызван в нашей стране плохим урожаем и последовавшим за ним ввозом хлеба, причём страна, которой мы задолжали, выразила нежелание принимать в уплату наши товары. Поэтому баланс нашего долга чужой стране должен был быть выплачен из той части наших денег, которая состоит из монеты, а это привело к спросу на золотые слитки и возрастанию цены последних. Г-н Торнтон считает, что Английский банк оказывает значительное облегчение торговцам, заполняя своими банкнотами пустоту, причиняемую вывозом монеты. Г-н Торнтон признаёт во многих местах своего труда, что цена золотых слитков измеряется золотой монетой, а также, что закон, направленный против переплавки золотой монеты в слитки и вывоза её, легко обходится. Но раз это так, то из этого следует, что никакой спрос на золотые слитки, вызванный той или иной причиной, не может повысить денежную цену этого товара. Ошибочность этого рассуждения происходит оттого, что автор не проводит различия между возрастанием стоимости золота и возрастанием его монетной цены. При большом спросе на хлеб денежная цена его возросла бы, ибо, сравнивая хлеб с деньгами, мы в действительности сравниваем его с другим товаром; по той же самой причине, когда возникает большой спрос на золото, его хлебная цена должна возрасти, но ни в том, ни в другом случае один бушель пшеницы не будет стоить дороже другого или одна унция золота дороже другой. Одна унция слиткового золота не могла бы, пока цена его измеряется в золотой монете, иметь большую стоимость, чем унция золота в монете, или 3 ф. ст. 17 шилл. 10 1/2 пенс., каков бы ни был спрос на него. Если бы этот аргумент не считался решающим, то я указал бы, что предполагаемая здесь пустота в обращении может быть обусловлена только уничтожением или ограничением бумажного обращения; эта пустота была бы скоро пополнена ввозом слитков, которые не преминули бы потянуться к прибыльному рынку, так как при уменьшении числа обращающихся денег увеличилась бы их стоимость. Как бы ни был велик недостаток в хлебе, вывоз денег лимитировался бы их возросшей редкостью. Спрос на деньги настолько всеобщ, и при настоящем состоянии цивилизации деньги имеют такое существенное значение для коммерческих сделок, что они никогда не будут вывозиться в излишнем количестве. Даже во время такой войны, как настоящая, когда неприятель пытается запретить всякую торговлю с нами, та стоимость, которую приобрели бы средства обращения при увеличении их редкости, предотвратила бы вывоз их в размерах, создающих пустоту в обращении. Г-н Торнтон не объяснил нам, почему в другой стране имелось бы нежелание получать наши товары в обмен за её хлеб, а ему необходимо было бы доказать, что при наличии такого нежелания мы настолько считались бы с ним, что согласились бы расстаться с нашей монетой. Если мы соглашаемся давать монету в обмен за товары, то это должно делаться нами свободно, а не из необходимости. Мы не ввозили бы больше товаров, чем мы вывозим, если бы не имели излишка средств обращения, который может поэтому стать частью нашего вывоза. Вывоз монеты вызывается её дешевизной и является не следствием, а причиной неблагоприятного баланса: мы не вывозили бы её, если бы она не шла на более выгодный рынок или если бы мы имели в своём распоряжении другой товар, который мы могли бы вывозить с большей выгодой. Вывоз монеты есть спасительное средство против избыточного обращения, но так как избыток или излишество средств обращения есть, как я уже старался доказать, только относительное понятие, то ясно, что иностранный спрос на монету порождается лишь сравнительным недостатком средств обращения во ввозящей стране - недостатком, который и вызывает повышение их стоимости. Вывоз этот является всецело вопросом выгоды. Если бы лица, продавшие в Англию хлеб на сумму, скажем, в 1 млн., могли ввезти к себе товары, которые стоят 1 млн. в Англии, но за которые за границей можно выручить больше, чем при посылке туда 1 млн. в деньгах, то они предпочли бы товары; в противном случае они предъявили бы спрос на монету. Иностранцы предпочитают получать золото в обмен на свой хлеб только на основании сравнения стоимости золота и других товаров на своём и на нашем рынках, раз золото на лондонском рынке дешевле, чем на их собственном. Если мы уменьшаем количество средств обращения, мы придаём им добавочную стоимость, а это побуждает иностранцев изменить свой выбор и предпочесть товары. Если я должен в Гамбурге 100 ф. ст., я буду стараться найти наиболее дешёвый способ уплаты их. Если я пошлю деньги, то, предполагая, что издержки пересылки составляют 5 ф. ст., погашение долга обойдётся мне в 105 ф. ст. Если я покупаю здесь сукно, которое вместе с расходами по пересылке будет стоить мне 106 ф. ст. и которое в Гамбурге продаётся за 100 ф. ст., то очевидно, что мне гораздо выгоднее послать деньги. Если покупка и расходы по пересылке металлических изделий для уплаты моего долга обойдутся мне в 107 ф. ст., я предпочту скорее послать сукно, чем металлические изделия, но я не пошлю ни один из этих товаров и отдам предпочтение деньгам, потому что последние представляют самый дешёвый экспортный товар на лондонском рынке. Те же самые основания будут руководить экспортером хлеба, если сделка происходит за его собственный счет. Но если Английский банк, "опасаясь за безопасность своего учреждения" и зная, что требуемое число гиней будет извлечено из его сундуков по монетной цене, счел бы необходимым уменьшить количество своих банкнот, находящихся в обращении, то стоимости денег, сукна и металлических изделий не относились бы больше друг к другу, как 105, 106 и 107; деньги стали бы наиболее дорогими из трех, и поэтому было бы менее выгодно использовать их для погашения заграничных долгов. Если бы - и это является более важным случаем - мы согласились платить субсидию иностранному государству, то деньги не стали бы вывозиться, пока имелись бы товары, которыми можно было бы дешевле погасить платёж. Интересы отдельных лиц сделали бы вывоз денег ненужным <Это в полной мере подтверждается заявлением мистера Роза в палате общин, что наш вывоз превышает наш ввоз на сумму, кажется, в 16 млн. ф. ст. В возмещение за этот вывоз нельзя было ввезти никаких слитков, ибо хорошо известно, что раз цена слитков была в течение всего года выше за границей, чем у нас, то значительное количество нашей золотой монеты вывозилось; поэтому к стоимости баланса вывоза необходимо прибавить стоимость вывезенных слитков. Часть этой суммы иностранные государства могут быть нам должны, но остаток должен в точности равняться нашим расходам за границей, состоящим из субсидий нашим союзникам и содержания там нашей армии и флота>. Итак, звонкая монета будет посылаться за границу для погашения долгов только тогда, когда она имеется в чрезмерном изобилии, когда она представляет самый дешёвый товар для вывоза. Если бы в такое время Английский банк платил по своим банкнотам наличными деньгами, то для этой цели потребовалось бы золото. Оно получалось бы по монетной цене, тогда как его цена в слитках была бы несколько выше его стоимости в монете, поскольку слитки могли бы вывозиться совершенно легально, а монета была бы запрещена к вывозу. Очевидно, следовательно, что обесценение обращающихся денег является необходимым следствием их избытка и что при обычном состоянии национального денежного обращения это обесценение встречает противодействие в вывозе драгоценных металлов. <В статье, помещённой в журнале, пользующемся большой и заслуженной известностью ("Edinburgh Review", v. I, p. 183), было указано, что увеличение количества бумажных денег вызовет только повышение бумажной или выраженной в средствах обращения цены товаров, но оставит без изменения их слитковую цену. Это было бы верно в такое время, когда денежное обращение состояло бы целиком из бумажных денег, не подлежащих размену на металлические деньги, но не тогда, когда последние составляют какую-либо часть денежного обращения. В последнем случае результатом возросшего выпуска бумажных денег было бы извлечение из обращения такого же количества металлических денег; но это не могло бы быть сделано без увеличения количества слитков на рынке и уменьшения вследствие этого их стоимости или, другими словами, возрастания слитковой цены товаров. Только вследствие этого падения стоимости металлических денег и слитков возникает искушение вывозить их; наказание же переплавку монеты является единственной причиной незначительной разницы между стоимостью монеты и слитков или незначительного перевеса рыночной цены над монетной. Но вывоз слитков - это синоним неблагоприятного торгового баланса. Какими бы причинами ни вызывался вывоз слитков в обмен на товары, по моему мнению, совершенно неправильно называть его неблагоприятным торговым балансом. Когда обращение состоит всецело из бумажных денег, всякое возрастание их количества повышает денежную цену слитков (не понижая, однако, их стоимости) таким же образом и в том же отношении, в каком оно повышает цены других товаров; по той же причине это возрастание понижает вексельные курсы. Это понижение является, однако, только номинальным, а отнюдь не реальным; оно не повлечёт за собой вывоза слитков, потому что действительная стоимость слитком не уменьшилась, так как не произошло никакого увеличения их количества на рынке>. Таковы, по моему мнению, законы, которые регулируют распределение драгоценных металлов по всему миру и которые обусловливают и ограничивают их перемещение из одной страны в другую, регулируя стоимость их в каждой из них. Но, прежде чем я перейду на основе этих принципов к анализу главного предмета моего исследования, мне необходимо будет показать, что является в нашей стране стандартной мерой стоимости, представителем которой должны являться и самые бумажные деньги; определить их нормальное состояние или их обесценение можно только путем сравнения с такой мерой. Можно утверждать, что ни в одной стране, где находящиеся в обращении деньги состоят из двух металлов, не существует постоянной меры стоимости <строго говоря, не может существовать никакой постоянной меры стоимости. Мера стоимости сама по себе должна была бы быть неизменной; но таковым не может быть ни золото, ни серебро, потому что оба они подвержены колебаниям (в своей стоимости), так же как и другие товары; между тем опыт учит нас, что хотя изменения в стоимости золота или серебра могут быть значительны при сравнении отдаленных друг от друга периодов, но по отношению к коротким промежуткам времени стоимость их до известной степени устойчива. Именно это свойство помимо других преимуществ делает их более пригодными, чем всякий другой товар, для выполнения функций денег; поэтому с точки зрения, с которой мы рассматриваем их, золото и серебро могут быть названы мерой стоимости>, потому что эти металлы постоянно подвергаются изменению в стоимости по отношению друг к другу. Как бы точно ни устанавливали директора Монетного двора относительную стоимость золота и серебра в монете в тот момент, когда они фиксируют это отношение, он не в состоянии предупредить повышение стоимости одного из этих металлов, в то время как стоимость другого остается неизменной или снижается. Когда это случается, то монеты, вычеканенные из одного из металлов, будут переплавляться в слитки, чтобы быть проданными за другой. Г-н Локк, лорд Ливерпуль и многие другие писатели основательно исследовали этот предмет, и все они согласны, что единственное средство против зла, причиняемого этим путём денежному обращению, заключается в утверждении только одного из двух металлов стандартной мерой стоимости. Г-н Локк считал наиболее пригодным для этой цели металлом серебро и предложил, чтобы золотой монете предоставили находить самой свою собственную стоимость и представлять в обращении большее или меньшее число шиллингов в зависимости от изменения рыночной цены золота по отношению к серебру. Лорд Ливерпуль, напротив, утверждал <"A Treatise on the Coins of the Realm", Oxford 1805, p. 152-155>, что золото не только является наиболее пригодным металлом для выполнения функций всеобщей меры стоимости в нашей стране, но что в силу общего соглашения всего народа оно сделалось уже таковой, принималось за таковую иностранцами и соответствовало наилучшим образом росту торговли и богатства Англии. Он поэтому предложил, чтобы только золотая монета служила законным платёжным средством для сумм, превышающих одну гинею, а серебро - для сумм, не превышающих этого размера. В силу существующего закона золотая монета является законным платёжным средством для всех сумм, но в 1774 г. было постановлено: "В пределах Великобритании или Ирландии уплата серебряной монетою королевства суммы, превосходящей 25 ф. ст., в один раз не может почитаться законной; серебряная монета не может также почитаться законным платёжным средством для большей стоимости, чем та, которая соответствует ей по весу, т. е. 5 шилл. 2 пенса за каждую унцию серебра". Правило это было возобновлено в 1798 г. и остаётся в силе до настоящего дня. Согласно ряду соображений, приводимых лордом Ливерпулем, не может, повидимому, подлежать никакому сомнению, что золотая монета была главной мерой стоимости уже в течение почти столетия. Это, думается мне, следует, однако, приписывать неточному определению монетных соотношений. Золото было оценено слишком высоко, поэтому серебро, имеющее свой стандартный вес, не могло оставаться в обращении. Если бы было издано новое правило и серебро было бы оценено слишком высоко или (что то же самое) если бы рыночное соотношение цен золота и серебра стало больше, чем соотношение, установленное Монетным двором, то тогда золото исчезло бы из обращения, а серебро стало бы стандартным средством обращения. Это может потребовать дальнейших разъяснений. Стоимость золота в монете относится к стоимости серебра в монете, как 15 9/124 : 1. Одна унция золота, которая перечеканивается в 3 ф. ст. 17 шилл. 10 1/2 пенс. золотой монеты, стоит согласно монетному уставу 15 9/124 унции серебра, потому что такое количество серебра по весу тоже перечеканивается в 3 ф. ст. 17 шилл. 10 1/2 пенс. серебряной монеты. Пока отношение стоимости золота к стоимости серебра будет на рынке меньше, чем 15 : 1, как это было в течение многих лет до последнего времени, золотая монета неизбежно останется стандартной мерой стоимости; ведь ни Английский банк, ни какое-либо отдельное лицо не послали бы 15 9/124 унции серебра на Монетный двор для перечеканки в 3 ф. ст. 17 шилл. 10 1/2 пенс., если бы они могли продать это количество серебра на рынке за сумму большую, чем 3 ф. ст. 17 шилл. 10 1/2 пенс. в золотой монете, а они могли бы это сделать при условии, что унцию золота можно купить меньше, чем за 15 унций серебра. Но если отношение стоимости золота и серебра превышает установленное Монетным двором отношение 15 9/124 : 1, то золото не будет посылаться на Монетный двор для чеканки, ибо, поскольку каждый из этих металлов является законным платёжным средством на любую сумму, владелец унции золота не пошлёт её на Монетный двор для перечеканки в 3 ф. ст. 17 шилл. 10 1/2 пенс. золотой монеты, пока он может продать золото, а в подобном случае он это сможет сделать за большую сумму, чем 3 ф. ст. 17 шилл. 10 1/2 пенс. в серебряной монете. Не только золото не будет посылаться на Монетный двор для перечеканки, но торговец, противозаконно торгующий золотом, будет переплавлять золотую монету и продавать её в виде слитков за большую сумму, чем её номинальная стоимость в серебряной монете. Таким образом, золото исчезло бы в этом случае из обращения, и серебро стало бы стандартной мерой стоимости. Так как золото испытало в последнее время значительное повышение стоимости в сравнении с серебром (унция стандартного золота, которая в среднем за много лет равнялась по своей стоимости 14 3/4 унции стандартного серебра, теперь стоит на рынке столько же, сколько 15 1/2, унций), то дело обстояло бы так именно теперь, если бы был отменён закон, ограничивающий права Английского банка по размену банкнот, и была бы допущена такая же свободная чеканка серебра на Монетном дворе, как и золота. Но в парламентском акте 39-го года царствования Георга III имеется следующая статья: "Принимая во внимание, что до тех пор, пока не будут введены меры, признанные необходимыми, могут возникнуть неудобства от чеканки серебра; принимая во внимание, что в силу существующей низкой цены на слитки серебра, вызванной временными обстоятельствами, на Монетный двор доставлено было небольшое количество слитков серебра для перечеканки в монету и есть основание полагать, что в дальнейшем может быть предъявлено ещё некоторое количество его и что поэтому необходимо прекратить на время чеканку серебра, да будет постановлено, что со дня опубликования настоящего закона слитки серебра не должны быть принимаемы для чеканки на Монетном дворе, а также не должна быть выдаваема та серебряная монета, которая могла уже быть в чеканке, несмотря ни на какой закон, противоречащий настоящему". Закон этот и теперь сохраняет свою силу. Могло бы поэтому казаться, что законодательство ставило себе целью признать золото эталоном денежного обращения в нашей стране. Пока этот закон сохраняет свою силу, серебряная монета должна употребляться только для мелких платежей, а для этой цели вполне достаточно находящегося в обращении количества этой монеты. Для должника могло бы быть выгодно уплачивать свои большие долги в серебряной монете, если бы он мог перечеканить слитки серебра в монету, но, не имея возможности сделать это благодаря вышеупомянутому закону, он по необходимости вынужден уплачивать свой долг в золотой монете; последнюю он может получить на Монетном дворе за свои слитки золота в любом размере. Пока этот закон остаётся в силе, золото во всяком случае должно всегда оставаться эталоном денежного обращения. Если бы рыночная стоимость унции золота стала равной стоимости 30 унций серебра, золото оставалось бы всё же мерой стоимости, пока названное запрещение сохраняло бы свою силу. Ровно ничего не изменилось бы для владельца 30 унций серебра оттого, что он узнал бы, что мог когда-то уплатить долг в 3 ф. ст. 17 шилл. 10 1/2 пенс., приобретя 15 9/124 унции серебра для перечеканки в монету на Монетном дворе; ведь в данном случае он всё равно не имел бы других путей погасить свой долг, кроме продажи своих 30 унций серебра по рыночной стоимости, т. е. за унцию золота, или за 3 ф. ст. 17 шилл. 10 1/2 пенс. золотой монеты. Публика несла в различные периоды весьма серьёзные потери от того обесценения обращающихся денег, которое было результатом противозаконной порчи монеты. Пропорционально степени порчи монеты возрастают в своей номинальной стоимости цены всех товаров, на которые можно обменивать монету, не исключая золотых и серебряных слитков. Соответственно этому мы находим, что до перечеканки, произведённой в царствование короля Вильяма III, серебряная монета была испорчена в такой степени, что унция серебра, которая должна была содержаться в 62 пенс., продавалась за 77 пенс., а гинея, которая была оценена на Монетном дворе в 20 шилл., принималась во всех сделках за 30 шилл. Зло это было тогда устранено при помощи перечеканки. Такие же последствия были порождены порчей золотой монеты и были исправлены в 1774 г. тем же самым путём. Наша золотая монета продолжала сохранять почти стандартную пробу 1774 г., но наши серебряные деньги снова подверглись порче. Испытание, произведённое на Монетном дворе в 1798 г., показало, что наши шиллинги оказались на 24%, а шестипенсовики на 38% ниже своей монетной стоимости. Мне сообщили, что после нового испытания, произведённого недавно, они оказались ещё значительно более обесценены. Они не содержат, следовательно, столько чистого серебра, сколько содержали в царствование короля Вильяма. Однако до 1798 г. это ухудшение монеты не сопровождалось такими последствиями, какие мы наблюдали в предыдущем случае. Тогда и золотые и серебряные слитки поднялись в цене пропорционально порче серебряной монеты. Все иностранные вексельные курсы стояли против нас на полные 20%, а некоторые из них ещё выше. Но хотя порча серебряной монеты продолжалась много лет, она до 1798 г. никогда не приводила к повышению ни цены золота, ни цены серебра и не производила никакого воздействия на вексельный курс. Это убедительно доказывает, что золотая монета считалась в течение этого времени стандартной мерой стоимости. Какое-либо ухудшение золотой монеты произвело бы тогда такое же действие на цены золотых и серебряных слитков, а также на вексельные курсы, какое производилось прежде порчей серебряной монеты <когда до перечеканки в 1774 г. порче подверглась золотая монета, то золотые и серебряные слитки поднялись в цене выше своей монетной цены и немедленно понизились, как только золотая монета достигла своего теперешнего совершенства. Вексельные курсы в силу тех же причин превратились из неблагоприятных в благоприятные>. Пока средства обращения различных стран состоят из драгоценных металлов или из бумажных денег, разменных во всякое время на металл, пока металлическое обращение не испорчено обрезыванием и стиранием, паритет этих денег может быть установлен при помощи сравнения их веса и пробы. Так, паритет между Голландией и Англией составляет около 11 флоринов, потому что чистое серебро, которое содержится в 11 флоринах, равняется по весу чистому серебру, содержащемуся в 20 полновесных шиллингах. Этот паритет не устанавливается и не может быть установлен абсолютно; так как в Англии эталоном торгового обращения является золото, а в Голландии - серебро, то фунт стерлингов, или 20/21 гинеи, может в различное время стоить больше или меньше, чем 20 полновесных шиллингов, и поэтому стоить больше или меньше, чем их эквивалент в 11 флоринов. Для нашей цели будет достаточно определить паритет или в серебре, или в золоте. Если я имею долг в Голландии, то, зная паритет, я знаю также количество наших денег, которое необходимо для погашения этого долга. Если мой долг составляет 1 100 флоринов и золото не изменилось в стоимости, то на 100 ф. ст. в нашем чистом золоте можно купить столько голландских денег, сколько необходимо для уплаты моего долга. Вывозя поэтому 100 ф. ст. в монете или (что то же самое) уплатив торговцу слитками 100 ф. ст. в монете и возместив ему издержки, связанные с их транспортом, как фрахт и страховка, а также его прибыль, я покупаю у него вексель, который погасит мой долг, он же вывезет слитки, чтобы дать своему корреспонденту возможность уплатить вексель, когда наступит срок платежа. Эти расходы представляют, таким образом, крайние пределы неблагоприятного вексельного курса. Как бы ни был велик мой долг, - пусть он равняется даже наиболее крупной субсидии, которую когда-либо наша страна давала союзной стране, - всё же, пока я могу платить торговцу слитками монетой установленной стоимости, он будет охотно вывозить слитки и продавать мне векселя. Но, если я буду платить ему за его вексель неполновесной монетой или обесцененными бумажными деньгами, он не пожелает продать мне свой вексель по этой норме, так как, раз монета неполновесна, она не содержит того количества чистого золота или серебра, какое должно содержаться в 100 ф. ст. Торговец слитками должен будет поэтому вывезти дополнительное количество таких испорченных монет, чтобы иметь возможность оплатить мой долг в 100 ф. ст. или их эквивалент в 1 100 флоринов. Если я плачу ему бумажными деньгами, то, не имея возможности послать их за границу, он рассчитает, может ли он на них купить столько золота или серебра в слитках, сколько содержится в той монете, заместителем которой являются бумажные деньги. Если это окажется возможным, то бумажные деньги будут для него так же приемлемы, как монеты, если же нет, он будет рассчитывать на дальнейшую премию за свой вексель, равную по своей величине обесценению бумажных денег. Итак, пока обращающиеся деньги состоят из полновесной монеты или из бумажных денег, разменных по предъявлению на полновесную монету, вексельный курс может быть выше или ниже паритета только на сумму расходов по пересылке драгоценных металлов. Если же в обращении находятся обесцененные бумажные деньги, то вексельный курс неизбежно понизится пропорционально степени их обесценения. Таким образом, вексельный курс является достаточно точным критерием для суждения о степени порчи обращающихся денег, происходящей или от обрезывания монеты, или от обесценения бумажных денег. Сэр Джемс Стюарт замечает, что "если бы наша мера длины - фут - была изменена сразу во всей Англии путём увеличения или уменьшения его на соответственную часть его установленной длины, то это изменение можно было бы лучше всего раскрыть путём сравнения нового фута с парижским футом или футом какой-нибудь другой страны, который не подвергся бы никакому изменению. Точно так же если бы фунт стерлингов, который является английской денежной единицей, оказался изменённым и если бы изменение, которому он подвергся, было трудно определить в силу осложнившихся условий, то лучшим путём для определения этого изменения было бы сравнение прежней и настоящей его стоимости с деньгами других наций, которые не испытали никакого изменения; вексельный курс выполняет это с наибольшей точностью" <James Stuart, An Inquiry into the Principles of Political Economy, London 1767, v. I, p. 534. В другом месте автор говорит: "Вексельный курс является поэтому, по моему скромному мнению, одним из лучших мерил для определения стоимости теперешнего фунта стерлингов" (р. 570)>. Критик "Edinburgh Review", говоря о памфлете лорда Кинга <"Мысли об ограничении размена банкнот на звонкую монету", июль 1803>, замечает: "Из того, что наш ввоз всегда состоит частью из слитков, ещё не следует, что торговый баланс всегда будет в нашу пользу. Слитки, - говорит он, - представляют товар, спрос на который, как и на всякий другой товар, изменчив и который может войти, как и всякий другой товар, в перечень ввозных или вывозных товаров. Этот вывоз или ввоз слитков не будет воздействовать на движение вексельного курса иным путём, чем вывоз или ввоз каких-нибудь других товаров". Никто не вывозит и не ввозит слитков, не справившись раньше с уровнем вексельного курса. Только при помощи этого уровня можно определить относительную стоимость слитков в двух странах, между которыми устанавливается вексельный курс, поэтому торговец слитками осведомляется об уровне вексельного курса таким же точно образом, как другие купцы знакомятся с прейскурантом, раньше чем они решают вопрос о вывозе или ввозе других товаров. Если 11 флоринов в Голландии содержат такое же количество чистого серебра, как 20 полновесных шиллингов, то серебряный слиток, равный по весу 20 полновесным шиллингам, никогда не будет вывезен из Лондона в Амстердам, пока вексельный курс находится на уровне паритета или неблагоприятен для Голландии. С вывозом его необходимо сопряжены некоторые расходы и риск, а термин "паритет" как раз и означает, что в Голландии путём покупки векселя и без всяких других издержек можно получить определённое количество серебра в слитках такого же веса и чистоты. Кто будет посылать слитки в Голландию с издержками в 3 или 4%, когда, покупая вексель по паритету, он в действительности получает приказ на доставку своему корреспонденту в Голландию слитка такого же веса, какой он готов был послать? Столь же резонно было бы утверждать, что если цена хлеба в Англии выше, чем на континенте, то хлеб, несмотря на все расходы по его вывозу, будет послан туда, чтобы быть проданным на более дешёвом рынке. Отметив уже выше расстройства, которым подвергается металлическое обращение, я перейду теперь к рассмотрению тех из них, которые, хотя и не вызываются испорченным состоянием золотой или серебряной монеты, тем не менее более серьёзны по своим конечным результатам. Наши средства обращения почти целиком состоят из бумажных денег, и нам следует наблюдать за обесценением последних с такой же бдительностью, как за обесценением металлических, а именно это мы упустили из виду. Парламент, ограничив права Английского банка платить наличными, дал возможность директорам этого учреждения увеличивать или уменьшать по своему произволу количество и сумму банкнот, а так как этим путём были устранены существовавшие прежде препятствия к излишнему выпуску банкнот, то директора приобрели тем самым власть увеличивать или уменьшать стоимость бумажных денег. Я прослежу существующее зло до самого его источника и докажу наличие его при помощи двух безошибочных критериев, которые я упомянул выше, а именно вексельного курса и цены слитков. Я использую при этом отчёт г-на Торнтона о деятельности Английского банка до приостановки размена, чтобы доказать, что Английский банк явно действовал сообразно с тем принципом, признание которого было подчёркнуто самим г-ном Торнтоном, а именно, что стоимость банкнот зависит от их количества и что банк устанавливал колебания в их стоимости при помощи только что указанных мною критериев. Г-н Торнтон говорит: "Когда вексельный курс страны становился иногда столь неблагоприятным, что вызывал существенное превышение рыночной цены золота над его монетной ценой, то директора Английского банка, как это явствует из показаний, данных некоторыми из них перед парламентом, бывали расположены прибегать к уменьшению количества банкнот, как к способу уменьшения или устранения повышения цены золота, заботясь, таким образом, о безопасности своего учреждения. Сверх того они всегда держались обыкновения соблюдать известные границы при выпуске своих банкнот в силу тех же благоразумных оснований". И в другом месте он говорит: "Когда цена, которой наша монета может достигнуть в чужих странах, такова, что вызывает искушение вывозить её из королевства, директора банка, естественно, уменьшали до некоторой степени количество своих банкнот из опасения за безопасность своего учреждения. Уменьшая количество банкнот, они повышают их стоимость, а повышая их стоимость, они повышают также стоимость обращающейся в Англии монеты, которая обменивается на них. Таким образом, стоимость нашей золотой монеты сама приспособляется к стоимости обращающихся банкнот, а последним директора банка придают такую стоимость, какая необходима, чтобы предупредить значительный вывоз; эта стоимость иногда выше, иногда несколько ниже цены, по которой сбывается наша монета за границей". Итак, Английский банк, сознавая необходимость обеспечить безопасность своего учреждения, всегда предупреждал, до издания закона об ограничении оплаты наличными, чрезмерно обильные выпуски бумажных денег. Так, мы находим, что в течение 23-летнего периода до прекращения платежей звонкой монетой в 1797 г. средняя цена золотых слитков составляла 3 ф. ст. 17 шилл. 7 3/4 пенса за унцию, приблизительно на 2 3/4 пенса ниже их монетной цены, а в течение 16 лет, до 1774 г., она никогда не была значительно выше 4 ф. ст. за унцию. Следует вспомнить, что в течение этих 16 лет наша золотая монета пострадала от снашивания и 4 ф. ст. такой стёртой монеты не весили поэтому, вероятно, столько, сколько унция золота, на которую они обменивались. Д-р А. Смит рассматривает всякое постоянное превышение рыночной цены золота над монетной как следствие состояния звонкой монеты. Пока монета сохраняет свой стандартный вес и чистоту, рыночная цена золотых слитков, по его мнению, не может намного превзойти монетную цену. Г-н Торнтон утверждает, что это не может быть единственной причиной. "Мы испытали, - говорит он, - в последнее время колебания в наших вексельных курсах и соответствующие изменения на рынке сравнительно с монетной ценой золота, составлявшие не менее 8 или 10%, в то время как состояние нашей монеты во всех отношениях оставалось неизменным". Г-н Торнтон должен был принять во внимание, что в ту пору, когда он писал, Английскому банку нельзя было предъявлять банкноты для обмена на звонкую монету и что именно это являлось той причиной обесценения денег, которой д-р Смит не мог предвидеть. Если бы г-н Торнтон доказал, что в цене золота произошло колебание в 10%, в то время когда банк оплачивал свои банкноты звонкой монетой, и что монета была полновесной, то лишь в этом случае он доказал бы, что д-р Смит трактовал этот важный вопрос недостаточно и неудовлетворительно. <До тех пор, пока монеты из обоих металлов являются законным платёжным средством и нет никаких запрещений чеканки обоих металлов, превышение рыночной цены над монетной ценой золотых или серебряных слитков может быть вызвано изменением в относительной стоимости этих металлов, но вызванное этой причиной превышение рыночной цены над монетной будет сейчас же замечено, так как оно коснётся цены только одного из этих металлов. Таким образом, золото было бы равно или ниже монетной цены, когда серебро было бы выше, или серебро было бы равно или ниже своей монетной цены, когда золото было бы выше. В самом конце 1795 г., когда Английский банк имел в обращении значительно больше банкнот, чем в каком-либо предыдущем или последующем году, т. е. когда уже начались его затруднения и он, повидимому, отказался от всякого благоразумия в ведении своих дел и сделал своим единственным директором г-на Питта, цена золотых слитков на короткое время возросла до 4 ф. ст. 3 шилл. или 4 ф. ст. 4 шилл. за унцию. Однако директора всё же имели некоторые опасения насчёт последствий. В докладной записке, посланной г-ну Питту, датированной октябрём 1795 г., они констатируют, что "спрос на золото, повидимому, не очень скоро прекратится" и что "это возбудило сильную тревогу на собрании директоров", и затем замечают: "То обстоятельство, что нынешняя цена золота составляет от 4 ф. ст. 3 шилл. до 4 ф. ст. 4 шилл. <трудно решить, на чем основано это утверждение, так как согласно отчету, представленному недавно в парламент, они покупали, повидимому, в течение 1795 г. золотые слитки не дороже 3 ф. ст. 17 шилл. 6 пенс.> за унцию и наши гинеи покупаются за 3 ф. ст. 17 шилл. 10 1/2 пенс., ясно показывает, на чём основаны наши опасения; необходимо только указать на эти факты канцлеру казначейства". Следует отметить, что в бюллетене Уайттенголла цена золота ни разу не отмечалась в течение всего года выше его монетной цены. В декабре оно котируется в нём по 3 ф. ст. 17 шилл. 4 пенса.]>. Но так как в настоящее время все препятствия против излишних выпусков Английского банка устранены парламентским актом, запрещающим оплату банкнот наличностью, то директора банка уже не связаны больше "опасениями за безопасность своего учреждения" и могут не ограничивать количество своих банкнот суммой, при которой они сохраняли бы ту же стоимость, что и стоимость монеты, ими представляемой. Соответственно этому мы находим, что золотые слитки поднялись в цене с 3 ф. ст. 17 шилл. 7 3/4 пенс., средней цены их до 1797 г., до 4 ф. ст. 10 шилл., а в последнее время даже до 4 ф. ст. 13 шилл. за унцию. Итак, мы можем с полным основанием сделать вывод, что разница в относительной стоимости, или, другими словами, падение действительной стоимости банкнот, было вызвано слишком обильным количеством их, которое было выпущено банком в обращение. Та самая причина, которая вызвала разницу в 15-20% в стоимости банкнот в сравнении с золотыми слитками, может привести к возрастанию этой разницы до 50%. Для обесценения, которое может произойти от постоянного увеличения количества бумажных денег, нет никаких пределов. Стимул, который излишние средства обращения дают вывозу монеты, приобрёл новую силу, но не может, как прежде, устранить себя сам. Мы имеем в обращении только такие бумажные деньги, которые необходимо ограничиваются пределами нашей страны. Всякое возрастание их количества снижает их стоимость ниже стоимости золотых и серебряных слитков и ниже стоимости денежного обращения других стран. Результат получается такой же точно, к какому привело бы обрезывание нашей монеты. Если бы от каждой гинеи была отделена 1/5, то рыночная цена золотых слитков поднялась бы на 1/5 выше монетной цены. Вес 44 1/2 гинеи (число гиней, которое весит один фунт и потому называется монетной ценой) уже не составлял бы больше один фунт; следовательно, только количество их, большее на 1/5, или около 56 ф. ст., было бы ценою фунта золота, а разность между рыночной и монетной ценой, между 56 ф. ст. и 46 ф. ст. 14 шилл. 6 пенс., была бы мерой обесценения. Если бы такая неполновесная монета продолжала называться гинеей и если бы стоимость золотых слитков и всех других товаров измерялась в неполновесной монете, то гинея, только что выпущенная из Монетного двора, считалась бы стоящей 1 ф. ст. 5 шилл., и такая сумма была бы дана за нее торговцем-спекулянтом, но при этом произошло бы не увеличение стоимости новой гинеи, а падение стоимости неполновесных гиней. Это стало бы сейчас же очевидно, если бы было издано распоряжение, позволяющее обращение неполновесных гиней только по установленному весу и по монетной цене в 3 ф. ст. 17 шилл. 10 1/2 пенс. Это означало бы, что новые и тяжёлые гинеи стали бы стандартной мерой стоимости вместо обрезанных и неполновесных гиней. Последние обращались бы тогда по их настоящей стоимости и назывались бы 17- или 18-шиллинговыми монетами. Точно так же если бы можно было издать теперь постановление, преследующее ту же цель, то банкноты не перестали бы обращаться, но стоили бы не больше, чем стоимость золотого слитка, который можно было бы на них купить. Тогда нельзя было бы сказать, что стоимость гинеи составляет 1 ф. ст. 5 шилл., но банкнота в 1 ф. ст. обращалась бы только по стоимости в 16 или 17 шилл. В настоящее время золотая монета есть только товар, а банкноты - стандартная мера стоимости, но в случае издания такого постановления золотые монеты были бы этой мерой, а банкноты сделались бы рыночным товаром. "Именно постоянство наших общих вексельных курсов, - говорит г-н Торнтон, - или, другими словами, совпадение монетной цены со слитковой ценой золота, является, повидимому, настоящим доказательством, что обращающиеся банкноты не испытали обесценения". Когда стимул к вывозу золота налицо, то, пока Английский банк не платит наличными и золото поэтому не может быть получено по его монетной цене, незначительное количество его, которое может быть получено, будет собираться для вывоза и банкноты будут продаваться за золото только с вычетом, пропорциональным их излишку. Говоря, однако, что золото продаётся по высокой цене, мы ошибаемся: не золото, а бумажные деньги изменили свою стоимость. Если мы сравним унцию золота, или 3 ф. ст. 17 шилл. 10 1/2 пенс., с товарами, то окажется, что она находится к ним в таком же отношении, как и прежде, а если этого нет, то это объясняется возросшим обложением или какой-либо другой из тех причин, которые постоянно влияют на их стоимость. Но если мы сопоставим сумму в 3 ф. ст. 17 шилл. 10 1/2 пенс. в банкнотах, являющуюся заместителем унции золота, с товарами, то мы обнаружим обесценение банкнот. На любом рынке мира я вынужден расстаться с 4 ф. ст. 10 шилл. в банкнотах, чтобы купить то же самое количество товаров, которое я могу получить за золото, содержащееся в 3 ф. ст. 17 шилл. 10 1/2 пенс. монеты. Часто утверждали, что гинея в Гамбурге стоит 26 или 28 шилл., но мы очень сильно обманулись бы, если бы сделали на этом основании вывод, что гинея может быть продана в Гамбурге за такое же количество серебра, какое содержится в 26 или 28 шилл. До изменения в относительной стоимости золота и серебра гинея не могла бы быть продана в Гамбурге за столько серебра, сколько содержится в 21 полновесном шиллинге; по нынешней же рыночной цене гинея продаётся за такую сумму серебряной монеты, которая, будучи ввезена и передана в наш Монетный двор для чеканки, дала бы в нашей стандартной серебряной монете 21 шилл. 5 пенс. <Относительная стоимость золота и серебра на континенте почти такая же, как в Лондоне.> И всё же несомненно, что то же самое количество серебра покупает в Гамбурге вексель, по которому в Лондоне уплачивается в банкнотах 26 или 28 шилл. Можно ли привести более удовлетворительное доказательство обесценения наших денег? Говорят, что если бы законопроект, ограничивающий размен, не вошёл в силу, то все гинеи уплыли бы из страны <при этом имеют, очевидно, в виду, что из страны ушли бы все гинеи, находящиеся в Английском банке: ведь такого искушения, как 15% , вполне достаточно, чтобы вывезти из страны все те гинеи, которые могут быть извлечены из обращения>. Это, без сомнения, верно, но если бы Английский банк стал уменьшать количество своих банкнот до тех пор, пока стоимость их не возросла на 15%, запрещение размена могло бы быть отменено без всякого опасения, так как не было бы никакого искушения вывозить звонкую монету. Но как бы долго ни откладывалась такая мера, как бы велико ни было обесценение банкнот, Английский банк сможет восстановить платежи наличными лишь при условии, что он сведёт количество своих банкнот, находящихся в обращении, до этих пределов. Все писатели по вопросам политической экономии признают, что закон представляет бесполезный барьер против вывоза гиней; его так легко обойти, что сомнительно, чтобы он удержал в Англии хотя бы на одну гинею больше, чем их осталось бы там без этого закона. Г-н Локк, сэр Джемс Стюарт, д-р А. Смит, лорд Ливерпуль и г-н Торнтон - все сходятся на этот счёт. Последний замечает, что существующее "британское законодательство бесспорно способствует ослаблению и ограничению вывоза гиней, хотя и не может действительно помешать ему: вывоз поощряется неблагоприятным торговым балансом, и изданные законы могут разве что слегка сократить его, когда прибыль от вывоза становится очень большой". К тому же, после того как каждая гинея, которая при настоящем положении вещей может быть получена спекулянтом, будет переплавлена и вывезена, последний будет колебаться открыто покупать гинеи за банкноты с премией, потому что, хотя такая спекуляция принесёт ему значительную прибыль, он навлечёт на себя таким путём подозрение. За ним смогут следить и помешать ему осуществить свою цель. Так как наказание, установленное законом, сурово, а искушение для осведомителей велико, то для таких операций необходима тайна. Если можно получать гинеи путём одной лишь отсылки банкнот в Английский банк, то закон легко обойти, но если необходимо собирать их открыто, извлекая их при этом из широких кругов обращения, состоящего почти целиком из бумажных денег, то выгода, получаемая при этом, должна быть очень значительна, чтобы кто-нибудь решился пойти на риск быть пойманным с поличным. Если мы примем во внимание, что в течение настоящего царствования было отчеканено гиней на сумму около 60 млн. ф. ст., то мы можем составить себе некоторое представление о размерах, которые должен был принять вывоз золота. Но отмените закон против вывоза гинеи, разрешите открыто вывозить их из страны, и что может помешать продаже унции стандартного золота в гинеях за такую же хорошую цену в банкнотах, за какую продаётся унция португальской золотой монеты или унция стандартного золота в слитке, раз известно, что гинея равняется им по своей пробе? И если унция стандартного золота в гинеях будет продаваться на рынке по 4 ф. ст. 10 шилл., т. е. по теперешней цене стандартного золота в слитках или по его недавней цене 4 ф. ст. 13 шилл., то какой торговец будет продавать свои товары по одной и той же цене безразлично за золото или банкноты? Если бы цена сюртука составляла 3 ф. ст. 17 шилл. 1/2 пенс., или одну унцию золота, и если бы в то же время унция золота продавалась за 4 ф. ст. 13 шилл. в банкнотах, то можно ли себе представить, чтобы портному было безразлично, заплатят ли ему золотом или банкнотами? Только потому, что за гинею можно купить не больше, чем за билет в 1 ф. ст. и 1 шилл., многие колеблются признать, что банкноты подверглись обесценению. То же мнение защищает и "Edinburgh Review", но если моя аргументация правильна, то я доказал, что подобные возражения не имеют основания. Г-н Торнтон сказал нам, что неблагоприятный торговый баланс объясняет неблагоприятный вексельный курс, но мы уже видели, что влияние неблагоприятного торгового баланса, - если это выражение точно, - на вексельный курс ограничено и не превышает, вероятно, 4 или 5%. Это не может объяснить обесценение в 15 или 20%. Далее г-н Торнтон говорит, и я вполне согласен с ним, что "можно установить как общую истину, что вывоз и ввоз какого-либо государства, естественно, стремятся прийти в какой-то мере в соответствие друг с другом, в силу чего его торговый баланс не может быть в течение очень долгого времени либо очень благоприятным, либо очень неблагоприятным". Так вот, низкий вексельный курс далеко не является временным и существовал ещё до того, как г-н Торнтон писал это в 1802 г.; с тех пор этот курс падал всё ниже, и в данное время он на 15-20% против нас. Следовательно, в согласии с собственными принципами г-н Торнтон должен приписать это падение какой-нибудь более постоянной причине, чем неблагоприятный торговый баланс; я не сомневаюсь в том, что, каково бы ни было его прежнее мнение, он теперь согласится, что это падение вексельного курса может быть объяснено только обесценением средств обращения. Нельзя дальше, думается мне, оспаривать, что банкноты подвергались обесценению. Пока цена золотых слитков составляет 4 ф. ст. 10 шилл. за унцию или, другими словами, пока любой человек соглашается отдать за 1 унцию золота то, что считается обязательством уплатить почти за 1 1/6 унции золота, нельзя утверждать, что 4 ф. ст. 10 шилл. в банкнотах и 4 ф. ст. 10 шилл. в золоте представляют одну и ту же стоимость. Из унции золота чеканится 3 ф. ст. 17 шилл. 10 1/2 пенс.; обладая этой суммой, я, следовательно, имею унцию золота и не буду давать за неё 4 ф. ст. 10 шилл. в золотой монете или в таких банкнотах, которые я могу немедленно обменять на 4 ф. ст. 10 шилл. Было бы вопреки здравому смыслу полагать, что рыночная стоимость унции золота может выразиться в этой сумме, если, конечно, цена не определяется в обесцененном мериле. Если бы цена золота измерялась в серебре, то цена эта могла бы действительно возрасти до 4, 5 или 10 ф. ст. за унцию, и этот факт был бы доказательством не обесценения бумажных денег, а изменения в относительной стоимости золота и серебра. Однако я, думается мне, доказал, что серебро не является стандартной мерой стоимости и потому не может быть мерилом, которым измеряется стоимость золота. Но если бы серебро и было таковым, то, поскольку унция золота стоит на рынке 15 1/2 унций серебра, а 15 1/2 унций серебра равняются по весу ровно 80 шилл. и перечеканиваются именно в 80 шилл., унция золота не может быть продана больше чем за 4 ф. ст. Таким образом, те, кто утверждает, что серебро есть мера стоимости, окажутся не в состоянии доказать, что увеличение спроса на золото в любом размере, каковы бы ни были его причины, может поднять его цену выше 4 ф. ст. за унцию. Всё, что превышает эту цену, должно быть названо в согласии с их собственными принципами обесценением стоимости банкнот, а из этого следует, что если бы банкноты были представителями серебряной монеты, то унция золота, продающаяся теперь за 4 ф. ст. 10 шилл., продавалась бы за количество банкнот, представляющих 17 1/2 унций серебра, в то время как на слитковом рынке она могла бы быть обменена только за 15 1/2 унций. Иначе говоря, 15 1/2 унций серебра в слитках были бы равны по своей стоимости обязательству Английского банка уплатить предъявителю 17 1/2 унций. Рыночная цена серебра, оцениваемого в банкнотах, составляет в настоящее время 5 шилл. 9 1/2 пенс. за унцию, тогда как монетная цена его равняется только 5 шилл. 2 пенс., из чего следует, что стандартное серебро в 100 ф. ст. стоит больше, чем 112 ф. ст. в банкнотах. Но банкноты, скажут нам, пожалуй, являются представителями нашей неполноценной серебряной монеты, а не нашего стандартного серебра. Это неверно, потому что закон, который я уже цитировал, объявляет серебро законным платёжным средством только для сумм, не превышающих 25 ф. ст., исключая платежи по весу. Если бы банк настаивал на уплате держателю банкноты в 1 тыс. ф. ст. серебряной монетой, он был бы обязан дать ему или стандартное серебро полного веса, или же неполновесное серебро равной стоимости, за исключением лишь 25 ф. ст., которые банк мог бы выплатить неполновесной монетой. Но 1 тыс. ф. ст., составленная, таким образом, из 975 ф. ст. полновесных денег и 25 ф. ст. неполновесных, стоит больше, чем 1 112 ф. ст. по теперешней рыночной стоимости серебряных слитков. Говорят, что количество банкнот возросло не в большей пропорции, чем этого требовало увеличение нашей торговли, а потому не может быть чрезмерным. Это утверждение было бы трудно доказать, но если бы оно было верно, то, опираясь на него, можно было бы развить только ошибочную аргументацию. Во-первых, повседневный прогресс, который мы совершаем в искусстве экономного потребления средств обращения благодаря усовершенствованию банковских методов, сделал бы чрезмерным то самое количество банкнот, которое было необходимо для того же уровня торговли в прежнее время. Во-вторых, существует постоянное соперничество между Английским банком и провинциальными банками, стремящимися внедрить в оборот свои банкноты в ущерб банкнотам своих соперников, в каждом округе, где учреждены провинциальные банки, а так как число их более чем удвоилось в точение очень немногих лет, то не вероятно ли, что их деятельность увенчалась успехом и им удалось вытеснить своими банкнотами множество банкнот Английского банка? Если бы это произошло, то в настоящее время оказалось бы чрезмерным то же самое количество банкнот Английского банка, которое в прежнее время при менее развитой торговле было едва достаточно, чтобы держать денежное обращение нашей страны на одном уровне с денежным обращением других стран. Нельзя поэтому сделать правильное заключение, исходя из нынешнего количества находящихся в обращении банкнот; я не сомневаюсь, однако, в том, что если бы факты были исследованы, то мы нашли бы, что увеличение количества банкнот и высокая цена золота обычно сопровождали друг друга. Обычно сомневаются в том, что лишние 2 или 3 млн. банкнот (прибавленные, как предполагают, Английским банком к обращению сверх той суммы, какую оно может легко вынести) могли иметь те последствия, какие им приписывают. Но следует вспомнить, что Английский банк регулирует количество средств обращения всех провинциальных банков, а если Английский банк увеличивает свою эмиссию на 3 млн., то это даёт, вероятно, возможность провинциальным банкам увеличить общее обращение Англии больше чем на 3 млн. Деньги отдельной страны распределяются между различными её областями на основании тех же правил, на основании которых деньги всего мира распределяются между различными нациями, из которых он состоит. Каждый округ будет удерживать в своём обращении часть денег страны, пропорциональную требованиям его торговли, а следовательно, и доле его платежей, в общей торговле всей страны; никакое увеличение количества обращающихся денег не может также иметь места в каком-либо округе, не распространяя своё действие повсюду или не вызывая пропорционального возрастания их количества во всяком другом округе. Именно это обстоятельство поддерживает всегда стоимость провинциальной банкноты на том же уровне, что и стоимость банкнот Английского банка. Если бы в Лондоне, где обращаются только банкноты Английского банка, к количеству их, находящемуся в обращении, был прибавлен 1 млн., то или средства обращения стали бы здесь дешевле, чем в другом месте, или товары стали бы дороже; поэтому из провинции стали бы посылать товары на лондонский рынок, чтобы продать их там по высоким ценам, или, что более вероятно, провинциальные банки использовали бы относительный недостаток средств обращения в провинции и увеличили бы число своих банкнот в той же самой пропорции, в которой это сделал Английский банк, а это означало бы общее, а не частичное воздействие на цены. Таким же манером, если бы количество банкнот Английского банка уменьшилось на 1 млн., увеличилась бы сравнительная стоимость средств обращения в Лондоне, а цены товаров уменьшились бы. Банкнота Английского банка стоила бы тогда больше, чем провинциальная банкнота, потому что на неё был бы предъявлен спрос с целью купить товары на дешёвом рынке; так как провинциальные банки обязаны выдавать банкноты Английского банка по требованию в обмен на свои собственные, то к ним предъявляли бы спрос на банкноты Английского банка, и это длилось бы до тех пор, пока количество провинциальных банкнот не было бы сведено к той же самой доле, какую оно составляло прежде по отношению к лондонским банкнотам, что вызвало бы в результате соответствующее падение цен всех товаров, на которые банкноты обменивались. Провинциальные банки могут увеличить количество своих банкнот лишь в том случае, когда необходимо восполнить относительный недостаток средств обращения в провинции, вызванный возросшей эмиссией Английского банка <они могли бы в некоторых случаях замещать банкноты Английского банка, но это соображение не имеет отношения к вопросу, который мы теперь исследуем>. Если бы они попытались сделать это, то же самое препятствие, которое заставляло Английский банк извлечь часть своих банкнот из обращения, когда он оплачивал их наличными по требованию, вынудило бы провинциальные банки идти по тому же пути. Благодаря возросшему количеству их банкноты потеряли бы в стоимости по сравнению с банкнотами Английского банка, точно так же как банкноты Английского банка потеряли бы в стоимости в сравнении с гинеями, которые они представляют. Они, следовательно, обменивались бы на банкноты Английского банка до тех пор, пока не сравнялись бы с ними в стоимости. Английский банк является великим регулятором провинциального бумажно-денежного обращения. Когда он увеличивает или уменьшает количество своих банкнот, провинциальные банки следуют за ним, но ни при каких условиях не могут они увеличить общее обращение, если только Английский банк не увеличит предварительно количество своих банкнот. Утверждают, что не цена золотых или серебряных слитков, а норма процента является критерием для суждения об изобилии бумажных денег, так как если бы последние имелись в слишком обильном количестве, то процент упал бы, а если бы в недостаточном, то повысился бы. По моему мнению, можно доказать с полной очевидностью, что норма процента регулируется не изобилием или недостатком денег, а изобилием или недостатком той части капитала, которая не состоит из денег. "...Деньги, - замечает д-р А. Смит, - это великое колесо обращения, это великое орудие обмена и торговли, хотя и составляют, наравне с другими орудиями производства, часть, и притом весьма ценную часть, капитала, не входят какою бы то ни было частью в доход общества, которому они принадлежат. И хотя монеты, из которых они состоят, в течение своего годового обращения доставляют каждому человеку следуемый ему доход, сами они в этот доход не входят" <Адам Смит, Исследование о природе и причинах богатства народов, т. I, стр. 243. - Прим. ред.>. "При определении количества производительного труда, которое может занимать оборотный капитал общества, мы всегда должны принимать во внимание только те его части, которые состоят из предметов продовольствия, материалов и готовых изделий: остальную часть, состоящую из денег и служащую только для обращения первых трёх частей, всегда следует вычитать из него. Для того чтобы привести в движение промышленную деятельность, необходимы три вещи: материалы для переработки, инструменты и орудия производства, при помощи которых работают, и заработная плата, или вознаграждение, ради которой выполняется работа. Деньги не представляют собою ни материала для работы, ни орудий, при помощи которых работают; и хотя заработная плата рабочего выплачивается ему обычно деньгами, его реальный доход, как и доход остальных людей, состоит не в деньгах, а в стоимости этих денег, не в металлических монетах, а в том, что можно получить за них" <Адам Смит, Исследование о природе и причинах богатства народов, т. I, стр. 247. - Прим. ред.>. И в других частях своего сочинения Смит доказывает, что открытие копей в Америке, которое в такой большой степени увеличило количество денег, не уменьшило процента за пользование ими, ибо норма процента регулируется прибылью, получаемой при использовании капитала, а не числом или качеством металлических монет, которые употребляются при обращении продуктов этого капитала. Юм придерживался того же мнения. Стоимость средств обращения каждой страны находится в известном отношении к стоимости приводимых ими в обращение товаров. В одних странах это отношение гораздо больше, чем в других, а в некоторых случаях оно изменяется в той же самой стране. Оно зависит от быстроты обращения, от степени доверия и объёма кредита в деловом мире и больше всего от разумной работы банков. В Англии было принято так много способов экономии в пользовании средствами обращения, что стоимость их в сравнении со стоимостью товаров, которые они приводят в обращение, сведена, вероятно (в период доверия <я желал бы, чтобы в дальнейшем для читателя было ясно, что я предполагаю одну и ту же степень доверия и кредита существующей всегда>), к самой небольшой доле, какая только возможна практически. Размеры этой доли определяют различно. Никакое увеличение или уменьшение количества средств обращения, состоят ли они из золотых, серебряных или бумажных денег, не может увеличить или уменьшить их стоимость выше или ниже этой доли. Если рудники перестают доставлять количество, необходимое для годичного потребления драгоценных металлов, то стоимость денег повышается и меньшее их количество будет употребляться в качестве средств обращения. Уменьшение их количества будет пропорционально увеличению их стоимости. Таким же образом, если бы были открыты новые рудники, стоимость драгоценных металлов была бы снижена и большее количество их употреблялось бы для обращения, так что в каждом из этих случаев отношение стоимости денег к стоимости товаров, которые они приводят в обращение, оставалось бы неизменным. Если бы в то время, когда Английский банк оплачивал свои банкноты наличными по требованию, руководители его захотели увеличить количество банкнот, они оказали бы незначительное постоянное воздействие на стоимость средств обращения, потому что почти такое же количество монеты было бы извлечено из обращения и вывезено. Если бы Английский банк был освобождён от оплаты своих банкнот звонкой монетой и вся монета была бы вывезена, то всякий излишек его банкнот обесценил бы стоимость средств обращения пропорционально этому излишку. Если бы 20 млн. ф. ст. составляли сумму средств обращения в Англии до приостановки размена и к ним было бы прибавлено 4 млн., то 24 млн. имели бы не большую стоимость, чем имели прежние 20, при условии, что не изменилось бы количество товаров и что не было соответствующего вывоза монеты. Если бы Английскому банку удалось увеличить последовательно добавочную сумму до 50 или 100 млн. ф. ст., то возросшее количество денег было бы поглощено обращением Англии, но во всяком случае обесценилось бы до стоимости 20 млн. Я не оспариваю, что при выпуске Английским банком на рынок большой добавочной суммы банкнот и отдачи их в ссуду этот выпуск на известное время повлиял бы на норму процента. Те же самые результаты последовали бы в случае открытия клада из золотых и серебряных монет. Если бы количество их было велико, то собственник клада не был бы в состоянии ссудить металлические деньги, а Английский банк - банкноты по 4% и, вероятно, даже и выше 3%, но раз это было бы сделано, то ни банкноты, ни металлические деньги не остались бы без употребления в руках заёмщиков. Они были бы отправлены на все рынки и всюду приводили бы к повышению цен товаров до тех пор, пока они не были бы поглощены обращением в целом. Только в течение промежутка между моментом эмиссии и моментом её воздействия на пены могли бы мы заметить изобилие денег; процент держался бы в течение этого времени ниже своего естественного уровня, но, как только добавочная сумма банкнот или денег была бы поглощена всеобщим обращением, норма процента снова повысилась бы и спрос на новые займы снова стал бы таким же настойчивым, как и до дополнительных эмиссий. Обращение никогда не может быть переполненным. Если бы оно состояло из золота и серебра, то всякое увеличение их количества распространилось бы по всему миру. Если бы оно состояло из бумажных денег, то увеличение их количества распространилось бы только в стране, в которой они выпущены в обращение. Их влияние на цены было бы только местным и номинальным, так как иностранные покупатели получали бы компенсацию при помощи вексельных курсов. Предполагать, что какое бы то ни было увеличение эмиссий Английского банка может иметь последствием постоянное понижение нормы процента и удовлетворение спроса всех заёмщиков, так что для новых займов уже не будет приложения, или что производительный золотой или серебряный рудник может иметь такое же действие, значит приписывать средству обращения такую силу, которой оно никогда не может иметь. Если бы это было возможно, то банки действительно стали бы весьма могучими механизмами. Создавая бумажные деньги и ссужая их по 3 или 2%, т. е. ниже существующей рыночной нормы процента, банк уменьшил бы промышленную прибыль в том же отношении. И если бы Английский банк был достаточно патриотичен, чтобы ссужать свои банкноты из процента не более высокого, чем необходимо для оплаты расходов по содержанию банка, то прибыль понизилась бы ещё более. Ни один народ не мог бы конкурировать с нами иначе, как при помощи подобных же средств, и мы завладели бы торговлей всего мира. К каким только абсурдам не привела бы нас такая теория. Прибыль может быть понижена только в результате конкуренции капиталов, не состоящих из средств обращения. Так как увеличение количества банкнот не прибавляет ничего к этому роду капитала, так как оно не увеличивает ни количество пригодных к вывозу товаров, ни количество наших машин или сырых материалов, то оно не может ни прибавить что-либо к нашей прибыли, ни понизить процент <я признал уже, что Английский банк, поскольку он даёт нам возможность превратить нашу монету в "сырые материалы, продовольствие и т. д.", оказывает услугу нации, так как увеличивает этим путём количество производительного капитала, но я говорю здесь об излишке его банкнот, о том количестве, которое прибавляется к нашему обращению, не вызывая соответствующего вывоза монеты, и которое поэтому снижает стоимость банкнот ниже стоимости металла, содержащегося в монете, которую представляют банкноты>. Когда кто-либо занимает деньги с целью начать какое-нибудь производство, он занимает их как средство, при помощи которого он может приобрести "сырые материалы, продовольствие и т. д.", необходимые для ведения этого производства. И раз он может получить необходимое количество материалов и т. п., для него не имеет большого значения, будет ли он вынужден занять 1 тыс. или 10 тыс. монет. Если он займёт 10 тыс., то номинальная стоимость продукта его производства будет в 10 раз больше того, что стоил бы этот продукт, если бы для производства его достаточно было 1 тыс. Капитал, действительно употребляемый в стране, необходимо ограничивается потребным количеством "сырых материалов, продовольствия и т. д." и может быть одинаково производительным, даже если бы торговля велась всецело путём непосредственного обмена, хотя в данном случае это было бы достигнуто не с одинаковой лёгкостью. Последовательные владельцы средств обращения имеют право распоряжения этим капиталом, но как бы ни было обильно количество денег или банкнот, если бы даже оно могло повысить номинальные цены товаров, если бы оно могло распределить производительный капитал в совершенно иных пропорциях, если бы Английский банк, увеличивая количество своих банкнот, мог дать А возможность вести часть дела, находившегося прежде в распоряжении В и С, - всё это ничуть не увеличило бы реальный доход и богатство страны. В и С могут потерпеть убытки, а А и банк могут получить барыш, но они выиграют ровно столько, сколько потеряют В и С. В данном случае произойдёт насильственное и несправедливое перемещение собственности, но общество от этого ничего не выиграет. Вот почему я держусь мнения, что высокая цена фондов не вызывается обесценением нашего денежного обращения. Цена их должна регулироваться общей нормой процента, уплачиваемого за деньги. Если до обесценения я платил за землю 30-кратный доход с неё и 25-кратный за аннуитет в государственных бумагах, то после обесценения я могу дать более значительную сумму на покупку земли, не платя, однако, за неё дохода за большее число лет: ведь продукт земли будет тоже продаваться в результате обесценения за более значительную номинальную стоимость; но так как аннуитет в государственных бумагах будет выплачиваться обесцененными деньгами, то у меня нет никакого основания платить за него после обесценения более значительную номинальную стоимость, чем до обесценения. Если бы гинеи потеряли половину своей настоящей стоимости благодаря обрезыванию, то стоимость каждого товара, так же как и земли, повысилась бы вдвое в сравнении с их настоящей номинальной стоимостью; но так как процент с государственных бумаг уплачивался бы в неполновесных гинеях, то они не испытали бы на этом основании никакого повышения. Средство, которое я предлагаю против всех зол нашего денежного обращения, состоит в том, что Английский банк должен постепенно уменьшать количество своих банкнот в обращении до тех пор, пока ему не удастся уравнять стоимость остатка (банкнот) со стоимостью монеты, которую они представляют, или другими словами, пока цены золотых и серебряных слитков не сравняются с их монетной ценой. Я хорошо знаю, что полное банкротство бумажно-денежных кредитных обязательств сопровождалось бы самыми гибельными последствиями для промышленности и торговли и что даже их внезапное ограничение причинило бы столько разорения и нищеты, что было бы в высшей степени нецелесообразно обращаться к такому средству восстановить истинную и справедливую стоимость нашего денежного обращения. Если бы Английский банк имел в своём распоряжении больше гиней, чем он имеет банкнот в обращении, то он не мог бы, не нанося большого ущерба стране, оплачивать свои банкноты звонкой монетой, в то время как цена золотых слитков продолжала бы значительно превышать их монетную цену и иностранные вексельные курсы были бы для нас неблагоприятны. Излишек нашего денежного обращения был бы обменен в банке на гинеи, вывезен и таким образом внезапно извлечён из обращения. Следовательно, прежде чем банк сможет без риска платить наличными за банкноты, следует постепенно извлечь излишек их из обращения. Если это будет сделано постепенно, то будет ощущаться лишь незначительное неудобство, так что если бы этот принцип был открыто признан, то в дальнейшем надо было бы решить, следует ли его осуществить в течение одного года или пяти лет. Я вполне убеждён, что мы сможем вернуть наше денежное обращение к его надлежащему состоянию только с помощью этого предварительного шага. Иначе мы рискуем окончательным крахом нашего бумажно-денежного кредита. Если бы директора Английского банка удерживали количество своих банкнот в разумных пределах, если бы они действовали согласно тому принципу, который, по собственному их признанию, регулировал их эмиссии тогда, когда они обязаны были оплачивать банкноты звонкой монетой, а именно ограничивали бы число своих банкнот такой суммой, которая не допускала бы превышения рыночной цены золота над монетной, мы не подвергались бы теперь всем бедствиям обесцененного и постоянно изменяющегося денежного обращения. Хотя Английский банк извлекает значительные выгоды из настоящей системы, хотя цена его основного капитала почти удвоилась с 1797 г. и дивиденд его пропорционально возрос, я готов допустить вместе с г-ном Торнтоном, что в качестве владельцев денег директора его терпят, как и другие люди, потери от обесценения денежного обращения и что эти потери гораздо более серьёзны для них, чем все выгоды, которые они могут получить от обесценения в качестве собственников банковского капитала. Я поэтому оправдываю их от обвинения, что они действуют под влиянием корыстных мотивов, но их ошибки - если это ошибки - не менее гибельны для общества по своим последствиям. Чрезвычайные полномочия, которыми они облечены, дают им возможность регулировать по своему произволу цену, по которой те, кто обладает особым родом собственности, называемой деньгами, могут располагать ими. Директора банка переложили на этих держателей денег все тягости максимума. Сегодня им угодно, чтобы 4 ф. ст. 10 шилл. шли за 3 ф. ст. 17 шилл. 10 1/2 пенс., завтра они могут низвести к той же самой стоимости 4 ф. ст. 15 шилл., а в следующем году 10 ф. ст. будут, может быть, стоить не больше. Насколько, однако, непрочною является собственность, состоящая из денег или аннуитетов, выплачиваемых в деньгах! Какую гарантию имеет государственный кредитор, что проценты по государственному долгу, которые выплачиваются теперь в деньгах, обесцененных на 15%, не будут выплачиваться в дальнейшем в деньгах, потерявших 50%? Для частных кредиторов ущерб не менее серьёзен. Долг, заключённый в 1797 г., может быть оплачен теперь суммой, составляющей 85% его величины, и кто может сказать, что обесценение не будет продолжаться дальше? Следующие замечания д-ра Смита на эту тему столь важны, что я не могу не рекомендовать их серьёзному вниманию всех мыслящих людей. "Изменение объявленной стоимости монеты в сторону повышения служило наиболее употребительным средством, при помощи которого фактическому государственному банкротству придавался вид уплаты долгов. Если, например, монета в 6 пенсов объявлялась актом парламента или королевским указом стоящей столько, сколько шиллинг, а двадцать шестипенсовых монет - сколько фунт стерлингов, то лицо, которое заняло, при прежнем обозначении монеты, 20 шилл., или около 4 унций серебра, заплатит при новом обозначении свой долг двадцатью шестипенсовыми монетами, или немного менее, чем 2 унциями. Национальный долг в размере около 128 млн., почти равный капиталу консолидированного и неконсолидированного долга Великобритании, можно было бы таким путём погасить уплатой 64 млн. нашими теперешними деньгами. Но на самом деле это была бы фиктивная уплата, и кредиторы государства были бы фактически ограблены в размере 10 шилл. с каждого фунта, должного им. При этом бедствие распространилось бы дальше круга кредиторов государства - такую же потерю понесли бы и кредиторы каждого частного лица - и последнее не сопровождалось бы никакой выгодой, но в большинстве случаев было бы связано с добавочными значительными потерями для кредиторов государства. Конечно, если бы эти последние в общем были должны значительные суммы другим людям, то они могли бы в некоторой мере компенсировать свои потери, платя своим кредиторам той же монетой, какою заплатило им государство; но в большинстве стран большая часть кредиторов государства принадлежит к числу богатых людей, которые выступают больше в роли кредиторов, чем должников, по отношению к остальным своим согражданам. Таким образом, фиктивная уплата такого рода, вместо того чтобы уменьшить, в большинстве случаев только увеличивает потери кредиторов государства и, не принося никакой выгоды обществу, распространяет бедствие на значительное число других невинных людей. Она вызывает общее и чрезвычайно опасное перемещение состояний частных людей, обогащая в большинстве случаев ленивого и расточительного должника за счёт трудолюбивого и бережливого кредитора и перенося значительную часть национального капитала из рук тех, кто скорее всего увеличит его, в руки тех, кто, вероятно, расстроит и уничтожит его. Когда государство оказывается в необходимости, как это бывает и с отдельным частным лицом, объявить себя банкротом, то честное, открытое и признанное банкротство всегда является мерой, которая наименее позорит должника и меньше всего причиняет вреда кредитору. О репутации государства, несомненно, очень мало заботятся, когда в целях избежания позора действительного банкротства прибегают к мошеннической уловке этого рода, столь легко разгадываемой и в то же самое время столь гибельной" <Адам Смит, Исследование о природе и причинах богатства народов, т. II, стр. 436-437. - Прим. ред.>. Эти замечания д-ра Смита по поводу неполновесной монеты одинаково применимы и к обесцененным бумажным деньгам. Он перечислил только немногие из бедственных последствий, которыми сопровождается порча средств обращения, но он достаточно предостерёг нас от попыток прибегать к таким опасным экспериментам. Мы постоянно будем иметь причину сокрушаться, если наша великая страна, имея перед своими глазами все последствия принудительного бумажно-денежного обращения в Америке и во Франции, сохранит систему, чреватую столь многими бедствиями. Будем же надеяться, что она окажется более мудрой. Говорят, правда, что положение в Англии иное, так как Английский банк независим от правительства. Если бы это и было верно, то бедствия чрезмерно обильного обращения давали бы себя чувствовать не менее сильно; но можно спросить, является ли независимым от правительства банк, который ссужает своему правительству суммы, на много миллионов превышающие его капитал и сбережения? Когда в 1797 г. постановление о приостановке размена банкнот сделалось необходимым, натиск на Английский банк был вызван, по моему мнению, только политической паникой, а не чрезмерным или недостаточным количеством (как предполагали некоторые) его банкнот в обращении <в этот период цена золота держалась постоянно ниже его монетной цены>. Такова опасность, которой Английский банк подвергается по самой своей природе во всякое время. Никакое благоразумие со стороны его директоров не могло бы, вероятно, отвратить её, но если бы займы банка правительству были более ограничены, если бы то же самое количество банкнот было выпущено в обращение с помощью дисконта их, то банк был бы, по всей вероятности, в состоянии продолжать свои платежи до тех пор, пока паника не улеглась бы. Во всяком случае, поскольку должники банка были бы обязаны уплатить свои долги в течение 60 дней - максимальный срок, на который выдаются дисконтируемые банком векселя, - директора могли бы за это время в случае необходимости выкупить все банкноты, находившиеся в обращении. Только благодаря слишком тесной связи между банком и правительством ограничение размена сделалось необходимостью; той же самой причине мы обязаны тем, что это ограничение длится до сих пор. Во избежание дурных последствий, которые могут сопровождать упорное сохранение этой системы, мы должны всё время настаивать на отмене закона об ограничении размена. Единственная законная гарантия, которой может обладать общество против неосторожности банка, заключается в обязательстве последнего оплачивать банкноты звонкой монетой по предъявлению, а это в свою очередь может быть достигнуто только путём уменьшения количества банкнот, находящихся в обращении, до тех пор, пока номинальная цена золота не понизится до его монетной цены. Этим я закончу. Я буду считать себя счастливым, если мои слабые усилия привлекут общественное внимание к должному рассмотрению состояния нашего денежного обращения. Я хорошо знаю, что ничего не прибавил к тому запасу сведений, которым просвещали общество многие выдающиеся писатели по этому важному вопросу. У меня не было таких претензий. Моя цель заключалась в том, чтобы внести дух спокойного и беспристрастного анализа в обсуждение вопроса, имеющего огромную важность для государства; пренебрежение им может сопровождаться такими последствиями, которые будет оплакивать каждый друг своей страны. ПриложениеЗамечания по поводу некоторых мест статьи в "Edinburgh Review", рассматривающей обесценение бумажных денег, а также предложения относительно обеспечения обществу средства обращения столь же неизменного, как золото, при весьма умеренной затрате этого металла. Так как публика потребовала нового издания настоящего памфлета, то я пользуюсь случаем, чтобы рассмотреть замечания, которые сотрудник "Edinburgh Review" сделал мне честь высказать в последнем номере этого журнала и которые относятся к некоторым местам моей работы. Меня побуждает это сделать убеждение, что дискуссия по каждому пункту, связанному с этим важным вопросом, ускорит принятие мер против существующих злоупотреблений и создаст тенденцию к обеспечению нас от опасности повторения их в будущем. Автор статьи об обесценении денег замечает: "Крупной ошибкой в работе г-на Рикардо является его односторонний взгляд на причины, влияющие на вексельный курс. Он приписывает благоприятный или неблагоприятный вексельный курс исключительно избыточному или недостаточному денежному обращению и оставляет без внимания изменяющиеся желания и потребности различных народов как первоначальную причину временного перевеса ввоза над вывозом или вывоза над ввозом". Затем он комментирует место, в котором я утверждаю, что плохой урожай не вызовет вывоза денег, если только деньги не были относительно дёшевы в вывозящей стране. Заканчивая свои замечания, автор высказывает своё твёрдое убеждение в том, что вывоз денег в предполагаемом случае плохого урожая "вызывается не их дешевизной. Вывоз денег не является, как старается нас убедить г-н Рикардо, причиной неблагоприятного баланса, а его следствием. Он не только спасительное средство против избыточного денежного обращения, но порождается как раз причиной, упоминаемой г-ном Торнтоном, - нежеланием нации-кредитора получить большое добавочное количество товаров, ненужных для немедленного потребления, если её не соблазняет чрезмерная дешевизна их, а также желанием получить золото в слитках - эти деньги торгового мира, не поддаваясь такому соблазну. Не подлежит никакому сомнению, что, как констатировал г-н Рикардо, ни одна нация не уплатит свой долг драгоценными металлами, если она может сделать это дешевле товарами; но цены товаров подвержены сильному понижению в случае переполнения рынка, тогда как драгоценные металлы, принятые по всемирному соглашению людей за всеобщее средство обмена и орудие торговли, могут погасить долг самых больших размеров по его номинальной оценке согласно количеству золота, содержащегося в средствах обращения рассматриваемых стран; и какова бы ни была разница в количествах денег и товаров, которые имеют место после начала этих сделок, нельзя ни на минуту усомниться в том, что причину её следует искать в потребностях и желаниях одной из двух наций, а не в первоначальной избыточности или дефицитности средств обращения в каждой из них". Критик соглашается со мной, что "ни одна нация не уплатит свой долг драгоценными металлами, если она может сделать это дешевле товарами, но цены товаров, - прибавляет он, - подвержены сильному понижению в случае переполнения рынка". Конечно, он подразумевает при этом внешний рынок, но в таком случае его слова выражают то самое мнение, которое он старается опровергнуть, а именно: когда товары не могут быть вывозимы так выгодно, как деньги, то будут вывозиться деньги, что является только другим способом сказать, что деньги никогда не будут вывозиться, если в сравнении с другими странами они не являются избыточными по отношению к товарам. Но непосредственно вслед за этим он настаивает на том, что вывоз "драгоценных металлов есть результат торгового баланса <мы говорим о торговом балансе, абстрагируясь от платёжного баланса. Торговый баланс может быть благоприятен, в то время как платёжный баланс неблагоприятен. Только платёжный баланс влияет на вексельный курс> и порождается причинами, которые могут существовать независимо от излишка или недостатка в средствах обращения". Эти взгляды, кажется мне, прямо противоречат друг другу. Если, однако, драгоценные металлы могут быть вывозимы из страны в обмен на товары, несмотря на то, что они в вывозящей стране так же дороги, как в ввозящей, то каковы будут последствия такого непредусмотрительного вывоза? "Сравнительный недостаток в одной стране и излишек в другой, - говорит критик на стр. 343, - не преминут оказать быстрое действие, изменяя направление платёжного баланса и восстанавливая то равновесие драгоценных металлов, которое было на время нарушено естественным неравенством нужд и потребностей стран, ведущих между собой торговлю". Было бы очень хорошо, если бы критик сказал, когда именно начнётся эта реакция; ведь на первый взгляд кажется, что тот же самый закон, который допускает вывоз монеты из страны, в то время когда она не дешевле, чем в стране, ввозящей её, может также допустить вывоз её в такой момент, когда она дороже. Все торговые спекуляции управляются личным интересом, и раз таковой может быть установлен точно и несомненно, то, допустив другое правило поведения, мы не будем знать, где остановиться. Критик должен был бы поэтому объяснить нам, почему ввозящая страна не могла бы лишиться целиком своей монеты и слитков при продолжении спроса на ввозимый товар. Что может при таких обстоятельствах помешать вывозу средств обращения? Критик говорит: потому что "страна с уменьшенным количеством золота была бы, очевидно, скоро ограничена в своей способности платить драгоценными металлами". Почему скоро? Разве не было им допущено, что "излишек и недостаток средств обращения являются лишь относительными терминами и что обращение страны никогда не может быть чрезмерным" (а следовательно, никогда не может быть и недостаточным) "иначе, как по отношению к другим странам"? Разве из всех этих допущений не следует, что если торговый баланс может стать неблагоприятным для страны, хотя бы обращение её и не было относительно чрезмерным, то не существует всё же никакого препятствия для вывоза её монеты до тех пор, пока в стране остаётся хоть сколько-нибудь денег. Ведь (вследствие возрастания их стоимости) меньшее количество их будет сразу служить так же хорошо для совершения требуемых платежей, как до этого служила большая сумма? Ряд плохих урожаев может согласно этому принципу лишить страну её денег, каково бы ни было их количество и хотя бы они состояли исключительно из драгоценных металлов. То соображение, что уменьшение их стоимости в ввозящей стране и увеличение её в вывозящей вернут деньги в их старый канал, не отвечает на возражение. Когда именно это произойдёт? И в обмен на что именно будут они возвращены? Ответ очевиден - на товары. Итак, окончательный результат всего этого вывоза и ввоза денег сводится к тому, что одна страна ввезла бы один товар в обмен за другой и что монеты и слитки вернулись бы в обеих странах к своему естественному уровню. Можно ли оспаривать, что в стране, где капитал имеется в изобилии, где применяется всяческая экономия в торговле и где конкуренция доведена до крайних пределов, такие результаты не были бы предусмотрены и расходы и хлопоты, сопровождающие эти бесполезные операции, не были бы предотвращены? Можно ли допустить, что деньги посылаются за границу только для того, чтобы сделать их дорогими в одной стране и дешёвыми в другой и этим путём обеспечить их возвращение к нам? Особенно достойно замечания, что предрассудок, который рассматривает монету и слитки как вещи, существенно отличающиеся во всех их операциях от других товаров, укоренился весьма глубоко; так, писатели, прекрасно знакомые с общими истинами политической экономии, сначала приглашают своих читателей рассматривать деньги и слитки только как товары, тоже подчиняющиеся "общему началу предложения и спроса, бесспорно составляющими основание, на котором построена вся надстройка политической экономии", а потом сами забывают эти указания и рассуждают о деньгах и законах, регулирующих их вывоз и ввоз, так, как будто эти законы совершенно отличны от законов, которыми регулируются вывоз и ввоз других товаров. Если бы наш критик говорил о кофе или о сахаре, он отрицал бы возможность вывоза этих товаров из Англии на континент, если только они не дороже там, чем здесь. Тщетно доказывали бы мы ему, что наш урожай был плох и что мы нуждаемся в хлебе. Он настойчиво и уверенно доказывал бы, что как бы ни была у нас велика нужда в хлебе, для Англии не было бы возможно посылать, а для Франции (к примеру) получать кофе или сахар в обмен на хлеб до тех пор, пока кофе или сахар стоят в Англии больше денег, чем во Франции. Как, сказал бы он, вы считаете возможным для нас посылать ящик кофе во Францию, чтобы продать его там за 100 ф. ст., когда он стоит здесь 105 ф. ст. и когда, посылая 100 ф. ст. из этих 105 ф. ст., мы могли бы одинаково уплатить долг за ввозимую к нам пшеницу? А я говорю ему: считаете ли вы возможным, чтобы мы согласились посылать или Франция согласилась получать (если сделка ведётся за её счёт) 100 ф. ст. в деньгах, когда 95 ф. ст., вложенные в кофе и вывезенные нами, будут стоить по прибытии во Францию столько же, сколько 100 ф. ст.? Но во Франции в кофе не нуждаются, рынок там переполнен им, - пусть так, но деньги там нужны ещё меньше, и доказательством служит то, что кофе на сумму в 100 ф. ст. будет продан за сумму большую, чем 100 ф. ст. Единственное доказательство относительной дешевизны денег в двух местах, которым мы располагаем, состоит в сопоставлении их с товарами. Товары измеряют стоимость денег таким же образом, как деньги измеряют стоимость товаров. Если поэтому за товары можно получить больше денег в Англии, чем во Франции, мы можем сказать с уверенностью, что деньги дешевле в Англии и что они вывозятся, чтобы найти свой уровень, а не отступить от него. Если после сравнения относительной стоимости кофе, сахара, слоновой кости, индиго и всех других экспортных товаров на двух рынках я настаиваю на посылке денег, то какое другое доказательство ещё нужно, что в настоящее время деньги являются на английском рынке наиболее дешёвым из всех этих товаров по сравнению со всеми иностранными рынками и что, следовательно, вывоз их наиболее прибылен? Какое ещё нужно свидетельство относительного изобилия и дешевизны денег в Англии сравнительно с Францией, чем то, что во Франции за них можно купить больше хлеба, больше индиго, больше кофе, больше сахара, больше всяких экспортных товаров, чем в Англии? Мне могут, правда, сказать, что предположение моего критика заключается не в том, что кофе, сахар, индиго, слоновая кость и т. д. дешевле, чем деньги, но что эти товары и деньги одинаково дёшевы в обеих странах, т. е. что 100 ф. ст., посланные в виде денег или вложенные в кофе, сахар, индиго, слоновую кость и т. д., будут иметь во Франции одинаковую стоимость. Если бы стоимость всех этих товаров была взвешена с такой точностью, то что побудило бы экспортёра послать один товар предпочтительно перед другими в обмен на хлеб, по отношению к которому все они дешевле в Англии? Если он посылает деньги и таким путём нарушает естественный уровень, то критик говорит нам, что в силу увеличения количества денег во Франции и уменьшения их количества в Англии они станут во Франции дешевле, чем в Англии, и их будут вновь ввозить в обмен на товары до тех пор, пока не восстановится этот уровень. Но разве тот же результат не получился бы при вывозе кофе или какого-нибудь другого товара, стоимость которого по отношению к деньгам одинакова в обеих странах? Разве равновесие между предложением и спросом не было бы нарушено и разве уменьшенная стоимость кофе и т. д. вследствие увеличения его количества во Франции и возросшая стоимость его в Англии вследствие уменьшения его количества не вызвали бы его обратный ввоз в Англию? Некоторые из таких товаров могли бы быть вывезены без значительного неудобства, связанного с повышением их цены; но деньги, которые приводят в обращение все другие товары и увеличение или уменьшение количества которых даже в небольшом отношении повышает или понижает цены в чрезвычайной степени, не могут вывозиться без самых серьёзных последствий. Тут сказывается, следовательно, ошибочный принцип нашего критика. Согласно моей системе не представляло бы, напротив, никакой трудности определить способ производить возмещения так, чтобы сохранить относительное количество и относительную стоимость средств обращения двух стран даже в таком крайне невероятном случае, как одинаковая стоимость всех товаров, включая деньги и исключая только хлеб. Если бы средства обращения Англии состояли целиком из драгоценных металлов и составляли 1/50 стоимости товаров, которые они приводят в обращение, то всё количество денег, которое при предположенных условиях было бы вывезено в обмен на хлеб, составило бы 1/50 стоимости этого хлеба, на остальную сумму мы вывезли бы товары, и, таким образом, отношения между деньгами и товарами сохранились бы одинаково в обеих странах. Англия вследствие плохого урожая попала бы в положение страны, которая лишилась части своих товаров, а потому нуждается в уменьшенном количестве средств обращения. Денежное обращение, которое прежде соответствовало её платежам, стало бы теперь избыточным, и деньги сделались бы более дешёвыми пропорционально 1/50 её уменьшенного производства; вывоз этой суммы восстановил бы, следовательно, стоимость её денег до стоимости их в других странах. Итак, мы вполне доказали, повидимому, что плохой урожай влияет на вексельный курс только тем, что делает количество обращающихся денег, находившееся до тех пор на надлежащем уровне, чрезмерным. На таком примере полностью подтверждается, следовательно, принцип, согласно которому причины неблагоприятного вексельного курса всегда могут быть прослежены до относительно чрезмерного обращения. Если мы можем предположить, что после неблагоприятного урожая, когда представляется случай для необычайно большого ввоза хлеба в Англию, другая нация обладает этим товаром в чрезмерном изобилии, "но не имеет нужды в каком бы то ни было товаре", то мы должны будем, конечно, заключить, что такая нация не будет вывозить свой хлеб в обмен на товары, но она не вывезет его также и за деньги: ведь деньги это такой товар, в котором никакая страна не нуждается абсолютно, а лишь относительно, как признаёт определённо и сам критик. Такой случай, однако, невозможен, потому что нация, имеющая в своём распоряжении все товары, необходимые для потребления и для удовольствия всех её жителей, которые имеют на что купить их, не оставит хлеб, превышающий её возможное потребление, гнить в амбарах. Пока желание накоплять не погасло в груди человека, он будет стремиться реализовать излишек своей продукции над своим потреблением в форме капитала, а это он может сделать, только занимая лично или давая другим с помощью ссуд возможность занимать добавочное число рабочих: доход может быть превращён в капитал только посредством труда. Если доход его состоит из хлеба, он будет расположен обменивать его на топливо, мясо, масло, сыр и другие товары, на которые обычно затрачивается заработная плата, или, что то же самое, он продаст свой хлеб за деньги, уплатит заработную плату своим рабочим деньгами и создаст, таким образом, спрос на те товары, которые могут быть получены из других стран в обмен на излишний хлеб. Таким путём будут воспроизведены товары, имеющие большую стоимость, которые он сможет употребить таким же образом, умножая собственное богатство и увеличивая богатство и ресурсы своей страны. Нет большего заблуждения, чем предположение, что может существовать такая нация, которая не нуждалась бы в каких-нибудь товарах. Она может обладать в избытке одним или многими товарами, для которых не находит рынка у себя дома. Она может иметь больше сахара, кофе, сала, чем она может потребить или которыми она может распорядиться, но ни одна страна никогда не имела всеобщего перепроизводства всех товаров. Это, очевидно, невозможно. Если страна обладает всеми предметами, необходимыми для поддержания жизни и для комфорта человека, и если соответствующие доли тех и других соответствуют обычной практике потребления, то, несмотря на изобилие, они всегда найдут рынок сбыта; из этого следует, что раз страна обладает товаром, на который нет спроса дома, она будет стремиться обменять его на другие товары в той пропорции, в которой они потребляются. Ни одна страна не производит хлеб или какой-либо другой товар с целью реализовать его стоимость в деньгах - случай, предполагаемый или заключающийся в случае, предположенном в статье критика, так как деньги являются наиболее невыгодным объектом, которому может быть посвящён труд человека. Деньги представляют как раз тот товар, который, пока он не обменён снова, никогда не прибавляет ничего к богатству страны; ясно, следовательно, что увеличение их количества так же мало является добровольным актом со стороны какой-либо страны, как и со стороны отдельного индивида. Деньги навязываются им только вследствие их относительно меньшей стоимости в тех странах, с которыми данная страна или данный индивид находятся в сношениях. Пока страна употребляет в качестве денег драгоценные металлы и не имеет собственных рудников, вполне мыслимо, что она может в значительной степени увеличить количество продуктов своей земли и труда, ничего не прибавляя к богатству, ибо страны, владеющие рудниками, могут добыть в то же самое время такое огромное количество драгоценных металлов, что вынудят промышленную страну увеличить своё денежное обращение на сумму, равную по стоимости всему приросту её производства. Но при таких условиях добавочное количество денег плюс количество их, находившееся раньше в обращении, не будет иметь большей стоимости, чем первоначальное количество средств обращения. Таким образом, наша промышленная нация станет данницей тех стран, которые владеют рудниками, и будет вести торговлю, в которой она ничего не выигрывает, а всё теряет. Я вовсе не расположен отрицать, что вексельные курсы находятся в состоянии постоянных колебаний по отношению ко всем странам, но, как правило, эти колебания не достигают таких пределов, при которых становится более выгодным делать переводы при помощи слитков, чем посредством покупки векселей. Пока это так, нельзя оспаривать, что ввоз балансируется вывозом. Изменяющийся спрос всех стран может быть удовлетворён, а вексельные курсы их будут одинаково уклоняться в какой-то степени от паритета, если денежное обращение одной из них чрезмерно или недостаточно в сравнении с остальными. Предположим, что Англия посылает товары в Голландию и не находит там товаров, которые пригодны для английского рынка, или, что то же самое, предположим, что мы можем купить эти товары дешевле во Франции. В этом случае мы ограничиваем свою операцию продажей товаров в Голландии и покупкой других товаров во Франции. Денежное обращение Англии не нарушается какой-либо из этих сделок, так как мы платим Франции векселем на Голландию, и в данном случае не будет ни излишка ввоза, ни излишка вывоза. Однако вексельный курс может быть для нас благоприятен по отношению к Голландии и неблагоприятен по отношению к Франции и будет таковым, если счета не будут балансированы ввозом во Францию товаров из Голландии или из какой-нибудь страны, задолжавшей Голландии. Если такого ввоза не будет, то неблагоприятный вексельный курс может образоваться только благодаря относительному избытку средств обращения в Голландии в сравнении с количеством их во Франции, и для обеих стран будет более удобно, чтобы оплата векселей производилась путём пересылки слитков. Если баланс установится при помощи пересылки товаров, то вексельный курс между всеми тремя странами будет на уровне паритета. Если он установится при помощи слитков, то вексельный курс между Голландией и Англией будет настолько выше паритета, насколько вексельный курс между Францией и Англией будет ниже паритета, разница же будет равняться расходам по пересылке слитков из Голландии во Францию. Результат был бы тот же, если бы в такой сделке приняла участие любая нация мира. Если бы Англия купила товары у Франции и продала их Голландии, то Франция могла бы купить на такую же сумму товаров у Италии, Италия могла бы это сделать по отношению к России, Россия - по отношению к Германии, а Германия могла бы закупить в Голландии товары на ту же сумму за вычетом лишь 100 тыс. ф. ст. Германии могла бы быть нужна такая сумма в слитках либо для пополнения недостатка средств обращения, либо для производства металлической посуды. Все эти разнообразные сделки могли бы быть выполнены посредством векселей, за исключением 100 тыс. ф. ст., которые были бы уплачены Голландией из имеющегося у неё излишка монеты или слитков или собраны Голландией в монетах различных стран Европы. Вопреки заявлению критика никто не утверждает, что "плохой урожай или необходимость уплаты субсидии какой-либо стране немедленно и неизменно сопровождались бы необычным спросом на муслины, металлические изделия и колониальные продукты": ведь те же результаты получались бы и при условии, что страна, платящая субсидию или страдающая от плохого урожая, принуждена была бы ввозить меньше других товаров, чем она привыкла делать прежде. Наш критик замечает (стр. 345): "Ошибка того же рода, как та, на которую мы здесь указали, проникла и в другие части памфлета г-на Рикардо и в особенности отличает начало его рассуждений. Он, повидимому, думает, что если драгоценные металлы были однажды распределены между различными странами земли соответственно их относительному богатству и торговле, то, поскольку каждая из них одинаково нуждается в том количестве этих металлов, которое она действительно использует, ни одна не будет подвергаться искушению ввозить их или вывозить до тех пор, пока не будет открыт либо новый рудник, либо новый банк или пока не наступит какое-нибудь резкое изменение в их относительном благосостоянии". И затем (стр. 361): "Мы уже обратили внимание на ошибку (допущенную, однако, главным образом г-ном Рикардо и от которой "Доклад о слитках" совершенно свободен), состоящую в том, что г-н Рикардо отрицает существование торгового или платёжного баланса, не связанного с каким-нибудь первоначальным излишком или недостатком средств обращения". "Но имеется и другое положение, на котором сходятся все исследователи и с которым мы тем не менее не можем согласиться, склоняясь скорее к взглядам меркантилистов на этот предмет. Хотя эти исследователи признают, что слитки иногда перемещаются из одной страны в другую в силу причин, связанных с вексельным курсом, они всё же представляют дело так, как будто сделки такого рода играют совершенно незначительную роль. Г-н Гэскиссон замечает, что "операции по торговле слитками имеют своим почти единственным источником новые партии металла, которые ежегодно доставляются из рудников Нового Света; эти операции ограничиваются главным образом распределением новых партий металла между различными частями Европы. Если бы доставка их совершенно прекратилась, то сделки с золотом и серебром как предметами внешней торговли были бы очень незначительны и весьма кратковременны"". "Г-н Рикардо в своём ответе г-ну Бозанкету ссылается на это место с особенным одобрением". Так вот, я не в состоянии выяснить, чем это мнение г-на Гэскиссона отличается от высказанного мною прежде и комментированного нашим критиком. Оба положения в сущности совершенно одинаковы и должны или устоять, или пасть вместе. Если "мы признаём, что слитки иногда перемещаются из одной страны в другую в силу причин, связанных с вексельным курсом", то мы не признаём, что это будет происходить до тех пор, пока вексельный курс упадёт до пределов, при которых вывоз слитков сделается прибыльным; я держусь того мнения, что если бы он упал так сильно, то лишь в результате дешевизны и избыточности средств обращения, которое имело бы своим почти единственным источником новые партии металла, ежегодно доставляемые из рудников Нового Света. Таким образом, положение, по которому критик расходится со мной, не другое, а то же самое. Если "хорошо известно, что большинство государств имеет в своих обычных торговых сношениях почти постоянно благоприятный вексельный курс с некоторыми странами и почти постоянно неблагоприятный с другими", то какой другой причине можно приписать это, кроме той, которая была упомянута г-ном Гэскиссоном? "Новым партиям металла, которые ежегодно доставляются (и почти по тому же самому назначению) из рудников Нового Света". Д-р Смит, повидимому, не отдавал себе достаточного отчёта в том могущественном и единообразном воздействии, которое этот поток слитков оказывал на вексельный курс; он был склонен сильно переоценивать употребление слитков при ведении различных окольных отраслей внешней торговли, к которым страна считает необходимым прибегать. В ранних и примитивных торговых сделках между нациями, как и в ранних и примитивных сделках между индивидами, люди мало экономят как деньги, так и слитки; только под влиянием цивилизации и культуры бумажные деньги начинают выполнять при обмене между различными государствами те самые функции, которые они с такой выгодой выполняют при обмене между отдельными лицами в одной и той же стране. Мне кажется. что критик недостаточно осведомлён о тех размерах, в которых осуществляется принцип экономии драгоценных металлов при обмене между нациями. Он, повидимому, не признаёт даже всей силы этого принципа и в пределах одной нации: из одного абзаца на стр. 346 читатели могут сделать вывод, что, по мнению нашего критика, между отдельными областями одной и той же страны происходит частое перемещение средств обращения. Он сообщает нам, что "в употреблении всегда имеется и будет иметься известное количество драгоценных металлов, долженствующее выполнять те же функции при обмене между разными нациями, связанными друг с другом узами торговли, какие деньги одной страны выполняют по отношению к отдалённым друг от друга областям". Какие же функции выполняют деньги данной страны по отношению к отдалённым друг от друга областям? Я глубоко убеждён, что во всём многообразии торговых сделок, которые совершаются между отдалёнными друг от друга областями нашего королевства, деньги принимают очень незначительное участие, так как ввоз почти всегда балансируется вывозом <часть продукта отдельных областей вывозится без всякой компенсации, потому что составляет доход абсентеистов (землевладельцев, живущих постоянно вне пределов данной провинции), но это соображение не может иметь никакого влияния на вопрос о средствах обращения>; доказательством этому служит тот факт, что местные средства обращения отдельных областей (а они не имеют никаких других) редко имеют хождение на каком-либо значительном расстоянии от того места, где они выпущены. Мне кажется, что критик соблазнился ошибочной доктриной купцов, согласно которой деньги могут вывозиться в обмен на товары, хотя бы они и не были дешевле в вывозящей стране. Ведь иначе он никак не мог бы объяснить повышение вексельного курса, которое в некоторых случаях сопровождало увеличение количества банкнот, как это констатировал в докладе, представленном Комитету о слитках, г-н Пирс, бывший прежде заместителем управляющего, а теперь ставший управляющим Английским банком. Критик говорит: "С этой точки зрения, конечно, не легко объяснить улучшение вексельного курса при явно возрастающем выпуске банкнот: явление, имевшее место довольно часто; на этом особенно настаивал заместитель управляющего Английским банком, как на доказательстве, что наш вексельный курс не находится ни в какой связи с состоянием нашего обращения". Однако эти обстоятельства не являются абсолютно несовместимыми между собою. Г-н Пирс подобно критику "Edinburgh Review", повидимому, совершенно не понял принципа, выдвинутого защитниками отмены билля о запрещении платежей звонкой монетой. Сторонники отмены вовсе не утверждают, как это им приписывают, что увеличение количества банкнот будет постоянно понижать вексельный курс; по их мнению, такой результат получится только в случае избыточного денежного обращения. Остаётся, следовательно, рассмотреть, всегда ли увеличение количества банкнот необходимо сопровождается непрерывным ростом количества находящихся в обращении денег; ведь если я покажу отчётливо, что это не так, то объяснить повышение вексельного курса увеличением количества банкнот будет отнюдь не трудно. Каждый охотно допустит, что, пока в обращении находится большое количество монеты, всякое возрастание количества банкнот, хотя бы на короткое время, понизит стоимость всего денежного обращения, как бумажного, так и золотого. Такое понижение не будет, однако, постоянным, потому что избыток и дешевизна средств обращения понизят вексельный курс и вызовут вывоз части монеты; последний прекратится, как только остаток средств обращения приобретёт вновь свою прежнюю стоимость и восстановится паритет вексельного курса. Увеличение количества мелких банкнот приведёт, таким образом, в конечном результате к замене одних средств обращения другими, металлического обращения бумажно-денежным, но не будет иметь такого действия, какое имеет подлинное и непрерывное увеличение количества денег, находящихся в обращении <что увеличение количества банкнот ниже 5 ф. ст. должно скорее рассматриваться как замена вывезенной монеты, чем как действительное увеличение средств обращения, это нередко и справедливо утверждают люди, возражающие против аргументации Комитета о слитках; но когда те же самые джентльмены желают установить свою любимую теорию, согласно которой между количеством средств обращения и нормой вексельного курса нет никакой связи, они не забывают призвать на помощь те самые мелкие банкноты, которые они прежде отвергали>. Но мы, однако, имеем в своём распоряжении критерий, с помощью которого мы можем определить относительное количество денег, находившихся в обращении в различные периоды независимо от банкнот; хотя мы и не можем положиться безусловно на этот критерий, он всё же будет достаточно точным для решения обсуждаемого нами теперь вопроса. Этим критерием служит количество банкнот в 5 ф. ст. и выше, находящееся в обращении и сохраняющее всегда, как мы имеем основание считать, некоторую довольно правильную пропорцию ко всей массе средств обращения. Так, если с 1797 г. банкноты этой категории увеличились с 12 до 16 млн., мы можем сделать вывод, что вся масса средств обращения выросла на 1/3, если области, в которых обращаются банкноты, не расширились и не сократились. Банкноты ниже 5 ф. ст. будут выпускаться по мере того, как металлические деньги извлекаются из обращения, и количество их будет увеличиваться дальше, если увеличится также количество банкнот высшего наименования. Если я прав в этом пункте, т. е. в том, что увеличение количества наших средств обращения связано с увеличением количества банкнот в 5 ф. ст. и выше и никоим образом не может быть объяснено увеличение количества однофунтовых или двухфунтовых банкнот, которые заняли место вывезенных или спрятанных гиней, то я должен целиком отвергнуть расчёты г-на Пирса, ибо последний исходит из предположения, что каждое увеличение количества банкнот этой категории представляет увеличение средств обращения на ту же сумму. Если мы примем во внимание, что в 1797 г. в обращении не было банкнот в 1 и 2 ф. ст., но что их место было целиком заполнено гинеями и что, начиная с этого периода, таких банкнот было выпущено не меньше чем на 7 млн. ф. ст., - отчасти для того, чтобы занять место вывезенных и спрятанных гиней, отчасти чтобы сохранить пропорцию между средствами обращения для крупных и для мелких платежей, - то мы увидим, к каким ошибкам может привести такое рассуждение. Я не могу придавать записке г-на Пирса, о которой идёт речь, никакого значения, поскольку она выступает против мнения, которое я позволил себе высказать, а именно, что неблагоприятный торговый баланс, а следовательно, и низкий вексельный курс могут во всех случаях быть прослежены до относительно избыточного и дешёвого обращения <мы не думаем отрицать, что внезапное нашествие неприятеля или какое-либо потрясение, делающее владение собственностью в данной стране непрочным, может составить исключение из этого правила, но вексельный курс будет в общем неблагоприятен для стран, находящихся в таких условиях>. Но если бы рассуждение г-на Пирса не было столь же неверным, как неверны его факты, то это нисколько не гарантировало бы верности заключений, которые он из них сделал. Г-н Пирс констатирует, что количество банкнот возросло с января 1808 г. до рождества 1809 г. с 17 1/2 до 18 млн., или на 500 тыс. ф. ст., тогда как вексельный курс на Гамбург упал в течение этого же периода с 34 шилл. 9 гротов до 28 шилл. 6 гротов; следовательно, увеличение количества банкнот составляло меньше чем 3%, а падение вексельного курса - больше чем 18%. Но откуда получил г-н Пирс информацию, согласно которой только 18 млн. ф. ст. в банкнотах находилось в обращении к рождеству 1809 г.? Просмотрев все отчёты, которые мне удалось найти относительно количества банкнот в обращении в конце 1809 г., я могу только сделать вывод, что утверждение г-на Пирса неправильно. Г-н Мэшет в своих таблицах даёт четыре годичные сводки о числе банкнот. В последней, за 1809 г., он констатирует, что количество банкнот в обращении составляло 19 742 998 ф. ст. Согласно приложению к "Докладу о слитках" и отчётам, недавно представленным в палату общин, количество банкнот, находившихся в обращении, повидимому, составляло:
В течение многих месяцев до декабря оно не было ниже. Когда я впервые обнаружил эту неточность, я думал, что г-н Пирс мог пропустить в обеих оценках соло-векселя Английского банка, хотя в декабре 1809 г. сумма их не превышала 880 880 ф. ст.; но, заглянув в отчёт о числе банкнот в обращении, включающий и соло-векселя Английского банка в январе 1808 г., я нашёл, что г-н Пирс показал их в большей сумме, чем я мог где бы то ни было найти: действительно, его оценка превышает цифру, приведённую в отчёте Английского банка на 1 января 1808 г., почти на 900 тыс. ф. ст., а это значит, что с 1 января 1808 г. до 12 декабря 1809 г. общая сумма банкнот возросла с 16619240 до 19727520 ф. ст. - разница больше чем в 3 млн. ф. ст. вместо 500 тыс., о которых говорил г-н Пирс, и в 2 млн., если справка г-на Пирса верна для какого-нибудь момента в январе 1808 г. Кроме того, утверждение г-на Пирса, что с января 1803 г. до конца 1807 г. общая сумма банкнот возросла с 16 1/2 до 18 млн. ф. ст., - увеличение на 1 1/2 млн. ф. ст. - преувеличивает, по-моему, на полмиллиона действительную цифру. Увеличение количества банкнот в 5 ф. ст. и выше, включая соло-вексель банка, не превысило в течение этого периода 150 тыс. ф. ст. Важно подчеркнуть все эти ошибки для того, чтобы те, кто, несмотря на мои аргументы, соглашается в принципе с г-ном Пирсом, увидели бы, что факты не оправдывают в данном случае выводы, которые этот джентльмен извлёк из них; в действительности все расчёты, основанные на каких-либо отдельных данных о сумме банкнот за день или неделю при более высокой или более низкой общей средней, взятой для некоторого более раннего или более позднего периода, мало пригодны для опровержения теории, которая имеет за собой много других доказательств своей истинности. Таковой я считаю теорию, согласно которой неограниченное увеличение денежного обращения, в основе которого не лежит какой-либо определённый стандарт стоимости, может и должно производить постоянное понижение вексельного курса сравнительно со страной, денежное обращение которой имеет в своей основе такой стандарт. Определив, таким образом, подлинную значимость записки г-на Пирса, я прошу читателя обратить внимание на таблицу, которую я составил на основе данных, приведённых в "Докладе о слитках" и в документах, которые были представлены с того времени палате общин. Я приглашаю читателя сравнить количество обращающихся в стране более крупных банкнот с изменениями в вексельном курсе; я уверен, что он не найдёт никакого затруднения в согласовании принципа, защищаемого мною, с действительными рассматриваемыми нами фактами, в особенности, если он примет во внимание, что результат увеличения массы средств обращения проявляется полностью не сразу: для получения полного эффекта требуется известный период. Надо также помнить, что повышение или понижение цены серебра в сравнении с ценой золота изменяет относительную стоимость денег в Англии и в Гамбурге и, следовательно, делает денежное обращение той или другой страны относительно избыточным и дешёвым и что тот же самый результат вызывается, как я уже констатировал, богатым или скудным урожаем в нашей стране или в тех странах, с которыми мы ведём торговлю, или, наконец, каким-нибудь другим увеличением или уменьшением их действительного богатства; такие увеличения или уменьшения изменяют отношение между товарами и деньгами, а тем самым и стоимость средств обращения. При наличии таких поправок я опасаюсь лишь одного: могут найти, что возражения г-на Пирса следует отвергнуть, не прибегая, однако, к признанию несостоятельности его принципа. Допустить его значило бы установить меркантилистскую теорию вексельного курса и взять на себя ответственность за столь значительный отлив средств обращения, что ему можно было бы противодействовать только накоплением нашей монеты в Английском банке и освобождением директоров его от обязательства уплачивать банкноты звонкой монетой.
Вексельные курсы на Гамбург взяты из "Бюллетеня Ллойда". Среднее количество банкнот с 1797 до 1809 г. включительно взято в следующей таблице из доклада Комитета о слитках. Вексельные курсы извлечены из таблицы, представленной Монетным двором парламенту. Английский банк представил парламенту три отчёта о количестве его банкнот, находившихся в обращении в 1810 г.: первый - за 7 и 12-е число каждого месяца, второй - понедельно с 19 января до 28 декабря 1810 г. и третий - также понедельно с 3 марта до 29 декабря 1810 г. Средняя сумма банкнот Английского банка составляет (ф. ст.):
В годы, отмеченные звёздочкой <см. таблицу ниже. - Прим. ред.>, стоимость серебра в сравнении с золотом превышала монетную оценку; в особенности это имело место в 1801 г., когда можно было купить унцию золота за количество серебра меньше 14 унций. Монетная оценка давала отношение 1 : 15,07; нынешняя рыночная цена - почти 1 : 16.
В текущем 1811 г. Английский банк представил отчёт о сумме своих банкнот за первые 18 дней этого года. Средняя сумма банкнот в 5 ф. ст. и выше, находившихся в обращении в эти 18 дней, включая соло-векселя банка,
"Если бы, - говорит наш критик, - значительная доля находящихся в обращении денег была взята у праздных людей и у тех, кто живёт на постоянные доходы <Курсив Рикардо. - Прим. ред.>, и передана фермерам, фабрикантам и купцам, то соотношение между капиталом и доходом было бы в значительной степени изменено к выгоде капитала, и в течение короткого времени продукт страны значительно увеличился бы". Верно несомненно, что "не объём" денежного обращения увеличивает национальное богатство, а "иное распределение денег". Если бы поэтому можно было считать несомненным, что изобилие, а следовательно, и обесценение средств обращения уменьшат потребительную способность праздных и непроизводительных классов и увеличат численность трудолюбивых и производительных, то в результате, несомненно, увеличилось бы и национальное богатство, ибо то, что прежде расходовалось в качестве дохода, теперь реализовалось бы в форме капитала. Но вопрос состоит в том, произведёт ли излишек средств обращения именно такое действие? Не будет ли 1 тыс. ф. ст., сбережённая денежным капиталистом из его дохода и отданная в ссуду фермеру, так же производительна, как если бы она была сбережена самим фермером? Наш критик замечает, что "при каждом новом выпуске банкнот не только возрастает количество средств обращения, но изменяется и распределение всей их массы. Значительная часть попадает в руки тех, кто потребляет и производит, а меньшая - в руки тех, кто только потребляет". Но разве это действительно неизбежно? Автор считает, повидимому, доказанным, что люди, имеющие определённый доход, должны потреблять его целиком и что ни одна часть его не может сберегаться и ежегодно прибавляться к капиталу. Но это весьма далеко от истинного положения вещей, и я спросил бы: разве денежные капиталисты, сберегая половину своего дохода и помещая его в фонды, т. е. освобождая, таким образом, капитал, который в конечном счёте будет использован теми, кто потребляет и производит, не дадут такого же стимула росту национального богатства, какой дало бы обесценение их доходов на 50% путём выпуска банкнот и лишения их всякой возможности сберегать; это имело бы место, несмотря на то, что банк ссужал бы промышленнику сумму банкнот, равную по стоимости уменьшенному доходу денежного капиталиста. Различие, и единственное различие, состоит, мне кажется, в том, что в одном случае процент по денежной ссуде уплачивался бы действительному собственнику имущества, а в другом он был бы в конечном счёте уплачен в форме увеличенных дивидендов или премий собственникам Английского банка, которые получили бы возможность присвоить его себе вопреки справедливости. Если бы кредитор банка употребил свои деньги для менее прибыльных операций, чем человек, использовавший сбережения денежных капиталистов, то для страны от этого получился бы чистый убыток. Таким образом, поскольку обесценение средств обращения рассматривается как стимул к производству, оно может дать и положительный результат и отрицательный. Я не вижу никакого основания, в силу которого такое обесценение должно уменьшить численность праздного и увеличить численность производительного класса общества, а что оно принесёт вред - это во всяком случае несомненно, ибо оно должно сопровождаться такой степенью несправедливости по отношению к отдельным лицам, что одно лишь осознание её вызовет порицание и негодование всех тех, кто не остаётся равнодушным к справедливости. С взглядами, изложенными в остальной части статьи, я от души согласен и не сомневаюсь, что старания автора её будут в самой сильной степени способствовать опровержению массы ошибок и предрассудков, прочно укоренившихся в общественном мнении по этому столь важному вопросу. Согласно предложению Комитета о слитках Английский банк должен в течение двух лет возобновить платежи металлом по своим банкнотам; но против такой меры нередко возражают, что в случае принятия её банк будет испытывать значительные трудности в получении необходимого для этой цели количества слитков. Нельзя отрицать, что Английский банк должен благоразумно собрать большой металлический запас, могущий удовлетворить все предъявленные требования, для того чтобы закон об отмене платежей наличными мог быть отменён. Комитет о слитках установил, что средняя сумма банкнот, находившихся в обращении, включая соло-векселя Английского банка, составляла в 1809 г. 19 млн. ф. ст. В течение того же самого периода средняя цена золота равнялась 4 ф. ст. 10 шилл., превосходя, таким образом, его монетную цену почти на 17%, а это является доказательством обесценения денег почти на 15%. Следовательно, уменьшение числа обращавшихся в 1809 г. банкнот на 15% должно было бы в согласии с принципами комитета поднять их до паритета и уменьшить рыночную цену золота до 3 ф. ст. 17 шилл. 10 1/2 пенс.; но до того, как такое уменьшение имело бы место, прекращение действия закона об отмене платежей наличными создало бы непосредственную опасность как для Английского банка, так и для публики. Но, говорят защитники Английского банка, допустим (на самом деле мы этого, конечно, не делаем), что ваши принципы правильны, допустим, что после такого уменьшения количества банкнот стоимость остатка их поднимется настолько, что требовать у банка монету в обмен на банкноты не представит ни для кого никакого интереса, так как вывоз слитков не будет приносить никакой прибыли. Какую гарантию имел бы тогда Английский банк против порождённой капризом или злой волей всеобщей практики отказа от пользования мелкими банкнотами и требований гиней в обмен на них? Английский банк должен был бы тогда не только уменьшить обращение своих банкнот на 15% от общей суммы выпусков в 19 млн., не только запастись слитками на 4 млн. ф. ст., т. е. на всю сумму остающихся в обращении банкнот в 1 и 2 ф. ст., но и обеспечить себя также средствами для удовлетворения возможных требований оплаты мелких банкнот всех провинциальных банков королевства - и всё это в течение короткого периода - в два года. Следует признать, что, могут ли или не могут осуществиться подобные опасения, банку всё равно пришлось бы сделать некоторый запас на самый худший случай, и, хотя такое положение создалось бы в результате его собственной опрометчивости, было бы желательно по возможности спасти его от её последствий. Если такие же выгоды для публики и такую же гарантию против обесценения денег можно получить с помощью более мягких мероприятий, то нужно надеяться, что все стороны, пришедшие к принципиальному соглашению, соединят свои усилия, чтобы осуществить их. Пусть парламент потребует от Английского банка, чтобы он оплачивал (по требованию) все банкноты выше 20 ф. ст. и только их по собственному выбору - золотыми монетами, золотыми стандартными слитками или иностранною монетою (принимая во внимание разницы в пробе) по английской монетной стоимости золота, т.е. по 3 ф. ст. 17 шилл. 10 1/2 пенс. за унцию, с тем чтобы эти платежи были возобновлены в срок, указанный Комитетом о слитках. Привилегия оплаты банкнот вышеуказанными способами может быть продолжена банку на три или четыре года по возобновлении платежей, а если это будет найдено выгодным, то эта мера может быть объявлена постоянной. При такой системе уровень обесценения денег никогда не упал бы ниже их стандартной цены, так как унция золота и 3 ф. ст. 17 шилл. 10 1/2 пенс. всегда сохраняли бы одинаковую стоимость. При помощи таких постановлений мы действительно могли бы предупредить извлечение из обращения всей суммы мелких банкнот, необходимых для мелких платежей, так как, не обладая такими банкнотами по крайней мере на 20 ф. ст., никто не мог бы обменять их в банке, и даже в этом случае он получал бы за них не монету, а слитки. Правда, за эти слитки можно было бы получить гинеи на Монетном дворе, но не раньше, чем по истечении нескольких недель или месяцев, причём потеря процентов за это время рассматривалась бы как действительный расход - расход, на который никто не согласился бы, пока за мелкие банкноты можно было бы купить столько же товаров, сколько и за гинеи, которые они представляют. Другая выгода, связанная с осуществлением этого плана, заключалась бы в предупреждении бесполезной затраты труда, так бесполезно расходовавшегося при системе, господствовавшей до 1797 г., на чеканку гиней, тогда как последние при каждом случае неблагоприятного вексельного курса, какими бы причинами он ни вызывался, отправлялись в тигель и, несмотря на все запрещения, вывозились в форме слитков. Все стороны признают, что такие запрещения были недействительными и что, какие бы препятствия ни ставились вывозу монеты, они весьма легко обходились. Неблагоприятный вексельный курс может быть в конце концов исправлен только путём вывоза товаров (через посредство слитков) или же путём уменьшения размеров бумажно-денежного обращения. Таким образом, лёгкость, с которой слитки могут быть получены в банке, не может служить возражением против выдвигаемого плана, поскольку такая же степень лёгкости существовала на деле до 1797 г. и должна существовать при системе платежей банком. Такое возражение не следует вообще выдвигать: ведь теперь никто из тех, кто уделил достаточно внимания проблемам денежного обращения, не сомневается больше не только в том, что закон против вывоза металла в форме ли монеты или в какой либо другой совершенно недействителен, но что он также неполитичен и несправедлив; будучи невыгоден только для нас, он выгоден для всего остального мира. Предложенный здесь план объединяет, по моему мнению, выгоды всех банковских систем, принятых до сих пор в Европе. В некоторых его чертах он представляет аналогию с депозитными банками Амстердама и Гамбурга. Через посредство этих учреждений всегда можно купить у банка слитки по установленной неизменной цене. То же самое предлагается для Английского банка. Но в сундуках иностранных депозитных банков действительно сохраняется столько слитков, сколько в их книгах записано кредитов на деньги банка; соответственно этому налицо оказывается большой бездействующий капитал, равный всей сумме торгового обращения. Напротив, в нашем банке будет в наличии сумма банковских денег под названием банкнот в таком размере, в каком этого требуют нужды торговли. В то же время в сундуках банка бездействующий капитал будет храниться лишь в размерах того фонда, который банк будет считать необходимым держать в слитках, чтобы удовлетворять могущий возникнуть на них спрос. Кроме того, следует всегда помнить, что, сокращая выпуск банкнот, банк будет в состоянии уменьшать по своему желанию такой спрос. В подражание Гамбургскому банку, который покупает серебро по установленной цене, для Английского банка необходимо будет установить цену очень немногим ниже монетной цены, по которой он во всякое время покупал бы за свои банкноты золотые слитки, какие ему могут предложить. Совершенство банковской системы заключается в том, что она даёт возможность стране осуществлять своё денежное обращение посредством бумажных денег (всегда сохраняющих свою стандартную стоимость) с возможно меньшим количеством монеты или слитков. Именно к этому и приведёт наш план. И при серебряной монете мы имели бы при денежном обращении, основанном на верных принципах, наиболее экономную и наиболее устойчивую денежную систему в мире. Изменения в цене слитков, каков бы ни был спрос на них на континенте или каково бы ни было количество их, поставляемое рудниками Америки, были бы ограничены пределами цен, по которым Английский банк покупает слитки, и монетной ценой, по которой он продаёт их. Количество обращающихся денег было бы приспособлено к нуждам торговли с наибольшей точностью, и если бы Английский банк был временно настолько неосторожен, что переполнял бы обращение, то сила противодействия, которой обладала бы публика, очень скоро напомнила бы ему о его ошибке. Что касается провинциальных банков, то они, как и теперь, должны были бы оплачивать свои банкноты по требованию банкнотами Английского банка. Это было бы достаточной гарантией против возможности для этих банков чересчур увеличивать бумажно-денежное обращение. Не было бы никакого искушения переплавлять монету, и следовательно, труд, который так бесполезно затрачивался одними на перечеканку того, что другие считали выгодным переплавлять в слитки, был бы полностью сбережён. Деньги не подвергались бы ни порче, ни разрушению и обладали бы столь же неизменной стоимостью, как само золото, - великая цель, которую поставили себе голландцы и которую они осуществили при помощи системы, очень похожей на ту, которая здесь рекомендуется. Ответ на практические замечания г-на Бозанкета по поводу доклада комитета о слитках
ГЛАВА I. Предварительные замечанияКраткое изложение возражений г-на Бозанкета на заключения Комитета о слитках Вопрос об обесценении наших денег приобрёл в последнее время особый интерес и привлёк к себе такое живое внимание всех мыслящих людей, что обещает нам самые благоприятные результаты. Мы чрезвычайно обязаны уже теперь Комитету о слитках за наиболее правильное изложение истинных принципов, долженствующих регулировать денежное обращение народов, когда-либо опубликованное в достаточно авторитетной форме в нашей или любой другой стране. Нельзя было бы, однако, ожидать, чтобы столь важная реформа, предлагаемая Комитетом, могла быть осуществлена, не вызывая самой горячей оппозиции, диктуемой ошибочными принципами одних и взглядами, непосредственно вытекающими из интересов других. До сих пор такая оппозиция давала самые лучшие результаты; благодаря ей правильность принципов, изложенных Комитетом, была доказана более полно; на арену спора привлекались всё новые и новые борцы, и дискуссия ежедневно создавала, таким образом, новых сторонников правого дела. Однако из всех нападок на доклад Комитета нападки г-на Бозанкета показались мне наиболее сильными. Он не ограничивается, подобно своим предшественникам, одной только декламацией, и хотя он отказывается от рассуждений и аргументов, он подчёркивает именно те моменты, которые, по его мнению, являются неопровержимыми доказательствами расхождения теории с прежней практикой. Именно эти доказательства я и предполагаю рассмотреть, и я убеждён, что если мне не удастся доказать их полную несостоятельность, то причиной тому будет не несостоятельность защищаемых мною принципов, а недостаточность моих личных способностей. Г-н Бозанкет начинает с того, что использует вульгарное обвинение, которое в последнее время так часто выдвигалось даже в очень высоких сферах против теоретиков. Он предлагает публике не слушать их умозрительных построений, не подвергнув их предварительно проверке фактами, и он любезно предлагает взять на себя роль руководителя в этом испытании. Если бы наша страна вела до сих пор меновую торговлю и только впервые приступила к установлению системы, при которой денежное обращение облегчает торговые операции, то мы имели бы некоторое основание называть принципы, предлагаемые общественному вниманию, чисто теоретическими; ибо если бы даже они и были продиктованы опытом прошлого, их практические последствия не были бы ещё обнаружены. Но раз основные начала давно уже введённого денежного обращения хорошо поняты, раз законы, регулирующие колебания уровня вексельного курса между странами, были известны и наблюдались в течение столетий, то можно ли назвать чисто теоретической систему, которая апеллирует к этим началам и может быть проверенной с помощью этих законов? Именно такому рассмотрению подвергнут теперь доклад Комитета, и публику приглашают поверить, что принцип, который противники его признают неприступным для теоретических нападок и аргументов, может быть разгромлен путём апелляции к фактам. Нам говорят, что, "как бы смело ни утверждался этот принцип, как бы сильны ни были, повидимому, доводы разума в его пользу, он в общем неверен и противоречит фактам". Но именно таково испытание, которому я давно уже стремлюсь подвергнуть эту столь важную теорию. Я давно желал, чтобы те, кто отказывается признать принципы, казалось бы санкционированные опытом, либо выдвинули свою собственную теорию для объяснения причин настоящего положения нашего денежного обращения, либо указали факты, расходящиеся, по их мнению, с теорией, которую я защищаю в силу глубочайшего убеждения. Таким образом, я чувствую себя весьма обязанным г-ну Бозанкету. Если, как я в том уверен, я сумею опровергнуть его возражения, доказать их полную несостоятельность, убедить его, что именно его положения противоречат фактам и что своими предполагаемыми доказательствами он обязан ошибочному применению принципа, а не несовершенству самого принципа, то я буду с уверенностью ожидать, что он откажется от своих ошибок и станет самым смелым защитником моих взглядов. Г-н Бозанкет даёт такое изложение главных положений Комитета, против которых он собирается возражать: "1) Что колебания вексельного курса с чужими странами отнюдь не могут превысить в течение сколько-нибудь значительного времени расходы по перевозке драгоценных металлов из одной страны в другую и их страхованию. 2) Что цена золотых слитков отнюдь не может превосходить монетную цену, если только стоимость денег, которыми они оплачиваются, не упала ниже стоимости золота. 3) Что, поскольку о том можно судить по материалам таможенных отчётов о ввозе и вывозе, состояние вексельного курса должно быть особенно благоприятно. 4) Что в течение периода приостановки размена банкнот Английский банк обладает исключительной властью ограничивать обращение банкнот. 5) Что обращение банкнот провинциальных банков зависит от выпусков Английского банка и пропорционально им". И, наконец, "что количество бумажных денег в настоящее время чрезмерно, что они обесценены в сравнении с золотом и что высокая цена слитков и низкий вексельный курс являются в такой же мере последствиями, как и симптомами этого обесценения". Так как эти положения во всех существенных пунктах тождественны с теми, которые высказал я и за которые на меня напал г-н Бозанкет, то во избежание необходимости ссылаться в одном случае на мнение Комитета о слитках, а в другом - на моё собственное я буду на следующих страницах этой работы рассматривать их только как положение Комитета о слитках, отмечая в каждом отдельном случае каждый оттенок возможного разногласия между моими взглядами и взглядами Комитета. ГЛАВА II. Рассмотрение данных, приведённых г-ном Бозанкетом и взятых им из истории вексельных курсовОтдел 1. Вексельный курс на Гамбург Вексельный курс на Гамбург Первое оспариваемое положение гласит: вексельный курс с другими странами никогда не сможет измениться настолько, чтобы превысить в течение сколько-нибудь значительного времени расходы по перевозке драгоценных металлов из одной страны в другую и по их страхованию. Можно ли назвать это положение теоретическим взглядом, выдвинутым теперь впервые? Разве оно не было санкционировано работами Юма и Смита? И разве оно не признавалось бесспорным даже практиками? Г-н... в своём показании перед Комитетом о слитках замечает, что "степень, в какой может упасть вексельный курс, определяется расходами по перевозке слитков плюс соответствующая прибыль за риск, с которым связана перевозка такого рода". Г-н А. Гольдсмид не может припомнить, чтобы до приостановки платежей звонкой монетой вексельный курс был когда-либо больше чем на 5% выше паритета. Г-н Грефюль констатировал, что "с тех пор, как он занимается торговыми делами, он не может припомнить такого периода, предшествовавшего приостановке платежей Английским банком, когда вексельный курс стоял значительно ниже паритета". То же самое мнение было высказано многими практиками перед Комитетом палаты лордов в 1797 г. Но, выступая против всех этих мнений, г-н Бозанкет ссылается на факты, которые, как он имеет смелость думать, доказывают неосновательность защищаемой доктрины. "В течение 1764-1768 гг. - четырёх лет, предшествовавших перечеканке, - говорит он, - когда несовершенное состояние монеты вызвало превышение цены золота над его монетной ценой на 2-3%, вексельный курс на Париж был на 8-9% против Лондона и в то же самое время вексельный курс на Гамбург был в течение всего этого периода на 2-6% в пользу Лондона; здесь, таким образом, налицо прибыль в 12-14%, получаемая в мирное время сверх расходов по уплате долга на Париж гамбургским золотом и долженствующая превысить фактические издержки перевозки на 8-10%. Достойно замечания, что средний вексельный курс на Гамбург, который в 1766 и 1767 гг. был на 5% в пользу Лондона, давал вместе с 2% превышения цены золота над его монетной ценой премию в 7% на ввоз золота в Англию или за вычетом 1 1/2 % расходов мирного времени чистую прибыль 5%; однако вексельный курс не выправился от этого. И в 1775, 1776 и 1777 гг., после перечеканки, мы снова находим вексельный курс на Париж на уровне 5, 6, 7 и 8% против Лондона, в мирное время, когда вдвое меньшей суммы хватило бы, чтобы направить золото в Париж, и вчетверо меньшей, чтобы уплатить долги Парижа в Амстердаме. А так как 1781, 1782 и 1783 годы были годами войны, то вексельный курс был постоянно на 7-9% в пользу Парижа; в течение этого периода обращавшиеся в нашей стране деньги были обычно золотыми, и Английский банк вынужден был доставлять публике золото по его монетной цене. Мы уже показали, какое незначительное действие произвели драгоценные металлы на выравнивание вексельного курса на Гамбург в течение 1797-1798 гг. Другой пример доставляют нам годы 1804 и 1805, когда вексельный курс на Париж был на 7-9% в пользу Лондона. В каждом из приводимых здесь случаев уровень колебания вексельных курсов значительно превосходил расходы по пересылке золота из одной страны в другую и в большинстве случаев в несравненно большей степени, чем в настоящее время. Условия тех эпох, - это охотно признает каждый, - были более благоприятны для сношений такого рода, чем в настоящее время, а состояние металлического обращения представляло тогда удобства, каких мы теперь не знаем, и всё же при всех этих невыгодах принцип, принятый Комитетом, оказался неприменимым на практике; его нельзя поэтому считать тем солидным основанием, на котором попытались воздвигнуть надстройку излишка и обесценения денег". Если бы факты были действительно таковы, какими их излагает г-н Бозанкет, я считал бы затруднительным согласовать их с моей теорией. Эта теория считает установленным, что раз в какой-либо отрасли есть возможность реализовать огромные прибыли, то это привлечёт к ней достаточное число капиталистов, а благодаря конкуренции между ними их прибыли упадут до общей нормы торгового барыша. Согласно этой теории этот принцип применим в особенности в торговле кредитными бумагами и известен не только одним английским торговцам; его прекрасно понимают и используют к своей выгоде также торговцы кредитными бумагами и слитками в Голландии, Франции и Гамбурге. Хорошо известно, что конкуренция в этой отрасли торговли доводится до самой высокой степени. Неужели г-н Бозанкет предполагает, что теория, которая покоится на таком прочном базисе опыта, может пошатнуться от одного или двух изолированных фактов, недостаточно известных нам? Если бы даже никто не пытался объяснить их, им можно было бы спокойно предоставить возможность производить своё естественное влияние на общественное мнение. Но прежде чем допустить, что фактами г-на Бозанкета доказана несостоятельность рассуждений Комитета, мы должны исследовать источник, из которого почерпнуты эти так называемые факты. Г-н Бозанкет рассказывает нам, что "к памфлету г-на Мэшета приложена таблица, показывающая 1) вексельные курсы на Гамбург и Париж за прошедшие 50 лет и насколько они были в каждом случае выше или ниже паритета. 2) Цену золота в Лондоне и сравнение этой цены с английской стандартной или монетной ценой. 3) Количество банкнот в обращении и размер их предполагаемого обесценения при сопоставлении их с ценою золота". Точность этих таблиц должна быть признана или доказана, прежде чем выводы, вытекающие из их рассмотрения, могут получить признание; но в данном случае это не так, ибо точность этих таблиц дезавуируется самим г-ном Мэшетом, который во втором издании своей брошюры признал ложность принципа, положенного в основу его расчётов, и дал нам новые и исправленные таблицы. Второе издание памфлета г-на Мэшета сопровождалось следующим примечанием: "В первом издании этой работы я установил паритет вексельного курса на Гамбург в 33 шилл. и 8 грот. и считал паритет фиксированным на этом уровне, но согласно полученным мною с того времени более точным сведениям паритет считается равным 34 шилл. 11 1/4 грота, и в настоящем издании я исхожу именно из этой цифры. Я исправил также ошибку, заключавшуюся в том, что я рассматривал паритет как величину фиксированную; так как денежным материалом в Англии является золото, а в Гамбурге - серебро, то между этими странами не может существовать фиксированного паритета, он будет изменяться в зависимости от всех колебаний в относительной стоимости золота и серебра. Так, например, если 34 шилл. 11 1/4 грота гамбургских денег будут равняться 1 ф. ст., или 20/21 гинеи, при цене серебра в 5 шилл. 2 пенса за унцию, то при падении цены его до 5 шилл. 1 пенса или до 5 шилл. за унцию дело меняется, так как тогда цена 1 ф. ст. золотом, выраженная в серебре, увеличится и тем самым увеличится и цена его, выраженная в гамбургских деньгах. Поэтому, чтобы найти действительный паритет, мы должны установить, какова была относительная стоимость золота и серебра в то время, когда паритет был фиксирован в 34 шилл. 11 1/4 грота, и какова была их относительная стоимость в то время, для которого мы хотим вычислить паритет. Например, если бы цена стандартного золота составляла 3 ф. ст. 17 шилл. 10 1/2 пенс. за унцию, а серебра - 5 шилл. 2 пенса, то унция золота стоила бы тогда 15,07 унции серебра, что и является их монетным соотношением; 20 наших стандартных шиллингов содержали бы тогда столько же чистого серебра, сколько 34 шилл. 11 1/4 грота; но если бы унция золота стоила 3 ф. ст. 17 шилл. 10 1/2 пенс., а серебра - 5 шилл. (как это имело место 2 января 1798 г.), то унция золота стоила бы тогда 15,57 унции серебра. Поэтому, если бы 1 ф. ст. стоил по паритету 15,07 унции серебра, то при действительной стоимости его в 15,57 унции он доставлял бы 3% премии, а 3% премии на 34 шилл. 11 1/4 грота составляют 1 шилл. 1 9/10 грота; таким образом, если отношение стоимости золота к стоимости серебра равно 15,57 : 1, то паритет будет равен 36 шилл. 1 1/10 грота. Вышеприведённое вычисление может быть сделано более понятным, если мы изобразим его следующим образом: 15,07 : 34 шилл. 11 1/4 грота = 15,57 : 36 шилл. 1 1/10 грота". Так как всеми признано, что золото является стандартной мерой стоимости в нашей стране и что серебро выполняет ту же функцию в Гамбурге, то очевидно, что никакие таблицы, исходящие из фиксированного неизменного паритета, не могут быть правильны. Действительный паритет должен изменяться вместе с каждым изменением в относительной стоимости двух металлов. Имеются, однако, и некоторые возражения против полной точности новых таблиц г-на Мэшета, которые я хочу сейчас привести. Во-первых, он принял слишком низкий паритет для серебра относительно серебра; он вычислил на основании полученных им сведений, что 20 английских стандартных шиллингов в серебре содержали столько же чистого металла, сколько 34 гамбургских шиллинга и 11 1/4 грота; но из таблицы д-ра Келли ("Доклад о слитках", стр. 207) явствует, что как в результате действительной проверки, так и на основе вычисления 20 шилл. были равны по стоимости 35 шилл. 1 гроту. Разница составляет немного больше, чем 3/8 %, и я отметил её только потому, что считаю в высшей степени желательной возможность определить в любое время настоящий паритет. Во-вторых, г-н Машет вычислил степень, в которой вексельный курс был выше или ниже паритета, на основании цен, которые он заимствует в "Бюллетене Ллойда". Так вот, эти цены брались неизменно для векселей сроком на 2 1/2 месяца, а так как вексельный паритет устанавливается путём сравнения действительной стоимости монет двух стран, в которых по истечении 2 1/2 месяцев уплата производится одновременно в обеих странах, а не в одной, то для этого периода нужно принять известную компенсацию, которая будет равна приблизительно 1% <из показания г-на... перед Комитетом о слитках явствует, что вексельный курс Гамбурга на Лондон различается в обычное время на 1 фламандский шиллинг от вексельного курса Лондона на Гамбург в виде компенсации за 2 1/2-месячный срок и комиссию, которая даётся за векселя в обоих направлениях. При самых больших трудностях сообщения разница вексельного курса составляла 2 полных фламандских шиллинга>. Поэтому в таблицах г-на Мэшета следует вычесть из данных графы благоприятного курса на Англию 1 3/8 %. При всех вычислениях подлинного паритета вексельного курса имелись ещё и другие источники ошибок. На некоторые из них мы в дальнейшем укажем. Таким образом, поскольку мы не располагаем всеми необходимыми данными, мы не можем установить с совершенной точностью для того или иного периода размеры действительной разницы между уплатой путём пересылки слитков или путём покупки векселя. Я готов проверить правильность оспариваемого принципа с помощью переработанных таблиц г-на Мэшета, исправленных указанным образом. Тогда станет ясно, что ни в один период со времени 1760 г. вексельный курс на Гамбург не был больше чем на 7% в пользу Англии за одним только исключением. Наличие этого исключения не удивит читателя, когда он узнает, что оно имело место в достопамятном 1797 г., сейчас же после приостановки Английским банком платежей звонкой монетой. В этот период денежное обращение нашей страны было доведено до особенно низкого уровня, так как количество банкнот в обращении было меньшим, чем в течение предшествовавших 10 лет. Что при таких условиях вексельный курс должен был быть благоприятным для Англии и, что, следовательно, большой ввоз слитков должен был иметь место, это вполне согласуется с принципом Комитета о слитках и подтверждает действительность предложенного им средства улучшить положение. По его мнению, причинами теперешнего номинально низкого вексельного курса являются значительное обращение бумажных денег и чрезмерное количество находящихся в обращении денег вообще, и он с уверенностью предсказывает, что уменьшение количества их повысит, как и в 1797 г., вексельный курс и сделает прибыльным ввоз слитков. Что благоприятный вексельный курс вызвал в 1797 г. огромный ввоз золота, может быть прекрасно доказано косвенными данными. Сумма иностранного золота, перечеканенного в монету на Монетном дворе его величества, составляла:
Но, спросят нас, как смогут люди, утверждающие, что вексельный курс не может оставаться в течение продолжительного времени ни очень благоприятным, ни очень неблагоприятным, объяснить, что вексельный курс на Гамбург был неизменно благоприятен для Англии в течение двух или трёх лет? Это имело место, замечает г-н Бозанкет, в течение 1797 и 1798 гг.; при этом он утверждает, что драгоценные металлы оказали ничтожное влияние на выравнивание вексельных курсов. Из новых таблиц г-на Мэшета (исправленных всюду на 1 3/8%} явствует, что в течение этих лет вексельный курс был благоприятен для Англии и колебался от 5,6 до 4,3%. Но, по моему разумению, принцип заключается в том, что ни одна страна не может в течение продолжительного времени иметь ни очень благоприятный, ни очень неблагоприятный вексельный курс, потому что предпосылкой их должно быть либо сильное увеличение запаса денег и слитков в одной стране, либо сильное уменьшение этого запаса в другой, а это приведёт к нарушению того равновесия в стоимости обращающихся денег различных стран, к установлению которого имеется естественная тенденция. Это утверждение верно вообще в применении к вексельному курсу любой страны, но оно неверно, если мы принимаем во внимание только уровень её вексельного курса с одной страной. Возможно, что её вексельный курс с какой-либо одной страной может быть постоянно неблагоприятен вследствие продолжающегося спроса на слитки; но это отнюдь не доказывает, что её запас денег и слитков уменьшается, если только её вексельный курс с другими странами не является также неблагоприятным. Она может ввозить с севера слитки, которые она вывозит на юг, она может собирать их из стран, где они относительно обильны, для стран, где они относительно редки или где в силу определённых причин на них имеется особенный спрос, но из этого отнюдь нельзя ещё сделать категорического вывода, что её собственный запас денег снизится ниже его естественного уровня. Испания, например, как крупный импортёр слитков из Америки никогда не может иметь неблагоприятного вексельного курса со своими колониями, а поскольку она должна распределять получаемые ею слитки между различными нациями мира, она редко может иметь благоприятный вексельный курс со странами, с которыми она ведёт торговлю <г-н Гэскиссон прекрасно показал характер тех немногих сделок - сравнительно немногих, - которые производятся с помощью слитков, и заметил, что эти сделки ограничиваются главным образом распределением продукта рудников между различными странами, в которых употребляются и золото и серебро>. Применяя эти принципы к состоянию нашего вексельного курса на Гамбург в 1797 и 1798 гг., мы увидим, что если наш вексельный курс был постоянно благоприятен для Англии, то это было не результатом того, что обыкновенно называется торговым балансом. Гамбург был поставлен в необходимость платить нам в золотых и серебряных слитках не потому, что он был нашим должником по балансу ввезённых им товаров, а потому, что он мог выгодно вывозить слитки таким же путём, как и всякий другой товар, вследствие необычного спроса на этот товар в Англии. Этот спрос вызывался двумя причинами: во-первых, необычно низким уровнем нашего денежного обращения, во-вторых, вывозом серебра в Азию Ост-Индской компанией. Мы уже видели, что вследствие первой из этих причин и благодаря огромному количеству гиней, извлечённому в этот период из обращения робкими людьми с целью образования запасов, иностранное золото, перечеканенное в гинеи в течение этих лет, составило сумму не меньшую чем 5 200 тыс. ф. ст. Итак, тут был налицо спрос на золото, не имевший прецедента в истории Монетного двора; уже сам по себе этот спрос был более чем достаточным объяснением как высокого вексельного курса, так и продолжительности срока, в течение которого он держался. Это практическая иллюстрация правильности принятой нами вполне удовлетворительной теории. К этому, однако, следует прибавить спрос на серебряные слитки, явившийся следствием вывоза серебра Ост-Индской компанией. Из отчёта, представленного Комитету о слитках (N 9), явствует, что всё количество иностранной серебряной монеты, вывезенной компанией за собственный счёт, а также за счёт частных лиц, доходило:
С этого времени вывоз серебра в Ост-Индию значительно уменьшился и теперь почти совершенно прекратился. Итак, оказывается, что высокий вексельный курс сопровождался необычайно большим ввозом слитков и что, когда спрос на них прекратился, вексельный курс вернулся к своему естественному уровню. Из дальнейшего рассмотрения таблицы следует, что по мере увеличения количества банкнот вексельный курс понижался и в 1801 г. был больше чем на 11% против Англии; в то же самое время цена золотых слитков поднялась до 4 ф. ст. 6 шилл., т. е. превышала больше чем на 10% монетную цену <Лорд Кинг дал удовлетворительное объяснение большой длительности благоприятного вексельного курса нашей страны с Гамбургом, указав на то обстоятельство, что Ост-Индская компания предъявляла спрос на серебряные слитки для своих поселений на Востоке. Г-н Блэк критикует в своём последнем сочинении то, что он называет "ошибочными взглядами" лорда Кинга на этот предмет, и замечает, что "вывоз слитков, как и всякого другого товара, стимулируется наличием такой разницы между действительными ценами на этот товар в каких-либо двух местах, которая делает прибыльной их перевозку; подобный случай имеет нередко место при вексельном паритете". Это такой случай, сказал бы я, который никогда не имеет места при вексельном паритете. Кто будет посылать слитки из Гамбурга в Лондон с расходом в 4 или 5%, пока вексельный курс сохраняет свой паритет, если при помощи векселя он может получить то же самое количество слитков в Лондоне без всяких расходов? Я рад констатировать, что мнение, сходное с тем, которое я высказал, разделяется г-ном Бозанкетом (стр. 12): "В случае неблагоприятного платежного баланса понижение вексельного курса должно необходимо достигнуть этой границы (расходы по пересылке и страхованию драгоценных металлов из одной страны в другую), прежде чем баланс может быть восстановлен путём вывоза золота">. Следует признать, что с сентября 1766 г. до сентября 1767 г. вексельный курс был постоянно в пользу Англии на 7,4-6,8%, а с этого периода до сентября 1768 г. он в общем продолжал быть благоприятным больше чем на 3%. Но какие обстоятельства в положении Европы могли тогда сделать выгодной для Англии роль агента по закупке в Гамбурге слитков для какой-либо другой страны? Это - вопрос, которым в данное время заниматься не стоит, но я вполне убеждён, что если бы мы знали все обстоятельства, сюда относящиеся, то могли бы дать удовлетворительное объяснение этому явлению. Но, объяснено ли оно или нет, оно ничего не доказывает в пользу теории г-на Бозанкета (ибо и г-н Бозанкет также имеет свою теорию - не хуже, чем Комитет); оно только доказывает, что драгоценные металлы могут продолжать ввозиться из одного места и в то же время вывозиться в другое, а теория Комитета не только допускает это, но и требует. Чтобы сказать что-либо в пользу теории г-на Бозанкета, следует доказать, что драгоценные металлы ввозились постоянно в большем количестве, чем вывозились, и не из одного только места, а из всех мест, взятых в совокупности. Следующие соображения объясняют в известной степени явления, которые ввели в заблуждение г-на Бозанкета: таблицы г-на Мэшета вычислены на основе сравнения стоимости серебра по отношению к золоту в слитках. Так вот, цена золота в слитках обычно ниже цены золота в монете на 2 или 3 шилл. за унцию и, следовательно, если бы ввозимое золото было предназначено для реэкспорта, то действительный паритет колебался бы на 2-3% в зависимости от того, положено ли в основу вычисления золото в монете или золото в слитках <Вычисления г-на Мэшета считают доказанным, что относительная стоимость золота и серебра была одинакова в обеих странах и что золото и серебро были одной и той же категории, т. е. в слитках. Но ведь иностранец решает, вывозить ли ему золото в нашу страну или совершить свой платёж при помощи векселя, главным образом на основе стоимости золота в монете; цена золота в монете в Англии должна обязательно войти в его калькуляцию. Из приложения N 6 к "Докладу о слитках" видно, что сделки с континентом в золоте ограничиваются в большинстве случаев золотом в монете. За 15 месяцев, окончившихся мартом 1810 г., вся сумма золота в слитках, проданная частными дельцами и прошедшая через Слитковое отделение Английского банка, не превысила по своей стоимости 60867 ф. ст., тогда как продажа золота в монете составила за тот же период сумму в 683 067 ф. ст.>. Если деньги нужны для нашего собственного обращения, то я не возражаю против вычисления действительного паритета вексельного курса на основе сравнения относительной стоимости серебра чужой страны со стоимостью стандартных золотых слитков в нашей стране; но в этом случае к сумме расходов, связанных с перевозкой серебра, следует прибавить проценты, которые потеряет покупатель золота, пока это золото будет оставаться на Монетном дворе, куда оно поступит для чеканки. Значительная часть всего золота в слитках направляется в естественном порядке на какой-нибудь из европейских монетных дворов, ибо золото может приносить своему собственнику процент только в форме монеты. Сравнивая поэтому стоимость денег одной страны со стоимостью слитков в другой, мы не должны упускать из виду ту небольшую добавочную стоимость, которую монета имеет в сравнении со слитками во ввозящей стране. Так, если бы гамбургский купец был должен 1 ф. ст. английскому и вывез бы в Англию столько серебра, сколько нужно, чтобы купить количество золота, содержащееся в 1 ф. ст., он не был бы в состоянии погасить свой долг, пока золото не было бы перечеканено в монету. Следовательно, при сравнении относительной выгодности покупки векселя или пересылки слитков он должен будет ввести в расчёт в добавление ко всем другим расходам и проценты, которые ему придётся платить своему кредитору до тех пор, пока он не получит монеты. Эту потерю Комитет о слитках определил в 1 %. Если эти принципы верны, то в таблицах г-на Мэшета следует вычесть из благоприятных гамбургских вексельных курсов на 1% больше, чем мы уже установили, в том случае, когда слитки требуются для нашей собственной монеты, и от 2 до 3% - когда они требуются для обратного вывоза. Необходимо также заметить, что стоимость золота по отношению к серебру постоянно изменяется во всех странах, хотя всегда стремится во всех же странах к равенству, и что высокая рыночная цена слитков является лучшим доказательством обесценения наших денег, чем низкий вексельный курс <Я прочёл в небольшой французской брошюрке "Sur L'Institution des Principales Banques de L'Europe" ("Об учреждении главных европейских банков"), что Гамбургский банк был однажды принуждён прекратить свои платежи потому, что выдал слишком много ссуд под золотые слитки. Я тщетно старался узнать, в котором году это случилось, но очевидно, что обстоятельство такого рода должно было иметь некоторое влияние на вексельный курс; вполне возможно, следовательно, что это произошло в 1766 или 1767 г.>. Следующие соображения объясняют в известной степени явления, которые ввели в заблуждение г-на Бозанкета: таблицы г-на Мэшета вычислены на основе сравнения стоимости серебра по отношению к золоту в слитках. Так вот, цена золота в слитках обычно ниже цены золота в монете на 2 или 3 шилл. за унцию и, следовательно, если бы ввозимое золото было предназначено для реэкспорта, то действительный паритет колебался бы на 2-3% в зависимости от того, положено ли в основу вычисления золото в монете или золото в слитках <Вычисления г-на Мэшета считают доказанным, что относительная стоимость золота и серебра была одинакова в обеих странах и что золото и серебро были одной и той же категории, т. е. в слитках. Но ведь иностранец решает, вывозить ли ему золото в нашу страну или совершить свой платёж при помощи векселя, главным образом на основе стоимости золота в монете; цена золота в монете в Англии должна обязательно войти в его калькуляцию. Из приложения N 6 к "Докладу о слитках" видно, что сделки с континентом в золоте ограничиваются в большинстве случаев золотом в монете. За 15 месяцев, окончившихся мартом 1810 г., вся сумма золота в слитках, проданная частными дельцами и прошедшая через Слитковое отделение Английского банка, не превысила по своей стоимости 60867 ф. ст., тогда как продажа золота в монете составила за тот же период сумму в 683 067 ф. ст.>. Вексельный курс на Париж Рассмотрев возражения г-на Бозанкета против заключений Комитета, поскольку они касаются вексельного курса на Гамбург, я перейду теперь к рассмотрению явлений, противоречащих, по его мнению, защищаемому мною принципу и относящихся к вексельному курсу между нашей страной и Парижем. При рассмотрении вексельного паритета с Гамбургом мы имели дело с ясным и простым принципом его исчисления. Другое дело - вексельный паритет с Парижем. Трудность проистекает из следующего: Франция, так же как и Англия, имеет в обращении два металла - золото и серебро, каждый из которых одинаково является законным платёжным средством. В прежде опубликованной мною работе я старался объяснить принципы, на основе которых устанавливается, по моему мнению, стандартная мера стоимости в стране, где в обращении находятся оба металла и оба являются при этом законным платёжным средством. Лорд Ливерпуль предполагал, что золото стало стандартной мерой стоимости в нашей стране лишь вследствие капризного предпочтения, которое народ отдавал золоту, но, по моему мнению, легко доказать, что это произошло благодаря тому, что отношение рыночной стоимости серебра к стоимости золота превзошло отношение, установленное монетным уставом. Принцип этот не только целиком допускается, но и очень хорошо иллюстрируется его лордством. Монетный двор чеканит из унции золота 3 ф. ст. 17 шилл. 10 1/2 пенс. золотой монеты и такое же количество серебряной монеты из 15,07 унции серебра. Что же побуждает тогда Английский банк или частное лицо отправлять на Монетный двор унцию золота предпочтительно пред 15,07 унции серебра для чеканки из неё монеты, раз оба металла одинаково пригодны для погашения долга в размере 3 ф. ст. 17 шилл. 10 1/2 пенс.? Единственным аргументом является тут выгода. Если 15,07 унции серебра могут быть куплены меньше чем за унцию золота, монета будет чеканиться из серебра, а если унция золота может быть получена меньше чем за 15,07 унции серебра, то на Монетный двор будет посылаться золото. В первом случае мерой стоимости станет серебро, во втором - золото, а так как относительная стоимость этих металлов подвержена постоянным изменениям, то золото или серебро могут становиться попеременно стандартной мерой стоимости. Со времени перечеканки серебряной монеты в царствование короля Вильяма унция золота почти неизменно имела меньшую стоимость, чем 15,07 унции серебра, а поэтому, начиная с этого периода, золото было мерой стоимости в нашей стране. В 1798 г. чеканка серебряной монеты была запрещена законом. Пока этот закон остаётся в силе, золото обязательно должно быть стандартной мерой стоимости, каковы бы ни были изменения в относительной стоимости обоих металлов <Комитет о слитках, так же как и г-н Гэскиссон, рассматривает золото как стандартную меру стоимости на основании закона, изданного в 39-м году настоящего царствования (1799 г.), в силу которого серебро не может быть законным платёжным средством для сумм, превосходящих 25 ф. ст., исключая лишь уплату по весу, считая по 5 шилл. 2 пенса за унцию. Но этот закон не помешал бы чеканке серебра в те периоды, когда цена его была ниже его монетной цены, а следовательно, и ниже его монетной стоимости по отношению к золоту. Так, например, в 1798 г., когда цена серебра составляла 5 шилл. за унцию, а отношение рыночной стоимости серебра и стоимости золота - 1 : 15,57 и когда поэтому было выгодно перечеканивать серебро в монету, новая серебряная монета, только что покинувшая Монетный двор, была бы законным платёжным средством на любую сумму>. Металл, который является стандартной мерой стоимости, будет также регулировать паритет вексельного курса с чужими странами, потому что только в нём или в бумажных деньгах, представляющих этот металл, будут оплачиваться векселя. Во Франции в обращении также находятся оба металла, и оба являются законным платёжным средством на любую сумму. Относительная стоимость золота и серебра в монетах Франции составляла до революции 15 : 1 ("Доклад Комитета о слитках", приложение N 59), а в данное время 15,5 : 1, но мы знаем из письма г-на Грефюля Комитету о слитках (N 56), что в 1785 г. произошло изменение в числе луидоров, которые чеканились из одной марки <т. е. 8 унций золота. - Прим. ред.> золота, а именно оно увеличилось с 30 до 32. Следовательно, до 1785 г. золото должно было оцениваться на французском Монетном дворе по отношению к серебру, как 14 : 1. В силу тех же оснований, по которым функция меры стоимости в Англии переходила от золота к серебру и от серебра к золоту, это могло бы иметь место и во Франции. При падении отношения стоимости золота к стоимости серебра ниже 14 : 1 золото сделалось бы стандартной мерой стоимости во Франции, и, следовательно, уровень вексельного курса с Англией измерялся бы путём сравнения стоимости золотых монет обеих стран. Если бы это отношение было выше 14:1 и ниже 15,07:1, то мерой стоимости в Англии стало бы золото, а во Франции - серебро, и вексельный курс определялся бы соответственно. Паритет был бы тогда установлен путём сравнения цены золота Англии с ценой серебра Франции. При повышении же рассматриваемого отношения выше 15,07 : 1 серебро стало бы мерой стоимости в обеих странах. Вексельный курс определялся бы тогда в серебре. Но после 1785 г., когда монетная оценка обоих металлов была изменена во Франции и стала почти одинаковой с такой же оценкой в Англии, паритет вексельного курса определялся бы в обеих странах или в золоте, или в серебре. Я уже заметил, что для того, чтобы сравнить размер отклонения вексельного курса от паритета с расходами по пересылке драгоценных металлов из одной страны в другую, недостаточно доказать, что такая торговля была бы прибыльна. Мы должны также принять во внимание цену слитков в стране, в которую их пересылают, или сумму расходов, которые потребуются, чтобы доставить слитки для перечеканки в монету. В нашей стране за чеканку монеты не взимается пошлины. Если унция золота и серебра доставляется на Монетный двор, то обратно получается унция отчеканенной монеты. Следовательно, единственное неудобство, которое может испытать импортёр слитков, получая вместо английских денег слитки из-за границы, заключается в отсрочке, связанной с их пребыванием на Монетном дворе. Эту потерю Комитет о слитках определил в 1%. Таким образом, 1% представляет естественный перевес стоимости английской монеты над слитками при условии, что монета полновесна и что излишка денег не наблюдается. Но во Франции пошлина за чеканку монеты составляет, по данным д-ра Смита, не меньше чем 8% , не считая потери процентов за время нахождения слитков на Монетном дворе. Согласно его же авторитетному заявлению из этого не возникало значительных неудобств <уже после того, как это было написано, мне попалось извлечение из "Moniteur" за 1803 г., из которого явствует, что пошлина за чеканку во Франции составляла:
А в 1803 г. эта пошлина была установлена в 1/3 % для золота и в 1 1/2 % для серебра.>. Следовательно, унция золотой или серебряной монеты стоила во Франции на 8% больше, чем унция золота или серебра в слитках. Из этих фактов следует, что слитки могли ввозиться во Францию лишь при условии возможности получить не только прибыль, равную расходам по их ввозу, но и дальнейшую прибыль в 8%, так как паритет вексельного курса вычисляется не на основе стоимости, по которой монета обращается в данное время, но на основе её внутренней стоимости как слитка <только до тех пор, пока денежное обращение Франции держалось на надлежащем уровне, цена золота могла оставаться на 8% ниже его монетной цены, точно так же как цена золота могла и продолжала оставаться ниже его монетной цены в Англии. Денежное обращение Англии скорее превышало свой уровень, в то время когда золото стоило 3 ф. ст. 17 шилл. 6 пенс., так как 4 пенса за унцию не представляют достаточной компенсации за время пребывания на Монетном дворе. Из этого следует, таким образом, что защищаемый здесь принцип только тогда сохраняет свою полную силу, когда денежное обращение не является избыточным>. Чтобы сделать это более очевидным, предположим, что вексельный курс на Лондон был в 1767 г., как сообщает нам г-н Бозанкет, на 8% в пользу Франции, что вексельный курс на Гамбург был в это же время на 6% в пользу Лондона и что расходы по пересылке золота из Гамбурга в Париж составляли не больше чем 1 1/2 %. Не будет ли дешевле на 12 1/2 %, спрашивает г-н Бозанкет, уплатить долг в Париже, посылая золото из Гамбурга <так как средством обращения в Гамбурге является серебро, то английский кредитор может послать из Гамбурга в Париж только серебро, а не золото>, чем пересылая вексель? Я отвечаю: нет, потому что, когда золото прибудет в Париж, оно должно быть перечеканено в монету или продано как слиток. Если оно будет перечеканено в монету, то придётся уплатить Монетному двору 8 %, если оно будет продано как слиток, то продажная цена его будет на 8% ниже его монетной цены <"Во Франции при чеканке удерживается налог в 8% <это ошибка. Смита ввел в заблуждение "Словарь монет" Базингена. Во времена Смита пошлина за чеканку монеты во Франции не превышала 1-1 1/2 %. - Прим. ред.>, который не только покрывает расходы по чеканке, но и даёт правительству небольшой доход. Так как в Англии чеканка ничего не стоит, звонкая монета никогда не может стоить дороже слитка, содержащего такое же количество металла. Во Франции труд, затрачиваемый на чеканку, поскольку вы платите за него, увеличивает стоимость монеты точно так же, как и стоимость изделий из золота и серебра. Поэтому во Франции сумма денег, содержащая определённое весовое количество чистого серебра, стоит больше, чем сумма английских денег, содержащая такое же весовое количество чистого серебра, и для приобретения её требуется слиток больших размеров или большее количество других товаров. И поэтому, хотя звонкая монета обеих этих стран одинаково близка к пробе, установленной их монетными дворами, на определённую сумму английских денег нельзя получить соответствующую сумму французских денег, содержащую одинаковое количество унций чистого серебра, а следовательно, нельзя и получить вексель на Францию на такую сумму. Если за такой вексель уплачивается не больше добавочных денег, чем требуется для покрытия издержек по чеканке во Франции, то фактический курс между обеими странами может держаться на уровне паритета, их дебет и кредит могут взаимно покрывать друг друга, хотя предполагаемый курс считается намного в пользу Франции. Если уплачивается меньше этой суммы, фактический курс может быть в пользу Англии, тогда как предполагаемый - в пользу Франции". [Адам Смит, Исследование о природе и причинах богатства народов, т. II, стр. 51.]>. Если все остальные расчёты правильны, то прибыль упадёт с 12 1/2 до 4 l/2 %. Но они неправильны, так как в силу уже указанных причин имеются ещё и другие вычеты. Исходя из этих принципов, можно, по моему мнению, сказать, что вексельный курс на Париж был в пользу Англии в течение значительной части четырёхлетия с 1764 до 1768 г. и во все другие периоды, указанные г-ном Бозанкетом. Я не могу удержаться здесь от следующего замечания: нельзя не изумляться серьёзной уверенности британского купца в том, что вывоз золота из Гамбурга в Париж мог давать в мирное время в течение четырёх лет чистую прибыль, составлявшую после покрытия расходов 10 1/2 - 12 1/2 %. Вследствие быстрых оборотов такая прибыль дала бы возможность всякому занятому этим делом реализовать больше чем 100% в год на вложенный капитал и к тому же в такой отрасли торговли, где малейшие колебания подстерегаются группой людей, деловая проницательность которых вошла в пословицу, и где конкуренция доведена до крайних пределов. Сравнивать отчёты о гамбургских и парижских вексельных курсах и не видеть, что эти отчёты неправильны, что рассматриваемые факты не могут быть такими, какими их излагают, - всё это приличествует человеку, который придаёт значение только фактам и не ставит ни во что теорию. Такие люди вряд ли могут проанализировать собранные ими факты. Они легковерны и притом по необходимости, ибо не имеют никакого критерия проверки. Эти два ряда якобы фактических данных (с одной стороны, данные гамбургской биржи, с другой - парижской) абсолютно несовместимы и опровергают друг друга. Что такие факты могут быть выдвинуты для опровержения теории, разумность которой установлена, есть печальное доказательство власти предрассудка над весьма просвещёнными умами. Во Франции в обращении также находятся оба металла, и оба являются законным платёжным средством на любую сумму. Относительная стоимость золота и серебра в монетах Франции составляла до революции 15 : 1 ("Доклад Комитета о слитках", приложение N 59), а в данное время 15,5 : 1, но мы знаем из письма г-на Грефюля Комитету о слитках (N 56), что в 1785 г. произошло изменение в числе луидоров, которые чеканились из одной марки <т. е. 8 унций золота. - Прим. ред.> золота, а именно оно увеличилось с 30 до 32. Следовательно, до 1785 г. золото должно было оцениваться на французском Монетном дворе по отношению к серебру, как 14 : 1. В силу тех же оснований, по которым функция меры стоимости в Англии переходила от золота к серебру и от серебра к золоту, это могло бы иметь место и во Франции. При падении отношения стоимости золота к стоимости серебра ниже 14 : 1 золото сделалось бы стандартной мерой стоимости во Франции, и, следовательно, уровень вексельного курса с Англией измерялся бы путём сравнения стоимости золотых монет обеих стран. Если бы это отношение было выше 14:1 и ниже 15,07:1, то мерой стоимости в Англии стало бы золото, а во Франции - серебро, и вексельный курс определялся бы соответственно. Паритет был бы тогда установлен путём сравнения цены золота Англии с ценой серебра Франции. При повышении же рассматриваемого отношения выше 15,07 : 1 серебро стало бы мерой стоимости в обеих странах. Вексельный курс определялся бы тогда в серебре. Но после 1785 г., когда монетная оценка обоих металлов была изменена во Франции и стала почти одинаковой с такой же оценкой в Англии, паритет вексельного курса определялся бы в обеих странах или в золоте, или в серебре. Предполагаемый факт существования в Америке премии на английские деньги. - Благоприятный вексельный курс на Швецию Следующий вопрос, по поводу которого я хочу сделать несколько замечаний, впервые был упомянут г-ном Грефюлем и теперь вновь выдвигается г-ном Бозанкетом. Я говорю о премии, которая, как утверждают, даётся в Америке звонкими долларами за обесцененные деньги Англии. Я изучал это явление с величайшим вниманием, и мне кажется очевидным, во-первых, что цена, которая названа была премией в 9%, даваемой за вексель на Англию, была в действительности основана на учёте в 3 1/4 % и, во-вторых, что при такой цене оплата векселя обходится дешевле, чем при вывозе долларов, на которые он был куплен. Паритет вексельного курса с Америкой оценивается в долларах и составляет 4 шилл. 6 пенс. за 1 долл.; следовательно, 444,4 долл. должны содержать столько же чистого серебра, сколько 100 ф. ст. Но это не так. Согласно монетному уставу Америки американский доллар должен весить 17 драхм 8 гранов, т. е. на 8 1/2 гранов меньше, чем английское стандартное серебро; следовательно, стоимость американского доллара в нашем стандартном серебре составляет 4 шилл. 3 3/4 пенса. Согласно этой стоимости 463,7 долл. представляют действительный паритет для 100 ф. ст. в нашей английской серебряной монете, но мы сравниваем американские доллары с английским фунтом стерлингов, который есть золото, следовательно, подлинный паритет за 100 ф. ст. при той относительной стоимости доллара и золота, какой она была в мае 1809 г., в период, о котором идёт речь, составлял 500 долл. Так вот, за вексель в 100 ф. ст. на Лондон, купленный на доллары в Америке по наиболее высокому курсу в этом году, т. е. по 109, платилось не больше чем 484 долл.; его покупали, следовательно, на 3 1/4 % ниже действительного паритета <вес находящегося в обращении американского доллара, согласно показанию Вильямса, не больше 17 драхм 6 гранов, а это сделало бы настоящий паритет несколько ниже, чем 4 шилл. З 1/2 пенса; согласно же книге Ида (Ede) "О монетах" вес американского доллара на 11 гранов ниже его стандартного веса и содержит не больше чистого серебра, чем 4 шилл. 2 1/4 пенса английской стандартной серебряной монеты>. Следует вспомнить, что законы об эмбарго соблюдались в это время строжайшим образом, что капитаны пакетботов обязаны были до получения разрешения отправиться в путь дать присягу, что они не имеют на борту никакой звонкой монеты, и что был случай, когда один из этих капитанов был вынужден выгрузить обратно на берег металлические деньги, которые он контрабандным путём захватил с собою на борт своего судна. В то же время тариф страхования был непомерно высок, и премия в 8% уплачивалась тем немногим судам, которые нарушали эмбарго, причём страховщики были, кроме того, гарантированы от потерь, которые причинила бы им конфискация судов американским правительством. Так вот, 8% страховки помимо комиссии, фрахта и других расходов вместе с 3 1/4 % действительного учёта купленного векселя составят, быть может, вместе немногим меньше, чем та потеря стоимости, которой подверглось тогда наше бумажно-денежное обращение, так что наши обесцененные банкноты покупались не с премией за звонкие доллары, а с учётом и по их настоящей стоимости. Но нам говорят, что вексельный курс на Швецию благоприятен для Англии и что деньги Швеции регулируются точно таким же образом, как наши, так как Английский банк не выпускает звонкой монеты, когда вексельный курс становится неблагоприятным. Несомненно, что в обоих случаях имеется совершенно одинаковое положение и что в силу этого сходны и получающиеся результаты и обесценение обеих денежных систем требует одного и того же лекарства. Этим лекарством является уменьшение количества обращающихся денег или путём вывоза монеты, или путём уменьшения количества банкнот. Если вексельный курс на Швецию благоприятен, как уверяют, на 24% для Лондона, то это только доказывает, что излишек бумажных денег, неразменных на звонкую монету, в Швеции пропорционально больше, чем в Англии <однако прежде, чем допустить, что вексельный курс с Швецией благоприятен для Лондона на 24%, мы должны знать, являются ли золото и серебро одинаково законным платёжным средством в Швеции. Если это так, то по какой относительной стоимости оцениваются оба металла на шведском Монетном дворе? Я подозреваю, что частично этот благоприятный вексельный курс может быть объяснён возрастанием отношения стоимости золота к стоимости серебра>. Рассмотрение положения Комитета о слитках относительно паритета вексельного курса Я рассмотрел каждый действительный или мнимый факт, выдвинутый г-ном Бозанкетом по вопросу о вексельном курсе с целью доказать неверность принципа, признаваемого Комитетом, согласно которому вексельный курс с другими странами никогда не сможет измениться настолько, чтобы в течение продолжительного времени превзойти расходы по пересылке и страхованию драгоценных металлов. Я доказал, что заключение, к которому хотел бы привести нас автор, не поддерживается приводимыми им фактами, из которых ни один, по моему мнению, не противоречит принципу Комитета; теперь я позволю себе подчеркнуть ошибку в самом докладе - ошибку, на которой г-н Бозанкет основывает своё мнение, гласящее, что можно вполне спокойно отсрочить всякое улучшение положения. "Итак, - говорит г-н Бозанкет, - признавая полностью все принципы, принятые Комитетом, и правильность их применения к настоящему случаю, я всё же констатирую, что в момент представления доклада и за три месяца до того вексельные курсы были почти на 2% ниже естественного предела своего падения. Мы, вероятно, придём к заключению, что вопрос как практический вопрос национального значения может быть совершенно отложен, что нет по меньшей мере никакой необходимости принимать поспешные меры, если даже после всестороннего исследования общая правильность суждений Комитета будет признана". Когда уже всем стало ясно, что вексельный курс находится в состоянии крайнего упадка, нам говорят, что попытка принудить Английский банк платить звонкой монетой сопровождалась бы самыми опасными последствиями, что мы должны ждать, пока вексельный курс станет более благоприятным; когда же предполагается, что вексельный курс повысился на 2%, нас опять приглашают подождать, потому что это уже больше не вопрос национального значения. При таком способе рассуждения можно найти повод откладывать ad infinitum возобновление платежей Английским банком. Я твердо надеюсь, что никто не будет прислушиваться к таким ложным доводам, что мы, наконец, откроем глаза на опасности, окружающие нас, что мы будем исследовать вопрос хладнокровно и решать его мужественно. Принцип, на основе которого составлены новые таблицы г-на Мэшета, был полностью принят Комитетом и совершенно правильно и отчётливо установлен им в докладе (стр. 10) <вероятно, опечатка: цитируемое место имеется на стр. 22-23. - Прим. ред.>; "Если одна страна пользуется золотом как главной мерой стоимости, а другая - серебром, то установить между ними паритет за какой-либо определённый период можно только, принимая в расчёт относительную стоимость золота и серебра в течение этого периода". Более того. В своих стараниях найти действительный паритет между нашей страной и Гамбургом Комитет постоянно сообразовался с этим принципом, как это явствует из вопросов, предложенных г-ну ... ("Доклад", стр. 73). Г-н ... также вполне признавал этот принцип, и всё же, когда ему предложили "указать, каким образом он применяет эти общие идеи к установлению паритета вексельного курса, скажем, между Англией и Гамбургом", он ответил: "Беря золото по монетной цене в 3 ф. ст. 17 шилл. 10 1/2 пенс. и беря его в Гамбурге по той же цене, которую мы называем его паритетом и которая составляет 96 банковских стиверов за дукат, и считая 55 унпий стандартного золота равными 459 дукатам, мы получаем паритет вексельного курса в 34 шилл. 3 1/2 фламандских грота за фунт стерлингов: один дукат содержит 23 1/2 карата чистого золота". Здесь всё же не сказано ни слова о рыночном отношении стоимости золота к стоимости серебра, и единственное сведение, которое мы получаем из этого ответа, состоит в том, что 34 шилл. 3 1/2 грота в фламандской золотой монете равняются фунту стерлингов золотом; это вычисление совпадает до 1/2 грота с расчётом д-ра Келли ("Доклад", N 59). Если бы человек, купивший в Лондоне вексель на 34 шилл. 3 грота, мог получить в Гамбурге 34 шилл. 3 грота в золотых деньгах, это могло бы действительно быть названо паритетом, но он может только получить 34 шилл. 3 грота в серебре, а при 8% они не стоят столько, сколько 34 шилл. 3 грота в золотой монете. Вопрос, предложенный Комитетом, заключался в действительности в следующем: какая сумма гамбургских денег содержит такое же количество чистого серебра, какое может быть куплено за фунт стерлингов золотом? В то время, когда составлялся доклад, ответ был бы: 37 шилл. 3 грота фламандских денег. Таким образом, 37 шилл. 3 грота были бы тогда подлинным паритетом. Если бы Комитет произвёл свой расчёт по такому паритету, а не по паритету в 34 шилл. 3 грота, то он не утверждал бы в своём докладе, что вексельный курс на Гамбург был неблагоприятен для Англии не более чем на 9 %, тогда как эта цифра составляла почти 17%, и г-н Бозанкет не имел бы удобного случая заметить, что, признавая рассуждение Комитета правильным, он всё же считает зло не столь большим, чтобы немедленное вмешательство было необходимо. ГЛАВА III. Рассмотрение выдвинутых г-ном Бозанкетом фактов, якобы опровергающих заключение о том, что более высокий уровень рыночной цены слитков, чем их монетная цена, доказывает обесценение денегОтдел 1. Отрицание упомянутого заключения молчаливо предполагает невозможность переплавки или вывозова английской монеты-невозможность, которую никто не оспаривает Отрицание упомянутого заключения молчаливо предполагает невозможность переплавки или вывоза английской монеты - невозможность, которую никто не оспаривает Следующее предложение Комитета, правильность которого г-н Бозанкет оспаривает, он формулирует таким образом: "Цена золотых слитков никогда не может превысить монетной цены золота, если только стоимость денег, в которых они оплачиваются, не упала ниже стоимости золота". Но это неточная формулировка принципа, установленного Комитетом. Будучи правильно сформулирован, этот принцип не отрицает, что золото как товар может подняться в цене выше своей стоимости в монете, но утверждает, что такое превышение не может продолжаться долго, ибо возможность превратить монету в слитки скоро выравняет их стоимость. Вот слова Комитета: "Ваш Комитет держится мнения, что в условиях здорового и нормального состояния британского денежного обращения, основой которого является золото, никакое возрастание спроса на золото из других частей света, как бы он ни был велик или какими бы причинами он ни вызывался, не может иметь своим последствием основательное повышение рыночной цены золота здесь в течение значительного периода времени". Чтобы сделать это положение совершенно очевидным, по моему мнению, нужно только прибавить, что закон, запрещающий превращение золотой монеты в золотые слитки, не может успешно осуществляться. Я мог бы поэтому ожидать, что всякий, кто отрицает правильность этого положения, стал бы доказывать, что закон вполне осуществляет задачи, для которых он был издан, и сослался бы на различные авторитеты, чтобы оправдать защищаемый им взгляд, но было бы трудно отыскать авторитеты, которые могли бы его подтвердить. Со времени Локка и до настоящих дней никто, насколько мне известно, не отрицал этого факта. Все писатели безоговорочно признают, что никакие уголовные наказания не могут помешать переплавке монеты, если её стоимость как слитка становится выше её стоимости как монеты. Локк называет закон, запрещающий переплавку и вывоз монеты, "законом, изданным для обнесения кукушки изгородью". Смит замечает, что "никакие меры предосторожности со стороны правительства не могут помешать переплавке". Кроме того, мы имеем на этот счёт авторитетные показания людей практики. В 1795 г., когда цена золота повысилась до 4 ф. ст. 3 шилл. или 4 ф. ст. 4 шилл. за унцию, директора Английского банка, ознакомив г-на Питта с этим фактом, заметили, что "возможность покупки наших гиней по 3 ф. ст. 17 шилл. 10 1/2 пенс. за унцию ясно доказывает основания наших опасений; необходимо только констатировать эти факты перед канцлером казначейства". В чём же заключались эти опасения, как не в том, что начнётся наплыв требований на золотую монету с целью переплавки её в слитки? В ответ на вопрос (Комитета палаты лордов в 1797 г.): "Если бы теперь была проведена новая чеканка монеты, то полагаете ли вы, что большее количество её было бы переплавлено и вывезено частным образом?", г-н Ньюлэнд тоже заявил: "Это зависит целиком от цены слитков". В том же Комитете г-на Ньюлэнда спросили также: "Что труднее: предупредить фабрикацию фальшивых денег или переплавку и вывоз монеты, когда вывозить её выгодно?". Ответ: "Я теряюсь в догадках, каким образом вы можете помешать тому или другому". Это только немногие из мнений, которые можно привести в подтверждение того факта, что монета переплавлялась в слитки, как только цена слитков поднималась выше цены монеты. Я, однако, приведу в заключение мнение самого г-на Бозанкета. Говоря о Комитете, он замечает: "Он ничего не говорит о цене слитков, возвращения которых, несомненно, следует ожидать, если Английский банк будет достаточно контролировать вексельный курс, хотя Локк и многие другие писатели доказали с полной ясностью, что монета какой-либо страны может быть удержана в ней только при условии, что общий баланс - торговый и платёжный - не неблагоприятен для неё". А при предположении низкого вексельного курса что может лишить нас нашей монеты, кроме повышения её стоимости в форме слитков? Кто вывозил бы монету, если бы слитки могли быть куплены по их монетной цене? Ясно, что только более высокая стоимость монеты, превращённой в слитки, является причиной её переплавки и вывоза. Но Комитет не удовлетворился простым констатированием положения, которое является почти самоочевидным; он апеллировал к фактам и установил с полной чёткостью, что за 24 года со времени перечеканки монеты золотые слитки в стандартных брусках не продавались по более высокой цене, чем 3 ф. ст. 17 шилл. 10 1/2 пенс. за унцию, за исключением одного года - с мая 1783 по май 1784 г., когда цена их была 3 ф. ст. 18 шилл. за унцию. В самом деле, из письма директоров Английского банка г-ну Питту, написанного в октябре 1795 г., - именно на этот документ ссылается в своём докладе Комитет - мы узнаём, что золотые слитки тогда продавались по такой высокой цене, как 4 ф. ст. 3 шилл. или 4 ф. ст. 4 шилл. за унцию. Г-н Ньюлэнд сообщил также Комитету палаты лордов в 1797 г., что Английский банк был нередко вынужден покупать золото дороже его монетной цены, а в одном случае за незначительное количество, которое его агент достал в Португалии, он уплатил даже по 4 ф. ст. 8 шилл. за унцию. <Это произошло, повидимому, в 1795 г., и по всей вероятности в октябре, когда Английский банк платил за золото, как утверждает г-н Ньюлэнд, по 4 ф. ст. 8 шилл. за унцию. На поставленный в Комитете палаты лордов вопрос, когда это было, он ответил: "Мне кажется, что банк платил около 4 ф. ст. 8 шилл. за унцию золота около двух лет тому назад; его было лишь незначительное количество, и закупка скоро прекратилась вследствие такой цены. Банк в то время считал удобным получить золото из Португалии, а его агент не мог получить его там дешевле, чем по 4 ф. ст. 8 шилл.". Показания г-на Ньюлэнда были даны 28 марта 1797 г. Отнюдь не вероятно, что Английский банк часто покупал иностранное золото свыше его монетной цены, в то время как он мог получать золото в брусках, не подлежащее вывозу, по сравнительно более дешёвой цене. Он мог льстить себя надеждой, что, не покупая английского золота, он уменьшит соблазн переплавлять гинеи, в то же время его уменьшившиеся запасы требовали пополнения его сундуков. Это мнение всецело подтверждается при рассмотрении отчёта, приводимого в приложении N 19 к "Докладу о слитках", из которого следует, что с 1797 по 1810 г. стоимость золота, перечеканенного в монету на Монетном дворе его величества, составляла 8 960 113 ф. ст., из которых только 2 296 056 ф. ст. были вычеканены из английского золота, остаток же - из иностранного; оказывается также, что с 1804 г. из иностранного золота было вычеканено 1 402 542 ф. ст. и ни одной гинеи из британского. В течение всего этого периода рыночная цена иностранного золота была выше цены английского. Не представляется ли поэтому вероятным, что Английский банк, являющийся единственным импортёром золота для Монетного двора, руководствовался политикой примерно такого рода, о какой я говорил выше?>. Таковы единственные факты, которыми пользуется г-н Бозанкет, чтобы опровергнуть рассматриваемый принцип. Цены, неизвестные публике, не зарегистрированные ни в одном бюллетене, уплаченные к тому же корпорацией, не отличающейся хорошим ведением своих дел, выставляются как подлинные рыночные цены; исключения такого рода должны опровергать взгляды, основанные на правильной теории, поддерживаемые людьми практики и подтверждаемые опытом. Имеется ли какое-нибудь показание, удостоверяющее, что эти цены держались хотя бы в течение одной недели? Если мы обратимся к прейскуранту, то найдём, что в июне 1795 г. золото котировалось в 3 ф. ст. 17 шилл. 6 пенс.; в декабре оно снова котировалось в 3 ф. ст. 17 шилл. 6 пенс., а в промежуточные четыре месяца нет ни одной котировки. Считает ли г-н Бозанкет возможным, чтобы цена золота могла долго оставаться на уровне 4 ф. ст. 4 шилл., в то время когда золото можно было получить, переплавляя монету, по 3 ф. ст. 17 шилл. 10 1/2 пенс.? Придерживается ли он такого хорошего мнения о самоотречении и добродетели всех классов общества? И если да, то почему же им не доверяют теперь? Чем оправдывается прекращение платежей звонкой монетой? Тем, что в противном случае при существующем вексельном курсе и существующей цене золота было бы выгодно вывозить и переплавлять монету, и нам грозила бы опасность, что каждая гинея покинет страну! Но когда вы говорите нам, что слитки не имеют никакой связи с монетой, что "нет никакой точки соприкосновения между английским и иностранным золотом", то выходит, что совершенно нечего опасаться особого стремления обладать монетой с чьей бы то ни было стороны, так как для одних только целей обращения банкноты столь же, если не больше, удобны. "Если бы, - говорит г-н Бозанкет, - спрос на иностранное золото был в какой-либо период очень велик и переплавка и вывоз гиней, в каком бы изобилии они ни имелись, могли бы быть действительно предупреждены какими-либо мерами, то цена иностранного золота, выраженная в английском золоте, могла бы удвоиться, и всё же внутренняя стоимость гиней не уменьшилась бы". Я мог бы применить к этому "если бы" г-на Бозанкета то же самое замечание, которое он сделал по поводу этого слова, когда оно было употреблено Комитетом: "Ваше "если бы" - великий миротворец". Но приведённое выше высказывание его не относится к делу: закон не может быть осуществлён в действительности. Следовательно, замечание это совершенно бесполезно с точки зрения занимающего нас вопроса. Если бы, однако, закон мог быть действительно осуществлён, он сопровождался бы жесточайшей несправедливостью. Почему держатель унции золота в монете не мог бы пользоваться теми же выгодами от возрастания стоимости его собственности, как и держатель унции нечеканенного золота? Только потому, что на его золоте имеется штамп, он вынужден, следовательно, терпеть все неудобства от падения стоимости золота вследствие ли открытия новых рудников или в силу других обстоятельств и не получать никаких выгод, которые могут явиться следствием возрастания этой стоимости? Эта несправедливость по отношению к отдельным лицам не была бы возмещена ни малейшей выгодой для общества, так как вывоз монеты, если бы он был вполне дозволен, всегда прекращался бы при повышении стоимости наших денег до их настоящей слитковой стоимости, а это и есть как раз та стоимость, которой всегда определяется уровень стоимости денег всех стран. Такова и была вопреки закону стоимость наших денег до проведения Акта об ограничении платежей звонкой монетой Английским банком и некоторое время спустя. Она неизбежно снова установилась бы на таком уровне, если бы этот в высшей степени неполитичный (impolitic) закон был отменён. Поднимите стоимость ваших денег до её надлежащего уровня, и вы можете быть уверены, что удержите их. Нет худшей политики, чем та, которая принудительно заставляет 1 млн. ф. ст., например, выполнять функции, для которых вполне достаточны 800 тыс. ф. ст. Последствия, которые вытекали бы из предположения, что денежное обращение других стран (за исключением Англии) уменьшилось бы или увеличилось наполовину Предположим, что денежное обращение всех стран совершается лишь с помощью драгоценных металлов и что доля их, которой владеет Англия, составляет 1 млн.; предположим дальше, что половина всех находящихся в обращении денег всех стран, за исключением Англии, была бы внезапно уничтожена, - могла ли бы Англия в таком случае продолжать удерживать у себя 1 млн., которым она владела до тех пор? Не стало ли бы её денежное обращение относительно чрезмерным по сравнению с другими странами? Если бы, например, квартер пшеницы стоил как во Франции, так и в Англии столько же, сколько унция чеканенного золота, то нельзя ли было бы купить во Франции квартер пшеницы за пол-унции, в то время как в Англии он продолжал бы соответствовать по стоимости одной унции? <что товары повышаются или понижаются в цене пропорционально возрастанию или уменьшению количества денег, я считаю фактом, который не может быть опровергнут. Раз г-н Бозанкет допускает воздействие открытия рудника на цены, то он, следовательно, не питает на этот счёт таких сомнений, как управляющий Английским банком. Когда последнего спросили: "Полагаете ли вы, что очень значительное уменьшение количества обращающихся денег не будет иметь тенденции увеличить в какой угодно степени их относительную стоимость по сравнению с товарами и что значительное увеличение их количества не будет иметь никакой тенденции увеличить цену товаров, обмениваемых на такие средства обращения", он ответил: "Это - предмет, относительно которого имеется много различных мнений; я не считаю себя компетентным дать определённый ответ"> Могли бы мы при таких условиях помешать с помощью каких угодно законов ввозу пшеницы или какого-либо другого товара (ибо все товары будут одинаково затронуты) в Англию и вывозу золотой монеты из Англии? Если бы мы могли это сделать и вывоз слитков был бы свободен, то золото могло бы повыситься в цене на 100%; по той же самой причине, если бы 35 фламандских шиллингов в Гамбурге имели раньше такую же стоимость, как и фунт стерлингов, то теперь ту же стоимость имели бы 17 1/2 шилл. Если бы количество обращающихся денег удвоилось только в Англии, последствия были бы те же самые. Предположим теперь обратный случай: денежное обращение всех других стран остаётся без изменения, тогда как в Англии оно сокращается наполовину. Если бы чеканка монеты на Монетном дворе производилась в теперешнем размере, то не уменьшились ли бы здесь цены товаров в такой степени, что их дешевизна привлекла бы иностранных покупателей, и не продолжалось ли бы это до тех пор, пока соответствующие отношения между денежным обращением различных стран не были бы восстановлены? Если бы последствия уменьшения количества денег ниже его естественного уровня были таковы, - а что они были бы именно такими, это признают все наиболее известные писатели по вопросам политической экономии, - то может ли быть справедливым утверждение, что возрастание или уменьшение количества денег не имеют никакого отношения ни к вексельным курсам, ни к цене слитков? Так вот, бумажные деньги, неразменные на звонкую монету, ничем не отличаются в своих свойствах от металлических средств обращения при условии, что закон против вывоза строго выполняется. Предположим теперь, что первый случай имел место в такой период, когда наши средства обращения состояли целиком из бумажных денег: разве вексельные курсы не упали бы и цена слитков не возросла бы именно так, как я об этом говорил, и разве наши деньги не были бы обесценены, поскольку они уже не имели бы больше на мировых рынках той же стоимости, как слитки, которые они долженствуют представлять? Сколько бы директора Английского банка ни уверяли публику, что они учитывали только надёжные векселя, основанные на сделках bona fide, как бы они ни утверждали, что в принудительном порядке они никогда не выпускали в обращение ни одной банкноты, что количество денег не больше, чем оно было всегда, и только соответствует нуждам торговли, которая возросла, а не уменьшилась <Английский банк не мог бы отстаивать тогда на основании собственных принципов то в высшей степени ошибочное мнение, согласно которому норма процента могла бы испытать при чрезмерном выпуске банкнот изменение на денежном рынке и вызвать тем самым их обратный приток в банк, ибо в предположенном нами случае при значительном уменьшении наличного количества денег во всём мире Английский банк должен был бы утверждать, что норма процента в общем возросла и он может поэтому увеличить свои выпуски. Если после основательного разбора этого вопроса д-ром Смитом необходимы ещё дальнейшие аргументы, чтобы доказать, что норма процента управляется целиком отношением размеров капитала к возможности его применения и вполне независима от изобилия или редкости денег, то эта иллюстрация может, по моему мнению, дать их>, что цена золота, которая здесь вдвое больше, чем его монетная стоимость, столь же высока или выше за границей, - как это можно доказать, послав унцию золота в Гамбург и переслав обратно выручку при помощи векселя, оплачиваемого в Лондоне банкнотами, - и что возрастание или уменьшение количества банкнот отнюдь не могло оказать какое-либо действие на вексельные курсы или на цену слитков, факт обесценения всё же было бы невозможно отрицать. Всё это, за исключением последнего, могло быть верно, и всё же будет ли кто-либо отрицать факт обесценения наших денег? Могут ли симптомы, которые я перечислил, происходить от какой-либо другой причины, кроме относительной избыточности нашего денежного обращения? Можно ли восстановить уровень нашего денежного обращения до слитковой стоимости каким-либо другим путём, кроме уменьшения количества денег, которое подымет их стоимость до уровня денежного обращения других стран, или же увеличения количества драгоценных металлов, которое понизит уровень денежного обращения других стран до нашего? Почему Английский банк не хочет сделать опыт, уменьшив количество своих банкнот на 2 или 3 млн. ф. ст. в течение хотя бы такого краткого периода, как три месяца? Если бы это не оказало никакого воздействия на цену слитков и на вексельные курсы, то друзья Английского банка могли бы сказать с торжеством, что принципы, защищаемые Комитетом о слитках, были дикими фантазиями теоретиков, занимающихся лишь умозрениями. Незначительное повышение цены на золото на континенте вызвано только изменением в отношении стоимости серебра к стоимости золота Но, говорят нам, цена золота поднялась на континенте даже больше, чем здесь, потому что когда она равнялась в нашей стране 4 ф. ст. 12 шилл. за унцию, то в Гамбурге за последнюю можно было получить 4 ф. ст. 17 шилл. - разница в 5 1/2 %. Это утверждение так часто повторялось и до такой степени ошибочно, что вполне уместно уделить ему некоторое внимание. Когда отношение стоимости золота к стоимости серебра равнялось 15,07:1, а унцию золота можно было купить в этой стране за 3 ф. ст. 17 шилл. 10 1/2 пенс., то на континенте её можно было продать за такую же почти сумму, как здесь, или за 3 ф. ст. 17 шилл. 10 1/2 пенс. в серебряной монете. В Гамбурге, например, мы получили бы в уплату за унцию золота 136 фламандских шиллингов 7 гротов, так как это количество серебряной монеты содержит такое же количество чистого металла, как 3 ф. ст. 17 шилл. 10 1/2 пенс. в нашей стандартной серебряной монете. С тех пор в нашей стране золото повысилось в цене на 18%, и теперь унция золота стоит 4 ф. ст. 12 шилл., причём говорят, что 4 ф. ст. 12 шилл., которые платятся за него, не обесценены. А так как за границей повышение цены золота было на 5 1/2 % больше, чем у нас, цена его должна быть там на 23 1/2% выше, чем тогда, когда оно продавалось за 136 шилл. 7 гротов. Мы поэтому могли бы ожидать, что мы получим за него теперь в Гамбурге 167 фламандских шиллингов. Но как обстоит дело в действительности? За унцию золота, которую, как нам говорят, можно продать в Гамбурге за 4 ф. ст. 17 шилл., в действительности дают не больше, чем 140 шилл. 8 гротов, что составляет увеличение только на 3%, да и его продавец получает благодаря повышению стоимости золота по отношению к серебру, которая вместо 15,07 :1 составляет теперь около 16 : 1. Правда, когда унция золота продавалась в Гамбурге за 3 ф. ст. 17 шилл. 10 1/2 пенс., или за их эквивалент 136 шилл. 7 гротов, денежное обращение Англии ещё не было обесценено; таким образом, на эту сумму можно было купить лишь вексель, подлежащий уплате в Лондоне в банкнотах на 3 ф. ст. 17 шилл. 10 1/2 пенс. Но так как денежное обращение Англии теперь обесценено и фунт оценивается на гамбургской бирже в 28 или 29 фламандских шиллингов вместо 37 - действительной стоимости фунта стерлингов, то за 140 шилл. 8 гротов, или за сумму на 3% большую, чем 136 шилл. 7 гротов, теперь можно купить вексель на сумму 4 ф. ст. 17 шилл. в банкнотах, подлежащий оплате в Лондоне. Итак, золото повысилось в цене в Гамбурге не больше чем на 3%, но стоимость денег в Англии понизилась по сравнению с их стоимостью в Гамбурге на 23 1/2 %. Для дальнейшего доказательства правильности моего утверждения, что не золото повысилось в цене на 16 или 18% на мировом рынке, а обесценились лишь бумажные деньги, в которых в Англии измеряется цена золота, я приведу здесь также таблицу низших цен на золото в Гамбурге, Голландии и Англии в 1804 г. и высших цен на него в каждой из этих стран в 1810 г., на основании которой мы сможем установить действительный рост цены золота, измеряемой в деньгах каждой страны. Эта таблица была доставлена Комитету о слитках г-ном Грефюлем и занумерована в докладе под N 56.
Так вот, в Гамбурге и в Голландии, где мы имеем серебряное денежное обращение, цена золота может повыситься не только на 3%, но и на 30%, и это не будет служить доказательством обесценения денег, это доказывает только увеличение стоимости золота по отношению к серебру. Но в Англии, где цена золота измеряется в золотой монете или в банкнотах, представляющих эту монету, каждое повышение на 1% доказывает само по себе наличие депрессии <г-н Бозанкет отмечает, что этот термин имеет в высшей степени теоретический характер, но я считаю его безусловно правильным и позволяю себе поэтому употребить его, следуя примеру Комитета> соответствующих размеров для монеты или для бумажных денег. Это замечание в одинаковой степени применимо к факту, который упоминается г-ном Бозанкетом и на который он, повидимому, сам обратил внимание, а именно, что цена золота изменялась в Гамбурге в течение двух лет не меньше чем на 8%. Между ценою стандартных золотых брусков и ценою золотой монеты, приведённой к английскому стандарту, имеется - это признают все - разница, обусловленная тем, что монета является более ходким товаром на континенте <см. примечание к первому отделу главы III>; я не могу поэтому согласиться с выводами, к которым приходит г-н Бозанкет, сопоставляя записки г-на Грефюля (N 58) с приложением к докладу N 60. Необходимо прежде установить, являются ли цены золота, приводимые в этих документах (а данные их не вполне совпадают), ценами на золото в монете или на золото какой-нибудь другой категории и всегда ли цена золота в нашей стране, взятая для различных периодов, была ценой золота одного и того же качества. Г-н Бозанкет замечает, что "из расчёта, представленного Комитету г-ном Грефюлем, явствует, что весной 1810 г. унция золота английского стандартного веса стоила в Гамбурге 4 ф. ст. 17 шилл. - цена его составляла в это время 101 при вексельном курсе в 29 шилл. Высшая цена слитков в Лондоне была 4 ф. ст. 12 шилл. или на 5 1/2 % ниже цены в Гамбурге". Читатель должен вспомнить, что здесь, как я уже объяснил, речь идёт о 4 ф. ст. 17 шилл. в банкнотах. Но я не могу признать это утверждение совершенно точным. Экспортёр унции золота, купленной здесь за 4 ф. ст. 12 шилл., ждал бы по меньшей мере 3 месяца, прежде чем он получил бы 4 ф. ст. 17 шилл.; при продаже золота в Гамбурге уплата за него совершается при помощи векселя на 2 1/2 месяца, так что, принимая в расчёт проценты за это время экспортёр в действительности получил бы прибыль лишь в 4 1/4 %; но так как согласно имеющимся показаниям расходы по пересылке золота в Гамбурге составляют 7%, то уплата с помощью векселя обошлась бы дешевле нa2 3/4%. Допустим далее, что г-н Бозанкет совершенно точен в своей констатации, что цена золота в нашей стране составляла в течение июня, июля, августа и сентября 1809 г., а также и весною 1810 г. 4 ф. ст. 12 шилл. и что в том и в другом случае такая цена уплачивалась за золото одного и того же качества; всё же его заключение, согласно которому при вывозе золота в течение указанных месяцев 1809 г. можно было получить прибыль в 5 1/2 % за вычетом всех расходов, не подтверждается фактами. "Если при 101 и 29, - замечает г-н Бозанкет, - вывоз золота отсюда в Гамбург давал прибыль в 5 1/2 %, то из этого следует, что при 104 1/2 (цены в Гамбурге в июне, июле, августе и сентябре 1809 г.) и 28 шилл. получалась прибыль в 12 1/2 %; иначе говоря, за вычетом расходов по пересылке покупка здесь золота по 4 ф. ст. 12 шилл. за унцию была на 5 1/2 % более дешёвым способом уплаты, чем вексель, выданный по текущему курсу". Но я уже показал, что при вексельном курсе в 29 и цене золота в Гамбурге в 101 покупка золота была более дорогим средством уплаты, чем выдача векселя по 2 3/4 %; следовательно, при 28 шилл. и 104 1/2 покупка его обошлась бы дешевле только на 4 1/4 %. Эти факты доказывают, что в июне, июле, августе и сентябре 1809 г., пока вексельный курс на Гамбург равнялся 28 шилл. и золото стоило 104 1/2, действительный вексельный курс был в пользу Гамбурга, тогда как весною 1810 г. он был настолько неблагоприятен, что не мог даже покрыть расходы, связанные с ввозом золота. Что касается повышения цены золота в Гамбурге при неизменном вексельном курсе, то именно его и следовало бы естественно ожидать, раз соответствующее повышение цены золота имело место в нашей стране. По мере того как английские деньги обесцениваются в сравнении с золотом, они будут стоить меньше шиллингов в Гамбурге, если только возрастание стоимости золота в Гамбурге не будет противодействовать обесценению, делая золотой фунт стерлингов более дорогим. В то же время вексельный курс испытывал бы влияние всех колебаний в стоимости обесцененного фунта стерлингов до тех пор, пока цена золота в Гамбурге оставалась бы неизменной. "Из отчёта Слиткового отделения Английского банка, напечатанного в приложениях к докладу (N 7 и 8), - говорит г-н Бозанкет, - явствует, что общая сумма золотых слитков, ввезённых и депонированных в Слитковом отделении банка в 1809 г., составляла по своей стоимости только 520 225 ф. ст. и что в течение того же периода стоимость золота, выданного из Слиткового отделения, достигла 805 568 ф. ст., из которых только 592 ф. ст. не подлежали вывозу. Размеры ввоза золота, следовательно, таковы, что при сравнении их с размерами экспорта и импорта и количеством находящихся в обращении денег предположение об относительной редкости золота оправдывается; превышение же выдачи его над ввозом представляет достаточное свидетельство необычного спроса". Факт, на котором настаивает автор, не имеет, пожалуй, сам по себе большого значения с точки зрения обсуждаемого нами вопроса, но мне кажется, что выводы, сделанные г-ном Бозанкетом из материалов тех отчётов, на которые он ссылается, отнюдь не оправдываются. Превышение выдачи над ввозом никоим образом не является доказательством необычного спроса, как это видно из следующего примечания к приложению N 7, из которого г-н Бозанкет берёт более крупную из двух приведённых сумм. "Примечание. Вышеприведённая сумма относится к золоту, которое прошло через Слитковое отделение за вышеуказанный период в результате продаж и покупок, совершённых частными лицами, но которое могло пройти через Слитковое отделение, более чем один раз <курсив Рикардо. - Прим. ред.>, поскольку сведения о том, откуда продавец получил своё золото, вообще отсутствуют". Ввезённое золото, указанное в приложении N 8, действительно депонировано импортёрами из-за границы и могло быть получено только однажды. Помимо этого возражения эти приложения не являются материалами, подлежащими сравнению, так как N 7 составлен 18 апреля 1810 г., а N 8 - 30 марта 1810 г. "Эти факты имеют значение, - продолжает г-н Бозанкет, - с точки зрения непосредственного сопоставления суммы ввезённого или выданного золота с всей суммой бумажных денег, причём последние предполагаются обесцененными на основании данных о возросшей цене слитков. Прибавка в 12 шилл. на унцию составляет для всего количества золота, выданного в течение года, около 200 тыс. унций - 120 тыс. или 130 тыс. ф. ст., это считается несомненным симптомом обесценения 30 или 40 млн. бумажных денег (вероятное количество нашего бумажно-денежного обращения) на 12 или 13%. Вскоре нам, вероятно, скажут, будто стоимость банкнот возросла потому, что бумага, на которой они печатаются, стала несколько дороже, чем прежде". Стоимость банкноты определяется не числом сделок, которые могут быть совершены при продаже или покупке золота, но действительной сравнительной стоимостью банкноты по отношению к стоимости монеты, заместителем которой она признана. Считается, что государственный банк может принудительно ввести в обращение бумажные деньги, хотя наш Английский банк не может этого сделать, а раз это так, то каким образом мог бы г-н Бозанкет вычислить обесценение таких банкнот с принудительным обращением, не прибегая к сравнению их стоимости со стоимостью слитков? Необходимо, по его мнению, установить, какое количество золота было предметом сделок в течение года - 100 унций или 1 млн.? Если золото не является критерием, при помощи которого измеряется обесценение, то что служит таким критерием? Пока купля гинеи с премией является уголовным преступлением, мы, повидимому, не располагаем тем единственным критерием, который удовлетворял бы наших противников, а именно наличием двух цен товаров: одной - в гинеях и другой - в банкнотах. Впрочем, даже и в этом случае они, возможно, утверждали бы, что стоимость гинеи поднялась в силу недостатка золота за границей. Ошибка, приписываемая теории Локка о перечеканке монеты в 1696 г. Г-н Бозанкет правильно замечает, что теория Локка близка к теории, распространённой в наше время. Локк категорически утверждал, что унция серебра в монете не может стоить меньше чем унция серебра того же стандарта в слитках. Комитет также утверждает теперь, что при нормальном состоянии британского денежного обращения унция золота в слитках не может в течение сколько-нибудь продолжительного времени стоить больше, чем 3 ф. ст. 17 шилл. 10 1/2 пенс., или унция золотой монеты; но ведь ни то, ни другое мнение до сих пор не было ещё найдено неправильным. Последствия, которые ожидались от перечеканки в царствование короля Вильяма, не были реализованы, но не потому, что тогда следовали теории Локка, а, наоборот, потому, что ей не следовали. Перечеканка не удалась не потому, что Локка нельзя было убедить в том, что "стоимость серебряных слитков стала больше, чем их стандартная или монетная цена" (что и не возможно, поскольку цена серебряных слитков измерялась в серебряной монете), а потому, что его предложения не были приняты. Локк предложил, чтобы серебряная монета была единственным утверждённым законом эталоном денежного обращения и чтобы гинеи принимались для всех платежей по их слитковой стоимости. При такой системе на гинее отразились бы все изменения в относительной стоимости золота и серебра; она могла в одно время стоить 20 шилл., а в другое - 25 шилл.; но в противоположность принципам Локка стоимость гинеи сначала была определена в 22 шилл., а потом в 21 шилл. 6 пенс., тогда как её слитковая стоимость была значительно ниже этой цены <можно было бы сказать, что, несмотря на запрещение законом принимать гинеи больше чем по 21 шилл. 6 пенс., они были, однако, объявлены законным платёжным средством только с 1717 г., и поэтому ни один кредитор не был обязан принимать их в погашение долга по этой норме. Но если бы правительство принимало их по такой стоимости в уплату налогов, то это привело бы почти к таким же результатам, как объявление их парламентским актом законным платёжным средством>. В то же время именно потому, что золото было оценено чересчур высоко, серебряная монета принималась в обращение по более низкой стоимости, чем её слитковая стоимость. Можно было ожидать, таким образом, что золотая монета удержится в обращении, а серебряная исчезнет. Если бы стоимость обращающихся гиней понизилась до их действительной рыночной стоимости в серебре, вывоз серебряной монеты немедленно прекратился бы. В действительности именно такая мера и была в конце концов принята в 1717 г., когда сэр И. Ньютон, тогда заведующий Монетным двором, был осведомлён о положении дел; он написал в своём отчёте, что "главная причина вывоза серебряной монеты заключалась в том, что гинея, которая принималась по 21 шилл. 6 пенс., стоила в общем не больше 20 шилл. 8 пенс. соответственно рыночной стоимости золота по отношению к серебру, хотя в отдельных случаях стоимость её изменялась". "Он предложил тогда, чтобы стоимость гинеи была уменьшена на 6 пенс., что должно было уменьшить соблазн вывозить и переплавлять серебряную монету, но признал, однако, что стоимость гинеи должна быть уменьшена на 10 или 12 пенс., для того чтобы стоимость золота по отношению к серебряной монете была в Англии именно такой, какая диктуется ходом торговли и движением вексельных курсов в Европе" <письмо лорда Ливерпуля королю>. Те же результаты получились бы без вмешательства правительства, если бы относительная стоимость золота и серебра на рынке изменилась таким образом, что совпала бы с отношениями, установленными в монетном уставе. Говоря о перечеканке монеты в 1696 г., лорд Ливерпуль высказывает совершенно другое мнение, чем г-н Бозанкет. Будучи очень далёк от признания, что эта мера "обрекла нацию на разочарование и неудобства, от которых мы страдаем и до сих пор, и на невыгодный расход почти в 3 млн. ф. ст.", он замечает, что "как ни была велика эта тягота, потери, которые как правительство, так и народ нашего королевства несли непрестанно до тех пор, пока закончена была перечеканка, оправдывали почти всякий расход, который мог быть произведён для их устранения". Г-н Бозанкет не совсем прав, говоря на стр. 34, что цена серебра никогда не была ниже его монетной цены со времени перечеканки в царствование короля Вильяма. Согласно таблицам г-на Мэшета цена серебра упала в 1793 и 1794 гг. до очень низкого уровня в 5 шилл. 1 пенс, а в 1798 г. - до 5 шилл., что послужило поводом для издания закона, мною же упомянутого и запрещающего чеканку серебряной монеты <после того как эти строки поступили в набор, я имел случай видеть второе издание работы г-на Бозанкета, в которой эта неточность исправлена>. Г-н Бозанкет не совсем прав, говоря на стр. 34, что цена серебра никогда не была ниже его монетной цены со времени перечеканки в царствование короля Вильяма. Согласно таблицам г-на Мэшета цена серебра упала в 1793 и 1794 гг. до очень низкого уровня в 5 шилл. 1 пенс, а в 1798 г. - до 5 шилл., что послужило поводом для издания закона, мною же упомянутого и запрещающего чеканку серебряной монеты <после того как эти строки поступили в набор, я имел случай видеть второе издание работы г-на Бозанкета, в которой эта неточность исправлена>. ГЛАВА IV. Рассмотрение возражений г-на Бозанкета против утверждения, что платёжный баланс был в пользу Великобритании
Итак, я рассмотрел все моменты, которым г-н Бозанкет придаёт большое значение в противоположность мнению Комитета, полагающего, что "только путём сравнения рыночной и монетной цены слитков можно установить факт обесценения средств обращения". Тем самым я доказал, надеюсь, что нет никакого другого критерия, который помог бы нам судить о здоровом или больном состоянии нашего денежного обращения. Теперь я перейду к рассмотрению следующего оспариваемого положения Комитета о слитках, утверждающего, что, "поскольку можно вывести заключение из таможенных отчётов о ввозе и вывозе, состояние вексельного курса должно быть особенно благоприятно". Г-н Бозанкет потратил немало труда на просмотр многочисленных документов, стараясь доказать, что при оценке баланса вывоза Комитет не только ошибся на сумму в 7 500 тыс. ф. ст., но сделал ещё другие более крупные ошибки и что на деле в противоположность малообоснованному мнению Комитета положение вексельного курса не только не было благоприятным для нашей страны в течение прошлого года, а, наоборот, действительная сумма платёжного баланса в пользу стран континента была необычно велика. Поскольку я стремлюсь защищать лишь принцип Комитета и поскольку эти факты отнюдь не существенны для проверки его принципов, я не буду входить в рассмотрение правильности утверждений ни Комитета, ни г-на Бозанкета, но сразу же сделаю ему уступку, признав действительными все факты, на которые он ссылается, как бы ни было ему трудно доказать действительность их. Что платёжный баланс был против нашей страны, это, мне кажется, совершенно бесспорно. Положение реального вексельного курса достаточно доказывает это, так как оно безошибочно указывает, из какой страны привозятся слитки. Было бы, однако, не бесполезно для тех, кто желает полностью разобраться в этом трудном вопросе, чтобы г-н Бозанкет сообщил нам, какие средства имелись в нашем распоряжении для уплаты очень значительного неблагоприятного баланса, на котором он настаивает. Думает ли он, что этот баланс был выплачен при помощи наших золотых запасов? Держим ли мы обычно без употребления такое большое количество слитков, что мы можем платить такие балансы из года в год? Так как мы не имеем собственных рудников, то, если мы в данное время не имеем слитков, мы должны покупать их в чужих странах, но для этой цели банкноты бесполезны. Если бы цена золота составляла в банкнотах 4 или 10 ф. ст. за унцию, мы всё же не получили бы ни малейшей прибавки к нашему запасу слитков, так как она может быть получена только путём вывоза товаров. Если мы получаем слитки, например, из Америки, мы должны покупать их за товары. В этом случае, принимая во внимание всю торговлю страны, мы уплатим свой долг в Европе путём вывоза товаров в какую-нибудь другую часть света, и платёжный баланс, как бы ни был он велик, должен быть в конечном счёте оплачен продуктом труда народа нашей страны. Векселя никогда не погашают долгов одной страны другой; они дают возможность кредитору Англии получить в том месте, где он живёт, известную сумму денег от должника Англии; с их помощью совершается только перемещение долга, а не погашение его. Что спрос на золото (если мы допустим, что наш кредитор согласен принять в уплату только золото) может вызвать повышение его стоимости, никто не отрицает. Если бы в силу этого товары стали чрезвычайно дёшевы, то это было бы естественным следствием такой причины. Но каким образом может повышение цены золота в банкнотах вызвать приток его, предполагая даже, что в Англии имеется запас золота? Продавца нельзя обмануть повышением номинальной стоимости; для него имеет весьма малое значение, будет ли он продавать своё золото по 3 ф. ст. 17 шилл. 10 1/2 пенс. или по 4 ф. ст. 12 шилл. за унцию, если только каждая из этих сумм может доставить ему товары, на которые он намеревается в конце концов обменять своё золото. Если, таким образом, банкноты на сумму в 3 ф. ст. 17 шилл. 10 1/2 пенс. будут равны по своей стоимости 4 ф. ст. 12 шилл. (поскольку речь идёт о возможности получить за них определённые товары), то продавец может, очевидно, получить столько же золота при одной цене, сколько и при другой. Можно ли теперь отрицать, что, уменьшив количество банкнот, мы увеличим их стоимость? А если это так, то как может уменьшение количества банкнот помешать нам получить то же самое количество золота для погашения нашего внешнего долга, какое мы получаем теперь по номинальной и фиктивной цене как в своей стране, так и за границей? "В такое время, - говорит г-н Бозанкет, - когда мы были вынуждены получать хлеб даже от нашего врага без малейшей оговорки в пользу нашего собственного производителя и платить нейтральным державам за его доставку, г-н Рикардо уверял нас, что экспорт слитков и товаров в уплату за хлеб, который мы могли бы вывозить сами, сводится целиком к вопросу о прибыли и что если мы отдаём хлеб в обмен за товары, то это - дело нашего выбора, а не необходимости. В то время как мы принимаем меры против голода, он говорит нам, что мы не ввозили бы больше товаров, чем вывозим, если бы мы не имели излишка денег в обращении". Г-н Бозанкет рассуждает так, как будто нация коллективно, как единое целое, ввозила хлеб и вывозила золото. Он говорит, что она была вынуждена поступать так только под влиянием голода, забывая при этом, что ввоз хлеба даже в предполагаемом случае есть акт отдельных лиц и управляется теми же мотивами, что и другие отрасли торговли. Какова та степень принуждения, которое практикуется, чтобы заставить нас получать хлеб от нашего врага? Я предполагаю, что нас толкает к этому только нужда в этом товаре, которая делает его выгодным предметом ввоза; но если это не вынужденная, а добровольная сделка между двумя нациями, какой она несомненнейшим образом является в действительности, то я продолжаю утверждать, что, даже если бы у нас свирепствовал голод, золото не отдавали бы Франции в обмен на хлеб, если бы вывоз золота не был связан с выгодой для экспортёра, если бы он не мог продать хлеб в Англии за большее количество золота, чем то, которое он должен был заплатить за него. Разве г-н Бозанкет или любой купец, которого он знает, стал бы ввозить хлеб в обмен на золото на каких-либо других условиях? А если ни один импортёр не сделал бы этого, то как мог бы хлеб быть ввезён в страну, если бы золото или какой-нибудь другой товар не были здесь дешевле? Поскольку же речь идёт об этих двух товарах, не указывают ли эти сделки совершенно ясно, что золото дороже во Франции, а хлеб дороже в Англии? Не находя в изложении г-на Бозанкета ничего, что могло бы заставить меня изменить своё мнение, я должен продолжать думать, что именно выгода и только выгода определяет вывоз золота, точно так же как она регулирует вывоз всех других товаров; г-н Бозанкет поступил бы хорошо, если бы, прежде чем назвать это мнение столь экстравагантным, привёл в доказательство этого хотя бы подобие аргумента; он не повредил бы также своему делу, если бы объяснил в 1810 г. причины, в силу которых он отстаивает принцип, выдвинутый Торнтоном в 1802 г. и подвергнутый сомнению в 1809 г. Слитки не вывозились бы, если бы мы не ввозили их раньше с этой целью или если бы в силу некоторых условий нашего внутреннего обращения они не стали бы дешевле и менее полезны для нас. Если Миланские декреты <Рикардо имеет в виду так называемый Миланский декрет Наполеона 1807 г., распространяющий запрещение торговать товарами, ввезёнными из английских доминионов (изданное в 1806 г.), на английские товары. - Прим. ред.>, эмбарго, законы, запрещающие сношения, и т. д. оказывают воздействие на вывоз товаров, то они также влияют на их ввоз, так как никакая страна не может долго продолжать свои покупки, если она не продаёт также сама; это в особенности относится к Англии, которая вследствие изобилия бумажных денег изгнала из своего обращения всякий след драгоценных металлов. "Если обращающиеся деньги обесценены ниже стоимости золота, - сообщает нам г-н Бозанкет, - то это обесценение является положительным, а не относительным, и все вексельные курсы должны одинаково чувствовать его влияние" (стр. 20). Совершенно верно, и поэтому, если бы г-н Бозанкет мог показать, что вексельный курс был благоприятен для Англии хотя бы с какой-нибудь одной страной в мире, деньги которой полновесны и не обесценены, то он с полным успехом опроверг бы мнение Комитета. Некоторые серьёзные авторы придерживаются, по моему мнению, за последнее время неправильного взгляда на вывоз денег и на действие, которое оказывает на цену слитков увеличение количества обращающихся денег за счёт бумажного обращения. Г-н Блэк замечает: "Все известные мне писатели по вопросам политической экономии убеждены, невидимому, в том, что при отклонении вексельного курса от паритета большем, чем на сумму расходов по пересылке слитков, последние немедленно исчезают. Ошибка эта возникла благодаря недостаточно чёткому различению между влиянием реального и номинального вексельного курса". Он посвящает затем много страниц доказательству, что при всяком увеличении бумажного обращения цена слитков поднимается в таком же отношении, как и цена других товаров, даже при условии, что значительная часть обращающихся денег является деньгами из драгоценных металлов, а так как иностранные вексельные курсы будут номинально понижены в такой же степени, то вывоз слитков не будет приносить никакой выгоды. Это же мнение защищается г-ном Гэскиссоном (стр. 27). "Если бы денежное обращение страны состояло частью из золотых и частью из бумажных денег и размеры денежного обращения удвоились бы путём увеличения количества бумажных денег, то воздействие этого удвоения на цены внутри страны было бы такое же, как и в предыдущем случае" (повышение цен товаров). "Но так как в силу этого увеличения размеров денежного обращения золото как товар не сделалось бы более обильным в данной стране, чем в других частях мира, то стоимость его по отношению к другим товарам осталась бы без изменения; цена его, опять-таки в качестве товара, возросла бы в том же отношении, как и цена других товаров, хотя в форме монеты, наименование которой фиксируется законом, оно могло бы обращаться только согласно этому наименованию. Таким образом, когда количество бумажных денег увеличивается в какой-либо стране, то в силу этого начинается вывоз золотой монеты оттуда; это происходит не потому, что золото как товар стало в этой стране более изобильным и менее дорогим по отношению к другим товарам, а благодаря тому обстоятельству, что стоимость его как средства обращения осталась без изменения, в то время как его цена в обращении возросла вместе с ценами всех других товаров". Я вполне согласился бы с этими авторами в том, что стоимость золота как экспортного товара подвергалась бы именно такому воздействию, о каком они говорят, при условии, что обращение целиком состояло бы из бумажных денег; никакое повышение не имело бы, однако, места в цене слитков вследствие увеличения количества бумажных денег, если бы денежное обращение было или целиком металлическим, или состояло частью из золотых, частью из бумажных денег. При увеличении размеров денежного обращения, состоящего частью из золотых, частью из бумажных денег, путём увеличения числа последних стоимость всех обращающихся денег уменьшилась бы или, другими словами, цены товаров повысились бы и в золотой монете и в бумажных деньгах. На тот же самый товар можно было бы купить после увеличения количества бумажных денег большее число унций золотой монеты, потому что он обменивался бы теперь на большее количество денег. Однако эти джентльмены не оспаривают факта превращения монеты в слитки, несмотря на закон, запрещающий это. Не следует ли из этого, что стоимость золота в монете и стоимость золота в слитках быстро приближались бы к совершенному равенству? Итак, если товар будет продаваться вследствие эмиссии бумажных денег за большее количество золотой монеты, то он будет также продаваться и за большее количество золота в слитках. Было бы поэтому неправильно сказать, что относительная стоимость золотых слитков и товаров будет одинаковой как после, так и до увеличения количества бумажных денег. Уменьшение стоимости золота в сравнении со стоимостью товаров вследствие выпусков бумажных денег в стране, где золотые деньги составляют часть денежного обращения, имеет в первое время место только в этой стране. Если бы такая страна представляла собой остров и не вела никаких торговых сношений с какой-либо другой страной, то это уменьшение в стоимости золота продолжалось бы до тех пор, пока спрос на золото для промышленных целей не извлёк бы из обращения всю золотую монету, и только тогда стало бы заметным обесценение бумажных денег по сравнению с золотом, каково бы ни было количество их в обращении. Как только золото было бы извлечено из обращения целиком, а спрос на продукты промышленности продолжался бы, стоимость золотых денег поднялась бы выше стоимости бумажных, и стоимость золота по отношению к другим товарам вскоре стала бы такой, какой она была до увеличения размеров денежного обращения путём выпуска бумажных денег. Рудники доставили бы тогда требуемое количество золота, и бумажно-денежное обращение продолжало бы постоянно обесцениваться. Но в продолжение промежутка времени до полного извлечения золота рудники такой страны, если бы она их имела, не могли бы эксплуатироваться по причине низкой стоимости золота, которая снизила бы прибыль на капитал, вложенный в рудники, ниже уровня прибыли других торговых предприятий. Но как только такое равенство прибыли установилось бы, снабжение золотом стало бы таким же регулярным, как прежде. Таковы были бы последствия большого выпуска бумажных денег в стране, не имеющей сношений с какой-либо другой страной. Но если бы предполагаемая страна имела подобно Англии сношения со всеми другими странами, то любой избыток денег, находящихся там в обращении, был бы парирован вывозом звонкой монеты, а если бы этот избыток не превосходил того количества обращающейся монеты, какое может быть легко собрано людьми, обходящими закон, то обесценение денег отнюдь не имело бы места. Предположим, что Англия имеет 1 тыс. унций золота в форме слитков и 1 тыс. унций в форме монеты и что в то же время её вексельный курс с чужими странами сохраняет свой паритет, другими словами, что стоимость золота за границей точно такая же, как у нас, и, следовательно, золото нельзя было бы ни ввозить, ни вывозить с выгодой. Предположим, кроме того, что Английский банк выпустил бы в это время банкноты в таком количестве, которое представляло бы ещё 1 тыс. унций золота, и что они не были бы разменны на звонкую монету. Если бы слитки сохранили при этом ту же стоимость, что и до выпуска бумажных денег (а именно это и отстаивают наши авторы), то каким образом можно было бы вывезти хотя бы одну гинею? Кто возьмёт на себя труд и риск посылать гинеи на континент, чтобы продавать их там по их слитковой стоимости, в то время как стоимость слитков у нас была бы так же высока, как прежде, и, следовательно, так же высока, как и цена, по которой гинеи продаются за границей? Не стала ли бы монета переплавляться и продаваться как слиток внутри страны, до тех пор пока стоимость слитков у нас не уменьшилась бы по отношению к стоимости их в других странах, а следовательно, и по отношению к стоимости товаров у нас настолько, чтобы оправдать расходы по перевозке? Или, другими словами, до тех пор пока вексельный курс не понизился бы до цены, при которой такие расходы оплачивались бы? При такой цене вся 1 тыс. унций исчезла бы сразу; если же какая-нибудь часть их удержалась бы в обращении, она имела бы не меньшую стоимость, чем золотые слитки того же веса. Я всё время рассматриваю закон как не имеющий никакого действия на предотвращение вывоза, но если бы было доказано, что закон может строго выполняться, то этот аргумент был бы одинаково применим при условии, что увеличение размеров денежного обращения было сделано в золотой монете, а не в бумажных деньгах. Итак, прежде всего становится очевидным, что при увеличении размеров денежного обращения, состоящего частью из золота и частью из бумажных денег, путём увеличения числа последних цена золотых слитков не обязательно увеличится в такой же степени, как цены других товаров; во-вторых, ясно, что такое увеличение вызовет угнетение не только номинального, но и реального вексельного курса, и поэтому золото будет вывозиться. Но вернёмся к г-ну Бозанкету. Он замечает, что "три предположения", т. е. те, которые я комментировал, "были, повидимому, выдвинуты Комитетом, так же как и теми авторами, на чьи теории его доклад опирался, с целью добиться признания обесценения бумажных денег нашей страны; такая аргументация является необходимым следствием невозможности объяснить иначе депрессию вексельных курсов и повышение цены слитков. Она может быть поэтому названа отрицательной". Поскольку дело касается меня как одного из авторов, привлечённых к ответу, г-н Бозанкет ошибается: третье предположение никогда не выдвигалось мною. Будет ли платёжный баланс за или против нашей страны, это, по моему мнению, имеет очень мало значения для доказательства защищаемой мною теории. Будет ли часть нашего вывоза или часть нашего ввоза состоять из золота, это отнюдь не изменяет проблему; слишком хорошо известно, что наши деньги не оцениваются ни нами самими, ни иностранцами по их слитковой стоимости. И почему наши деньги упали ниже этой стоимости в большей мере, чем в Америке, Франции, Гамбурге, Голландии и т. д.? Ответ заключается в том, что ни одна из этих стран не имеет бумажных денег, неразменных на звонкую монету по требованию держателя. ГЛАВА V. Разбор аргумента, приводимого г-ном Бозанкетом в доказательство, что Английский банк не имеет власти вводить принудительное обращение банкнот
Перейдём теперь к обсуждению четвёртого положения, которое гласит, что "Английский банк в течение периода приостановки размена банкнот обладает исключительно ему принадлежащей властью ограничивать их обращение". Трудно решить, считает ли г-н Бозанкет, что даже и принудительное бумажно-денежное обращение может иметь следствием понижение вексельного курса; ведь он так уверенно утверждает, что нет никакой связи между вексельным курсом и количеством банкнот. Если бы Английский банк стал действительно государственным банком в том смысле, в котором г-н Бозанкет кое-где употребляет этот термин, если бы этот банк авансировал все деньги, потребные для государственных расходов в течение года, если бы он повысил количество своих банкнот с 20 млн. до 50 млн., то разве не было бы правильно сказать, что он вводит принудительным порядком бумажное обращение? И разве следствием такого принудительного обращения бумажных денег не явилось бы обесценение банкнот, увеличение цены слитков и падение иностранных вексельных курсов? Разве эти последствия не имели бы места и в том случае, если бы правительство гарантировало банкноты Английского банка и никто не сомневался бы в том, что они в конечном счёте будут оплачены? Разве чрезмерное количество денег в обращении не привело бы уже само по себе к их обесценению? Или, может быть, можно утверждать, что никакое изобилие бумажных денег не может вызвать их обесценение при условии, что их последующий выкуп обеспечен? Такое экстравагантное предположение вряд ли будет, по-моему, поддерживаться кем-нибудь; следует поэтому признать, что обесценение может возникнуть в результате одного только изобилия банкнот, как бы ни были велики фонды тех, кто их выпускает. А так как симптомы, характерные для принудительного бумажного обращения, в настоящее время слишком резко бросаются в глаза, чтобы их можно было отрицать, так как они не могут быть объяснены как-либо иначе ни теоретически, ни путем апелляции к опыту, то не оправдываются ли наши подозрения в том, что Английский банк при его теперешних правах отнюдь не лишён власти вводить принудительное обращение банкнот, хотя его друзья стараются нас уверить в противном? Употребляя, однако, слова "принудительное обращение", мы не намереваемся обвинять Английский банк в том, что он не принимает теперь тех мер осторожности, какие обычно соблюдаются им при выпуске своих банкнот; мы думаем только, что закон о приостановке размена даёт ему возможность держать в обращении гораздо большее количество банкнот (принимая во внимание то количество монеты, которое могло бы находиться в обращении), чем он мог бы удержать без этого закона. Именно эта добавочная сумма производит, по моему мнению, такое действие, как если бы она была навязана публике государственным банком. Утверждение, что банкнот выпускается не больше, чем этого требуют нужды торговли, не имеет никакого веса, потому что сумма, требующаяся для этой цели, не может быть определена. Торговля ненасытна в своих требованиях; при одном и том же объёме она может использовать 10 млн. или 100 млн. средств обращения; это количество зависит целиком от их стоимости. Если бы рудники были в 10 раз более производительны, торговля тех же размеров использовала бы в 10 раз больше денег. Г-н Бозанкет признаёт это, но отрицает аналогию между выпусками банка и продукцией нового золотого рудника. По этому вопросу г-н Бозанкет делает следующие замечания: "Г-н Рикардо уподобил Английский банк в период прекращения им платежей, поскольку речь идёт о результатах его эмиссий, золотому руднику, продукт которого, брошенный в обращение сверх достаточного уже количества обращающихся денег, является избыточным, причём последствием этого является признанное обесценение стоимости уже имеющихся денег или, другими словами, повышение цен товаров, на которые они обычно обмениваются. Но г-н Рикардо не остановился на обстоятельстве, весьма существенном для такого сравнения: он не указал, почему открытие золотого рудника произвело бы такое действие. Оно произвело бы его потому, что собственники рудника выпустили бы золото для каких угодно надобностей без всякого обязательства вновь отдать за него держателям равную стоимость, иначе говоря, без какого бы то ни было желания или даже возможности изъять из обращения и уничтожить то, что ими выпущено. Мало-помалу, по мере того как выпуски возрастают, они превосходят нужды обращения; золото как таковое не приносит своему держателю никакого барыша; он не может съесть его, он не может в него одеться, чтобы сделать его полезным, он должен обменять его или на предметы, которые приносят непосредственную пользу, или на такие, которые приносят доход. Спрос на товары и на недвижимую собственность, а следовательно, и цены их, выраженные в золоте, возрастают и будут продолжать возрастать, пока рудник продолжает доставлять продукцию. При предположенных мною условиях такие результаты дают одинаково и выпуск золота из рудника и выпуск бумажных денег государственным банком. Всё это я определённо допускаю, но во всём этом нет ни одного пункта аналогии с эмиссиями Английского банка. Принцип, на основании которого Английский банк выпускает свои банкноты, - это принцип займа. Каждая банкнота выпускается по требованию какого-нибудь лица, которое становится должником банка на эту сумму и даёт обеспечение, что вернёт эту банкноту или другую одинаковой стоимости в определённый и не слишком отдалённый срок, причём платит процент соответственно установленному сроку этого займа". Предположим теперь, что золотой рудник действительно является собственностью Английского банка, что он даже расположен на территории последнего, что банк сам ведёт добычу золота, которое он отдаёт для перечеканки в монету, и что при учёте векселей или выдаче ссуд правительству он выпускает вместо банкнот одни только гинеи. Существовал ли бы в таком случае какой-нибудь другой предел для его выпусков, кроме истощения производительности рудника? А разве условия изменятся оттого, что рудник будет собственностью короля, торговой компании или отдельного лица? Для одного случая г-н Бозанкет допускает, что стоимость денег упадёт, и я полагаю, что он допускает также, что падение её будет прямо пропорционально возрастанию их количества. Что сделал бы с золотом собственник рудника? Либо золото будет использовано им так, что даст доход, либо найдёт в конце концов дорогу в руки тех, кто его таким образом использует. Это - его естественное назначение; оно может пройти через руки 100 или 1 тыс. лиц, но в конце концов оно будет использовано только таким образом. Так вот, если рудник удвоил бы количество денег, он понизил бы их стоимость в таком же отношении, и спрос на них увеличился бы вдвое. Купец, который прежде нуждался в займе в 10 тыс. ф. ст., будет теперь нуждаться в 20 тыс. ф. ст., и для него имеет весьма малое значение, будет ли он попрежнему брать взаймы 10 тыс. ф. ст. в Английском банке и 10 тыс. ф. ст. у тех, в чьих руках деньги очутились бы в конечном счёте, или же получать все 20 тыс. ф. ст. взаймы от Английского банка. Аналогия кажется мне полной и не допускающей спора. Выпуски неразменных бумажных денег регулируются тем же самым принципом и будут сопровождаться теми же самыми последствиями, как если бы банк был собственником рудника и ничего не выпускал, кроме золота. Как бы ни увеличилось количество добываемого золота, сумма займов увеличится в том же отношении вследствие его обесценения; это правило одинаково верно и для бумажных денег. Если деньги достаточно обесценены, то нет такого количества их, которое не могло бы быть поглощено обращением. Будет ли при этом Английский банк сам покупать на свои банкноты товары или он будет учитывать векселя тех, кто использует для этой цели его банкноты, это не составит ни малейшей разницы. Если допустить вместе с г-ном Бозанкетом, что обращением может быть поглощена только определённая сумма, но не большая, то это привело бы к тем результатам, о каких он говорит; но я отрицаю, что в наличии имелась бы добавочная сумма, которая тщетно искала бы выгодного применения и которая, раз таковое не могло быть найдено, необходимо вернулась бы в Английский банк в уплату за уже дисконтированный вексель или помешала бы поступлению запроса на денежный аванс на эту сумму. Если бы деньги могли сохранять свою стоимость, в каком бы количестве они ни выпускались, то результаты могли бы быть именно такими; но так как по мере поступления излишка денег в обращение начинается их обесценение, то добавочная сумма нашла бы себе применение, а это удержало бы её в обращении. Посмотрим теперь, какой результат могло бы дать учреждение банка с прочным кредитом в стране, где денежное обращение полностью металлическое. Такой банк стал бы учитывать векселя или выдавать ссуды правительству, как это делает Английский банк; если же принцип, на котором настаивает г-н Бозанкет, правилен, то банкноты этого банка необходимо возвращались бы к нему сейчас же после того, как они были выпущены, ибо, поскольку металлическое обращение такой страны было и до этого вполне достаточным для её торговли, добавочное количество денег какого бы то ни было размера не могло бы быть использовано. Это, однако, противоречит как теории, так и практике. Эмиссии Английского банка обесценивали бы, так же как и теперь, не только находящиеся в обращении деньги, но одновременно и стоимость слитков, как я старался объяснить это на стр. 145; это в свою очередь создало бы искушение для их вывоза; уменьшение же количества обращающихся денег снова восстановило бы их стоимость. Английский банк выпустил бы ещё больше банкнот, и это привело бы к тем же последствиям; но такого излишка, который побудил бы держателя банкнот вернуть их Английскому банку в уплату за заём, отнюдь не получилось бы, если бы закон против вывоза денег действительно выполнялся. Деньги требовались бы потому, что было бы выгодно вывозить их, а не потому, что они не могли бы быть поглощены обращением. Предположим, однако, наличие таких условий, при которых деньги не было бы выгодно вывозить; предположим, что все европейские страны пользуются для нужд своего обращения только драгоценными металлами и что каждая из них в одно и то же время учреждает банк на тех же основаниях, на каких существует Английский банк, - могли ли бы они или не могли прибавить каждая к металлическому обращению известную часть бумажных денег? Могли ли бы они или не могли бы удерживать их постоянно в обращении? Если бы могли, то и вопроса не было бы; тогда можно было бы сделать прибавку к уже вполне достаточному обращению, не вызывая обратного притока банкнот в Английский банк в уплату по векселям, срок которых наступил. Но если мне скажут, что этого нельзя было бы сделать, то я апеллировал бы к опыту и попросил бы объяснить мне, каким путём банкноты возникли первоначально и как именно они удерживаются постоянно в обращении. Мне было бы трудно проследить во всех её разветвлениях аналогию между первоначальным учреждением банка, открытием рудника и настоящим положением Английского банка, однако я вполне уверен, что если бы принцип, выдвигаемый директорами последнего, был правилен, то ни одна банкнота не могла бы держаться перманентно в обращении, открытие же американских рудников не могло бы прибавить ни одной гинеи к денежному обращению Англии. Дополнительное золото нашло бы согласно этой системе обращение уже адекватным, и ничего нельзя было бы к нему присоединить. Отказ дисконтировать какие-нибудь другие векселя, кроме выданных для сделок bona fide, был бы столь же мало действителен в деле ограничения денежного обращения; ведь если бы даже директора Английского банка имели возможность различать те векселя, которые никоим образом нельзя принимать, в обращение всё же могло бы попасть более значительное количество бумажных денег не по сравнению с нуждами торговли, а по сравнению с тем, что могло бы остаться в каналах обращения, не вызывая обесценения. Хорошо известно, что одна и та же 1 тыс. ф. ст. может в течение дня совершить 20 сделок bona fide. Они могут быть уплачены за судно, продавец же судна может уплатить ими своему фабриканту канатов, тот в свою очередь может уплатить их русскому купцу за пеньку и т. д. А так как каждая из этих сделок была сделкою bona fide, то каждый из участников мог бы выписать вексель, и Английский банк мог бы согласно установленному им правилу дисконтировать все эти векселя. Таким образом, для совершения платежей, для которых достаточно было 1 тыс. ф. ст. наличными, в обращение попало бы 20 тыс. ф. ст. Мне известно, что мнение г-на Бозанкета как будто подтверждается приводимым им взглядом д-ра Смита. Однако этот талантливый автор заявляет в различных местах своего труда и за несколько страниц от той, которую цитирует г-н Бозанкет, что "общее количество бумажных денег всякого рода, какое может без затруднений обращаться в какой-либо стране, ни при каких условиях не может превышать стоимости золотой и серебряной монеты, которую они заменяют или которая (при тех же размерах торгового оборота) находилась бы в обращении, если бы не было бумажных денег" <Адам Смит, Исследование о природе и причинах богатства народов, т. I, стр. 251. - Прим. ред.>. Такому испытанию мы не должны подвергать наше денежное обращение. Если бы при его теперешних размерах оно состояло из золота и серебра, то никакие законы, как бы строги они ни были, не могли бы удержать эти металлы в обращении; часть их переплавлялась бы и вывозилась до тех пор, пока денежное обращение не было бы сведено к надлежащему уровню, а раз такой уровень был бы достигнут, то стало бы столь же невозможно заставить кого-либо вывозить золото и серебро. В этом случае мы уже больше не слышали бы ни о неблагоприятном для нас платёжном балансе, ни о необходимости вывозить золото в возмещение за хлеб. Что последствия были бы именно таковы, в этом не могут сомневаться люди, знакомые с сочинениями д-ра Смита. Но если бы это было иначе, если бы континентальная Европа приняла почти невозможную абсурдную политику покупать ещё больше таких товаров, которых она имеет уже слишком много, то какие плохие последствия могло бы это иметь для нас, даже если бы наше денежное обращение было сведено к тому уровню, на котором оно находилось до открытия Америки? Разве это не было бы для нас национальным выигрышем? Поскольку при тех размерах торговли обращение совершалось бы при помощи меньшего количества золота, благоприятный баланс мог бы с выгодой быть использован для получения более полезных и более нужных для производства товаров. И если бы бумажное обращение было сокращено в таком же отношении, то разве прибылью, которую получает теперь Английский банк, не могли бы воспользоваться те, кто имеет больше прав на неё? Тот факт, что Английский банк не расположен учитывать векселя, - факт, упоминаемый г-ном Бозанкетом, - весьма благоприятен для публики, ибо невозможно сказать, до каких размеров могло теперь дойти количество банкнот, если бы не задержка такого рода. Право же, все, уделившие хоть сколько-нибудь внимания этому вопросу и познакомившиеся с принципами, которыми руководствовались по их собственному признанию директора Английского банка в деле регулирования своих эмиссий, должны удивляться, что наше денежное обращение держалось в таких умеренных границах. ГЛАВА VI. Замечание об установлении пошлины за чеканку
Хотя д-р Смит и высказывался в пользу небольшой пошлины за чеканку монеты, он вполне отдавал себе, однако, отчёт в том, какое зло связано с большой пошлиной. Пределы, выше которых нельзя подымать пошлину за чеканку с выгодой для страны, - это действительные расходы по переработке слитков в монету. Если пошлина за чеканку превышает эти расходы, то для фальшивомонетчиков увеличивается выгода от подделки монеты, даже если бы они фабриковали монету законного веса и стандарта. Однако даже и в этом случае, поскольку увеличение количества находящихся в обращении денег выше действительных требований торговли уменьшает их стоимость, промысел фальшивомонетчиков должен будет прекратиться, если стоимость монеты превышает стоимость слитков не больше, чем на сумму расходов по выработке первой. Если бы публика могла быть гарантирована от таких незаконных увеличений количества обращающихся денег, то не было бы такой высокой пошлины за чеканку, какой правительство не могло бы потребовать с выгодой для себя: ведь чеканная монета превышала бы настолько же стоимость слитков. Если бы пошлина за чеканку составляла 10%, цена слитков была бы по необходимости на 10% ниже монетной, а если бы пошлина составляла 50%, то стоимость монеты превышала бы стоимость слитков также на 50%. Итак, оказывается, что, хотя слиток данного веса никогда не может превысить по стоимости монету данного веса, последняя может превысить по стоимости слиток данного веса на всю сумму пошлины за чеканку, как бы велика ни была последняя, при условии, что имеется действительная гарантия против возрастания количества денег путём подделки монеты незаконными средствами. Оказывается также, что если такая гарантия не может быть дана, то промысел фальшивомонетчика прекратится, как только он увеличит количество монеты в такой степени, что уменьшит её стоимость по сравнению со слитками на всю сумму действительных расходов по чеканке. Что эти принципы правильны, может быть доказано путём анализа тех условий, при которых банкнота получает стоимость. Банкнота не имеет большей внутренней стоимости, чем клочок бумаги, на котором она отпечатана. Она может быть рассматриваема как денежная единица, пошлина за чеканку которой так огромна, что доходит до полной её стоимости; однако если публика достаточно защищена против чересчур большого возрастания количества таких банкнот, являющегося результатом либо неосмотрительности со стороны эмиссионеров, либо проделок фальшивомонетчиков или подделывателей, то при обычных торговых операциях банкноты должны сохранять свою стоимость. Пока такие деньги держатся внутри известных пределов, им как средствам обращения может быть придана любая стоимость: 3 ф. ст. 17 шилл. 10 1/2 пенс. могут иметь стоимость унции золотого слитка, т. е. стоимость, по которой они были первоначально выпущены, или же низведены до стоимости пол-унции; если бы Английский банк, их выпустивший, имел исключительную привилегию поставлять деньги, которые чеканятся на Монетном дворе, то 3 ф. ст. 17 шилл. 10 1/2 пенс. его банкнот могли бы приобрести стоимость 1, 2, 3 или любого числа унций золотого слитка. Стоимость таких денег должна зависеть исключительно от их количества; в предположенном же нами случае Английский банк имел бы власть ограничивать не только количество бумажных денег, но также и металлических. Я уже старался прежде показать, что до учреждения банков драгоценные металлы, употребляемые в качестве денег, необходимо распределялись между различными странами света в таком отношении, какого требовали размеры их торговли и платежей; какова бы ни была стоимость слитков, употребляемых для целей денежного обращения, одни и те же требования и нужды всех стран помешали бы увеличению или уменьшению количества денег, предоставленного каждой из них, при условии, что отношение между размерами торговли отдельных стран не подверглось изменению, сделавшему необходимым иное разделение слитков; Англия или какая-нибудь другая страна может заменить для нужд денежного обращения металл бумагой, но стоимость таких бумажных денег может быть регулирована количеством сохранившей свою слитковую стоимость монеты, которая находилась бы в обращении, если бы не было бумажных денег. С этой точки зрения бумажно-денежное обращение какой-нибудь отдельной страны представляет металл определённого веса, который при не изменившихся размерах торговли и платежей не может быть ни увеличен, ни уменьшен: 3 ф. ст. 17 шилл. 10 1/2 пенс. в монетах или в бумажных деньгах могут представлять унцию золотого слитка или же в силу какого-нибудь внутреннего мероприятия 4 ф. ст. 13 шилл. могут делать то же самое, но действительный вес слитков, представляемых ими, всегда останется одним и тем же при одних и тех же условиях торговли и платежей. Предположим, что доля Англии составляет 1 млн. унций. Если бы в силу закона, который может быть осуществлён на практике, 1 1/2 млн. унций в монете могли бы быть пущены в обращение принудительным порядком или удержаны в обращении путём недопущения всякой переплавки или вывоза монеты или если бы при помощи закона о приостановке размена Английский банк был бы в состоянии сохранить в обращении такое количество бумажных денег, которое представляет l 1/2 млн. унций золота в монете, то эти 1 1/2 млн. унций имели бы в обращении не большую стоимость, чем 1 млн. унций; следовательно, 1 1/2 унции золота в монете или банкноты, которые представляли бы эту сумму, купили бы не больше каких-либо товаров, чем унция золота в слитках. Если бы, с другой стороны, правительство взимало пошлину за чеканку в размере 50% или если бы эмиссии Английского банка были чрезвычайно ограничены и он пользовался бы при этом исключительным правом чеканки монеты, так что вся сумма его банкнот не превзошла бы того количества их, которое должно представлять 1/2 млн. унций золота по монетной цене, то эти 1/2 млн. унций стоили бы в обращении столько же, сколько стоили 1 млн. унций в первом случае и 1 1/2 млн. во втором. Из этих принципов следует, что возможно лишь одно обесценение денег - то, которое происходит от их излишка. Как бы испорчена ни была монета, она всегда будет сохранять свою монетную стоимость, т. е. будет обращаться по внутренней стоимости металла, который она должна содержать, если только количество её не чрезмерно; поэтому предположение, что гинеи в 5 драхм и 8 гранов не могут обращаться вместе с гинеями в 5 драхм или меньше, представляет ошибочную теорию. Поскольку общее количество их может быть так ограничено, что и те и другие могут на деле обращаться по стоимости, равной 5 драхмам 10 гранам, не будет никакого искушения извлекать ни ту, ни другую из обращения; было бы, напротив, прямой выгодой удержать их в обращении. На практике, правда, более тяжёлые экземпляры лишь в редких случаях избегли бы плавильного тигля, но это происходило бы целиком вследствие увеличения количества таких денег: вследствие обильных эмиссий Английского банка или благодаря притоку фальшивых денег, которые были бы брошены в обращение искусными фальшивомонетчиками. Наши серебряные деньги обращаются теперь по стоимости, которая превышает их слитковую стоимость, потому что, несмотря на прибыль, получаемую подделывателями, они пока что не поступают в обращение в достаточном изобилии, для того чтобы повлиять на их стоимость. Именно этим принципом объясняется также тот факт, что в эпоху, предшествовавшую перечеканке 1696 г., цена слитков не поднялась так высоко, как можно было ожидать при тогдашней степени порчи денег; их количество не возросло в том отношении, в каком ухудшилось их качество. Из этих принципов следует также, что в стране, в которой золото есть мера стоимости (и в которой закон не ставит никаких препятствий вывозу), цена золотых слитков никогда не может превысить их монетную цену, что первая никогда не может упасть ниже второй больше, чем на сумму расходов чеканки, и что эти изменения зависят целиком от того, насколько снабжение монетой или бумажными деньгами соответствует объёму торговли страны: другими словами, ничто не может поднять стоимость слитков даже до их монетной цены, кроме излишка находящихся в обращении денег. Разумеется, если какая-нибудь сила в государстве пользуется привилегией увеличивать по своему произволу количество бумажных денег и имеет в то же время законное право не платить по своим банкнотам, то только произвол выпускающих может определить предел роста цены золота. ГЛАВА VII. Рассмотрение возражений г-на Бозанкета против положения, согласно которому эмиссии Английского банка регулируют эмиссии провинциальных банков
Следующее положение, которое г-н Бозанкет старается опровергнуть, содержит формулировку мнения Комитета о слитках о том, что "обращение банкнот провинциальных банков зависит от эмиссий Английского банка и пропорционально им". Истинность этого принципа подтверждается также авторитетом многих людей практики. Г-на Бозанкета преследует, повидимому, особливое несчастие, так как только немногие из отобранных им положений Комитета о слитках не опираются на авторитет людей практики, о чьих мнениях по этим вопросам он говорит с такой почтительностью. Что колебания вексельного курса не могут в течение сколько-нибудь продолжительного времени выходить за пределы, установленные Комитетом, таково было и есть мнение способнейших людей практики. Что при нормальной системе денежного обращения цена слитков не может быть в течение продолжительного времени выше их монетной цены, это было также полностью подтверждено деятелями того же круга. Рассматриваемое нами теперь положение было также санкционировано ими. Г-н Гэскиссон уже ссылался на авторитет управляющего Английским банком, который в своём показании Комитету сделал следующее заявление (стр. 127): "Если провинциальные банки не регулируют свои выпуски согласно принципам Английского банка, то они могут выпустить чрезмерное количество банкнот; но, по моему мнению, как только этот излишек сделается сколько-нибудь ощутимым, он будет корректирован своим собственным действием, ибо держатели таких банкнот немедленно вернут их обратно банкам, когда увидят, что благодаря чрезмерной эмиссии стоимость этих банкнот упала или может упасть ниже их паритета. Таким образом, хотя равновесие может быть слегка и временно нарушено, значительная или постоянная чрезмерность эмиссий всё же не может иметь места; в силу природы вещей количество банкнот, находящихся в обращении, должно всегда находить свой предел в общественных потребностях". Г-н Джилькрист из Шотландского банка заявил Комитету, что "если бы Английский банк сократил свои эмиссии, то шотландские банки сочли бы, разумеется, необходимым уменьшить свои". "Эмиссии Английского банка, - заметил он, - влияют на эмиссии шотландских банков следующим образом: если шотландские банки выпускают больше банкнот, чем они должны были бы это сделать, принимая во внимание размер эмиссий Английского банка, они будут вынуждены выдавать векселя на Лондон по более низкому вексельному курсу" (стр. 114, приложение). Г-ну Томпсону, провинциальному банкиру и члену Комитета, был задан вопрос: "Каким критерием руководствуются теперь провинциальные банки при регулировании выпусков бумажных денег?" Ответ: "Критерием изобилия или недостатка банкнот". "Значит их эмиссии находятся в известном соотношении с эмиссиями Английского банка?" Ответ: "По моему мнению, да". "Комитет, - замечает г-н Бозанкет, - не установил, в каком смысле он употребляет термин "излишек обращающихся денег"; поэтому, - продолжает он, - я предполагаю, что этот термин употребляется в докладе в том смысле, в котором им пользуется д-р Смит: он означает количество большее, чем то, какое может быть быстро поглощено или использовано денежным обращением страны". А в другом месте он говорит: "Так как этот факт не очевиден (я имею в виду, что бумажных денег имеется больше, чем страна может быстро поглотить или использовать), то onus probandi, казалось бы, лежит во всяком случае на Комитете". Однако Комитет употребляет, по моему мнению, термин "излишек" не в этом смысле. При таком значении его излишка вообще не может быть, раз Английский банк не платит звонкой монетой, потому что торговля страны может легко использовать и поглотить любую сумму, которую этот банк может послать в обращение. Именно потому, что г-н Бозанкет понимает так слово "излишек", он и думает, что обращение не может быть чрезмерным только потому, что торговля страны не может легко использовать его. По мере того как фунт стерлингов обесценивается, нужда в номинальном количестве фунтов будет возрастать, и ни одна часть большей суммы не будет излишней в большей мере, чем прежде была меньшая сумма. Итак, под словом "излишек" Комитет должен подразумевать разницу в объёме обращения, т. е. разницу между суммой фактически находящихся в обращении денег и той суммой их, которая находилась бы в обращении, если бы фунт стерлингов снова вернулся к своей слитковой стоимости. Это различие имеет гораздо большее значение, чем это кажется с первого взгляда, и г-н Бозанкет был хорошо осведомлён о том, что я употреблял этот термин именно в этом смысле. Он был настолько обязателен, что уточнил моё мнение в том месте, где оно казалось неясным; он сделал это весьма искусно и вполне понял смысл, в котором я употребил слова "излишнее обращение". Он замечает по поводу этого места (стр. 86): "Если эта интерпретация будет принята, то станет почти бесполезно устанавливать наличие излишка бумажных денег и исследовать причины его; мы должны будем удовольствоваться тогда тем, что признаем факт его существования на основании его последствий: внимание наше должно быть направлено на то, чтобы установить обесценение или повышение цены товаров, произведённое и вызванное исключительно лишь возрастанием количества средств обращения". Я признаю совершенно безоговорочно, что, пока держится высокая цена слитков и низкий вексельный курс и пока наше золото не испорчено, факт нахождения в обращении лишь на 5 млн. ф. ст. банкнот вовсе не служит для меня доказательством, что наше обращение не обесценено. Поэтому, если мы говорим об излишке банкнот, мы имеем в виду ту часть суммы эмиссий Английского банка, которая может обращаться при данных условиях, но не могла бы оставаться в обращении, если бы деньги сохраняли свою слитковую стоимость. Когда мы говорим об излишке денег, выпущенных в обращение в провинции, мы имеем в виду ту часть суммы провинциальных банкнот, которая не может быть поглощена обращением потому, что эти банкноты подлежат обмену на банкноты Английского банка и в то же время обесценены ниже стоимости последних. Это различие является, мне кажется, ответом на возражение г-на Бозанкета, заявляющего: "Но разве из этого следует, что провинциальные банкноты, выпущенные в чрезмерном количестве, не встретят препятствий, раз в обращении находится уже больше банкнот, чем страна может поглотить и использовать? Если допустить, - а как можно это отрицать? - что цены товаров должны всюду повышаться или падать пропорционально возрастанию или уменьшению количества денег, которое приводит их в обращение, то не должно ли возрастание количества лондонских денег увеличить цены товаров лишь в Лондоне, если только часть этих денег не может быть использована в провинциальном обращении? И, наоборот, не должно ли такое повышение иметь место только для провинциальных цен, если возросло количество денег, выпущенных в обращение в провинции, и если бы они не были разменны на лондонские деньги или не могли бы обращаться в Лондоне?" Если бы случай, о каком говорит г-н Бозанкет, был возможен, если бы увеличилось только лондонское денежное обращение и лондонские банкноты не имели бы хождения в провинции, тогда мы имели бы вексельный курс на провинцию таким же манером, как мы имеем его на Гамбург или Францию; существование такого вексельного курса показывало бы, что лондонские бумажные деньги обесценены по сравнению с провинциальными. Предположим, что каждый провинциальный банк защищён специальным законом о приостановке размена от обязательства платить по своим банкнотам какими-нибудь другими деньгами, кроме своих собственных банкнот, и что эти банкноты могут обращаться только в границах именно данных округов; они были бы тогда обесценены в сравнении со слитками в той же мере, в какой их количество превосходило бы количество денег со слитковой стоимостью, которое обращалось бы в этих округах, если бы банки не были защищены такими законами. Банкноты одного банка могут быть обесценены на 5%, другого - на 10, третьего - на 20% и т. д. Но так как закон о приостановке размена распространяется только на Английский банк, а все другие банкноты размениваются на банкноты последнего, то провинциальные банкноты отнюдь не могут быть выпущены в большей пропорции, чем банкноты лондонского банка. Г-н Бозанкет думает, что я "обязан был сначала доказать, что возрастанию общего количества банкнот за счёт провинциальных банкнот и vice versa мешает нечто физически непреодолимое, а затем уже утверждать, что возрастание количества банкнот Английского банка может вызвать соответствующее возрастание количества провинциальных банкнот". Из того, что я уже сказал, явствует, по моему мнению, что если не физически, то во всяком случае абсолютно невозможно, чтобы увеличение количества банкнот Английского банка не сопровождалось увеличением числа провинциальных банкнот или же обесценением стоимости первых в сравнении с последними, разве что лондонские банкноты проникли в обращение в такие места, куда их прежде не допускали. Но каким образом это осуществляется? Каким образом эмиссии Английского банка вызывают возрастание провинциального обращения? Об этом рассказал нам г-н Джилькрист. Возьмите случай, обратный тому, который он предположил, и дело будет обстоять следующим образом: если Английский банк увеличит свои эмиссии, то провинциальные банки будут иметь возможность увеличить свои; так как в Лондоне цены товаров повысились, а в провинции остались без изменения, там появится нужда в деньгах для покупки на более дешёвом рынке; для этой цели потребуются векселя на провинцию, которые будут поэтому продаваться с премией, или, другими словами, банкноты Английского банка будут обесценены ниже стоимости провинциальных денег. Спрос на такие векселя прекратится, как только провинциальное денежное обращение будет поднято до уровня лондонского или же лондонское денежное обращение опустится до уровня провинциального. Я не мог думать, что такой ясный принцип будет поставлен под вопрос: стоимость нашего золотого обращения определяла прежде стоимость фунта стерлингов по всей Англии. Если золото становилось обильным вследствие открытия новых рудников и большее количество денег находилось поэтому в обращении в Лондоне, то пропорциональное увеличение их количества должно было бы иметь место и в провинции, чтобы сохранилось равенство цен. Банкноты Английского банка выполняют теперь ту же самую функцию, и если количество их увеличивается, то либо провинциальное денежное обращение должно также вобрать в себя дополнительное количество их, либо провинциальные банки должны увеличить пропорционально свои эмиссии. Нетрудно решить, какой выбор сделают провинциальные банки при этих условиях. Комитет установил, что "если бы где-нибудь в провинции был выпущен излишек бумажных денег, в то время как лондонское обращение не выходило бы из должных пропорций, то мы имели бы дело с местным возрастанием цен лишь в данном округе, цены же Лондона остались бы такими же, как и прежде; владельцы же провинциальных бумажных денег предпочтут делать покупки в Лондоне, где товары стали дешевле, и потому вернут эти провинциальные банкноты банкиру, который выпустил их, и потребуют от него банкноты Английского банка или векселя на Лондон; таким образом, поскольку излишек провинциальных бумажных денег будет предъявлен выпустившему их банку для обмена на банкноты Английского банка, количество последних необходимо ограничивает количество провинциальных банкнот вполне действительным способом". Г-н Бозанкет спрашивает: "Действительно ли одно вытекает из другого? Допуская правильность приведённого рассуждения при предположении, что провинциальные банкноты действительно оплачивались банкнотами Английского банка, применимо ли оно при допущении, что они оплачивались векселями на Лондон, раз оплата последних имеет, как мы уже показали, мало связи с банкнотами?" Безусловно, да. Предположим, что излишек провинциальных банкнот составляет 1 тыс. ф. ст. и вследствие этого эмиссионеру предъявят требование на 1 тыс. ф. ст. в банкнотах Английского банка, каковые и будут посланы в Лондон для покупки товаров; разве в этом случае 1 тыс. ф. ст. не будет прибавлена к лондонскому обращению, тогда как провинциальное будет уменьшено на 1 тыс. ф. ст.? Предположим теперь, что вместо тысячефунтовой банкноты Английского банка держателю провинциальных банкнот будет выдан вексель на Лондон, что будет в такой же мере отвечать его желанию произвести покупку в Лондоне; так как вексель есть только приказ находящемуся в Лондоне А уплатить в Лондоне же В, то лондонское денежное обращение останется без изменения, а провинциальное уменьшится на 1 тыс. ф. ст. Таким образом, единственная разница состоит тут в том, что в первом случае 1 тыс. ф. ст. была прибавлена к лондонскому обращению, в последнем же оно сохраняло прежние размеры. Но разве провинциальный банкир, уменьшивший в результате выплаты тысячефунтовой банкноты Английского банка депозит, который он считает необходимым иметь для безопасности своего учреждения, не даёт своему корреспонденту поручение послать ему банкнот Английского банка на сумму в 1 тыс. ф. ст. путём ли продажи билетов казначейства или каким-либо другим способом? "Если товары дешевле в Ливерпуле, чем в Лондоне, я предпочту купить их там; если же я имею слишком много банкнот, я пошлю их в Ливерпуль для уплаты" при условии, что они имеют там хождение. В последнем случае в Ливерпуле, как и в Лондоне, увеличится количество обращающихся денег; отнюдь не невероятно, однако, что ливерпульский банкир найдёт случай убедить своих сограждан, что его банкнота так же хорошо отвечает их намерениям, как и банкнота Английского банка <комитет задал г-ну Стэкки следующий вопрос: "Разве не в ваших интересах как банкира сдерживать обращение банкнот Английского банка и разве вы не пересылаете с этой целью в Лондон все банкноты Английского банка, которые вы можете получить сверх той суммы, каковую вы считаете благоразумным держать в ваших сундуках как депозит?". Ответ: "Несомненно">; он постарается поэтому приобрести последние в обмен на свои и пошлёт их в Лондон, и, таким образом, денежное обращение в Ливерпуле увеличится за счёт выпусков Английского банка. Поэтому г-н Бозанкет ошибается, когда замечает, что "Английский банк может ограничить, но отнюдь не может увеличить хотя бы на один шиллинг обращение ливерпульских банков". Так как Комитет "считает аксиомой, что бумажные деньги провинциальных банков представляют надстройку, воздвигнутую на базе бумажных денег Английского банка", то г-н Бозанкет спрашивает, где Комитет узнал это. "Он узнал от г-на Стэкки, - продолжает г-н Бозанкет, - крупного и опытного банкира в Сомерсетшире, что его банк регулирует свои эмиссии резервами, которые он имеет в Лондоне для платежа по этим эмиссиям и которые состоят из государственных фондов, билетов казначейства и других ликвидных обеспечений; при этом он не придаёт особого значения количеству имеющихся среди них банкнот Английского банка или звонкой монеты, хотя он всегда держит известное количество и тех и других для уплаты по случайным требованиям. Каким же образом может это показание подтвердить мнение, согласно которому банкноты Английского банка порождают провинциальные банкноты или же ограничивают их количество?" По моему мнению, можно доказать, что увеличение эмиссии Английского банка побудило бы г-на Стэкки или другого провинциального банкира увеличить размер своих эмиссий, даже если бы он держал в резерве именно те обеспечения, которые он перечислил. Вследствие изменения цен в Лондоне на провинциальные банкноты возник бы такой спрос, что провинциальный банкир мог бы получить в обмен на свои банкноты векселя на Лондон. На выручку от этих векселей он мог бы получить ещё большую сумму государственных фондов, билетов казначейства и т. д. На этой увеличенной таким образом базе он мог бы расширять и надстройку. Комитет не мог предположить, что Шотландский банк, сокращая в 1763 г. своё обращение путём выдачи 40-дневных векселей на Лондон, в действительности депонировал банкноты в первую очередь в руках своих лондонских корреспондентов. Если бы дело обстояло так, он мог бы сразу же выкупить свои банкноты, платя по ним в Шотландии банкнотами Английского банка, но это было не так. Шотландский банк находился в положении, описанном г-ном Стэкки: он имел те или иные обеспечения в Лондоне и уполномочил своих корреспондентов превратить их в деньги для своевременной оплаты векселей. Здесь происходил перевод денег от А к В в Лондоне, шотландские же банкноты извлекались из обращения. ГЛАВА VIII. Рассмотрение взглядов г-на Бозанкета, согласно которым единственной причиной повышения цен было не черезмерное обращение, а неурожайные годы и налоги
Установив, как он думает, недостаточность аргументов Комитета, выдвигаемых с целью доказать, что эмиссии Английского банка были чрезмерны, г-н Бозанкет приводит положительные аргументы, доказывающие, что эти эмиссии не были чрезмерны. Сущность его аргументов заключается в том, что причиной повышения цен являются годы неурожая и возросшие налоги. Для поддержки своего мнения он приводит цитату из работы д-ра Смита. Но эта цитата говорит, по моему мнению, в пользу моего взгляда на предмет. "Государь, - говорит д-р Смит, - который повелел бы, чтобы известная часть налогов уплачивалась бумажными деньгами известного рода, мог бы придать таким путём некоторую стоимость этим бумажным деньгам, даже если бы срок их полной оплаты и погашения зависел от его усмотрения. Если бы банк, выпустивший эти бумажные деньги, старался постоянно следить за тем, чтобы их количество всегда было несколько меньше того, какое могло быть употреблено с этой целью, спрос на эти деньги мог бы настолько усилиться, что они стали бы давать некоторую премию или продаваться на рынке по цене несколько более высокой, чем соответствующие золотые и серебряные монеты, вместо которых они были выпущены" <Адам Смит, Исследование о природе и причинах богатства народов, т. I, стр. 276. - Прим. ред.>. Если же, спрашивает г-н Бозанкет, годичная сумма налогов далеко превосходит сумму банкнот, то как могут быть на основе этого принципа обесценены бумажные деньги? Но где д-р Смит говорит о годичной сумме налогов? С таким же правом можно было бы утверждать, что сумма бумажных денег должна быть сопоставлена с суммой налогов за два или три года. По моему разумению, д-р Смит полагает, что если количество бумажных денег не превышает той суммы, какая может быть затрачена полностью исключительно на уплату налогов, то деньги не будут обесценены. Он никогда не мог бы отстаивать то экстравагантное положение, какое приписывает ему г-н Бозанкет. Чтобы проверить наше бумажно-денежное обращение с помощью критерия д-ра Смита, следовало бы доказать, что сумма ежедневно уплачиваемых налогов равна всей сумме банкнот, находящихся в обращении. Если же принять то толкование положения д-ра Смита, какое даёт г-н Бозанкет, то, поскольку сумма всех платежей в казначейство составляет теперь 76 805 440 ф. ст., не может быть ни излишка банкнот, ни обесценения их до тех пор, пока сумма их не превысит указанную сумму. Но кто же, прочитав рассматриваемое место, мог бы думать, что таково было действительное значение слов д-ра Смита? Когда г-н Бозанкет говорил о премии, которая давалась за банкноты, я полагал, что он имеет в виду премию в золоте или серебре, иначе я не представляю себе премии, но г-н Бозанкет, повидимому, думает, что премия за банкноты даётся в бумажных деньгах, ещё более обесцененных, чем сами банкноты: в билетах казначейства или в банкирских чеках. Так вот, оба эти обеспечения, подлежащие уплате в течение определённого срока в банкнотах, могут в известных случаях иметь меньшую стоимость, чем банкноты, которые требуются для немедленного использования, что в достаточной степени объясняет отдаваемое им предпочтение. Ассигнат, обесцененный на 50%, также мог бы приносить такую премию, о какой говорит г-н Бозанкет. Одно из соображений, которое г-н Бозанкет соблаговолил представить своим читателям в доказательство весьма незначительного увеличения фактического числа банкнот по сравнению с операциями, которые совершаются с их помощью, заключается в том, что сумма находящихся в обращении денег возросла с 1793 г. на 3 млн. ф. ст., тогда как сумма платежей одному только правительству возросла больше чем на 60 млн. В этом расчёте совершенно опущено увеличение провинциального денежного обращения. В дальнейшем я постараюсь доказать также, что из этих данных отнюдь не вытекает необходимость какого-либо увеличения денежного обращения в связи с огромным увеличением суммы выплаченных налогов, если, конечно, в течение того же самого времени не имел места рост торговли и промышленности. В данный же момент для меня будет достаточно отметить, что, если бы г-н Бозанкет привёл сравнительные данные за время от 1793 по 1797 г., он, возможно, нашёл бы основание усомниться в правильности своей теории. В течение этих четырёх лет должно было иметь место значительное добавление к налогам, и поэтому согласно принципам г-на Бозанкета должно было бы иметь место также и добавление к денежному обращению, чего на деле, повидимому, не было. Вряд ли вероятно, чтобы к числу имевшихся в обращении монет сделано было какое-либо очень значительное добавление; напротив, усиленная чеканка монеты в 1797 и 1798 гг. показывает, что металлическое обращение в 1797 г. находилось на необычайно низком уровне. Из отчёта же, представленного Комитету палаты лордов, явствует, что сумма банкнот в обращении
а в 1797 г. общая средняя не превышала даже после приостановки размена суммы 1793 г. Сумма банкнот, бывших в обращении в 1803 г., равнялась почти 18 млн. ф. ст. В 1808 г. она была не больше, и всё же никто не станет отрицать, что за эти пять лет наши налоги и расходы должны были значительно увеличиться. Итак, оказывается, что можно сделать значительные добавления к сумме налогов страны без соответствующего увеличения количества обращающихся денег. Г-н Бозанкет обвиняет Комитет в том, что последний не обратил достаточного внимания на влияние налогов на цены товаров; это обвинение предполагает также, что Комитет приписал повышение цен товаров исключительно обесценению денег. Комитет действительно полностью заслуживал бы порицания, если бы он убаюкивал наш народ надеждой, что реформа денежного обращения могла бы понизить цены товаров до того уровня, на котором они находились до введения закона о приостановке размена. Действие, произведённое на цены обесценением, было определено весьма точно, оно сводится в итоге к разнице между рыночной и монетной ценой золота. Унция золота в монете, говорит Комитет, не может иметь меньшую стоимость, чем унция золота в слитках того же стандарта, поэтому покупатель хлеба имеет право получить такое же количество этого товара за унцию золота в монете, или за 3 ф. ст. 17 шилл: 10 1/2 пенс., какое он может получить за унцию золота в слитках. Если же 4 ф. ст. 12 шилл. в бумажных деньгах имеют стоимость не большую, чем унция золота в слитках, то цены повысились для покупателя фактически на 18% благодаря тому, что покупка его была совершена на бумажные деньги, а не на монеты, имеющие слитковую стоимость. 18% составляют поэтому увеличение цен товаров, вызванное обесценением бумажных денег. Всякое повышение цены сверх этого может быть объяснено влиянием налогов, увеличившимся недостатком товаров или какой-нибудь другой причиной, которая может показаться удовлетворительной тем, кто любит заниматься такого рода исследованиями. Теория, которую выдвинул г-н Бозанкет по вопросу о налогах и том действии, которое они оказывают на сумму обращающихся денег, в высшей степени любопытна и доказывает, что даже практические деятели поддаются иногда искушению покинуть трезвый путь практики и опыта и заняться самыми дикими умозрительными построениями и самыми химерическими фантазиями. Г-н Бозанкет замечает, что имеются две причины увеличения цен в Великобритании после введения закона о приостановке размена: "1) Изменившееся положение хлебной торговли и вызванный этим недостаток хлеба в 1800 и 1801 гг. 2) Рост налогов со времени начала войны в 1793 г.". Я охотно допускаю, что недостаток хлеба и расходы, с которыми связан был ввоз его, могли вызвать некоторое повышение цен товаров. Но можно ли считать самоочевидным положением или, как г-н Бозанкет выражается, аксиомой политической экономии, что налоговое обложение вызывает повышение цен товаров на всю сумму взимаемых налогов? Вытекает ли из факта увеличения налогов с 1793 г. на колоссальную сумму в 48 млн. ф. ст., что вся эта сумма пошла па повышение цен товаров и что, следовательно, один только этот факт объясняет повышение всех цен 1793 г. на 50%? Следует ли из этого факта, что каждый человек, за исключением лишь денежного капиталиста, имеет власть вознаградить сам себя за налоги, которые он платит? Разве не безразлично, идёт ли, например, речь о налогах на предметы потребления или же о налогах такого типа, как подоходный налог, прямые налоги и ещё двадцать других, какие можно привести? Разве все они имеют тенденцию поднимать цены товаров? И разве каждый налогоплательщик, кроме денежного капиталиста, в состоянии сбросить с себя налоговое бремя? Если бы рассматриваемый аргумент был правилен, то оказалось бы, что вся тяжесть обложения падает исключительно на денежных капиталистов и что вся сумма ежегодного увеличения налогов с 1793 г., доходящая теперь до 53 млн. ф. ст., должна была быть взята из их карманов. При такой норме обложения налоги должны были бы превышать их доход, поскольку они превышают проценты на национальный долг. Я не могу считать теорию такого рода очень правильной, но если бы она была верна, то она не внушала бы владельцам денежного капитала слишком большую любовь к этого рода собственности. При допущении правильности этого принципа войны никогда не вели бы к обеднению и источники налогового обложения никогда не иссякали бы. Мне, наоборот, представляется убедительно ясным, что ни подоходный налог, ни прямые налоги, ни многие другие не затрагивают ни в малейшей степени цен товаров. В каком действительно несчастном положении очутился бы потребитель, если бы ему пришлось платить повышенные цены за товары, необходимые для его комфорта, после того как его покупательные средства были бы значительно сокращены налогом! При справедливом обложении подоходный налог оставил бы каждого члена общества в том же самом относительном положении, в каком он его застал. Расходы каждого человека должны быть уменьшены на сумму его налога, и если бы продавец хотел освободить себя от бремени налога, повышая цену своих товаров, то покупатель на этом же самом основании желал бы купить их дешевле. Эти противоположные друг другу интересы настолько точно уравновешивали бы друг друга, что цены не подверглись бы никаким изменениям. Эти же замечания можно применить к прямым и ко всем другим налогам, которые не являются налогами на отдельные товары. Но если бы налог действовал неравномерно, если бы он особенно тяжело падал на одну отрасль промышленности или торговли, то прибыль упала бы в этой отрасли ниже общего уровня торговой прибыли и те, кто вложил в неё капитал, либо покинули бы её для более прибыльной, либо повысили бы цены товаров, которые они продают, до такого уровня, при котором они получали бы такую же прибыль, как в других отраслях торговли. Налоги на товары, несомненно, повысят цены обложенных товаров на всю сумму налога. Цену таких товаров можно рассматривать как распадающуюся на две части: первая - это их первоначальная и естественная цена, а вторая - налог за право потреблять их. Если бы, далее, этот налог взимался с товара, потребление которого каждым индивидом находилось в точном соотношении с его доходом, то повысилась бы только цена обложенного товара; но если бы между потреблением и доходом не было такого соотношения, то те, кто платил бы больше, чем свою долю, потребовали бы более высокую цену и за товар, который они продают, а если бы они получили её, то общество было бы поставлено в то же самое относительное положение, в каком оно находилось прежде. Если бы вместо обложения товара налогом каждый индивид платил за товар не больше его первоначальной цены, но должен был бы уплатить правительству всю сумму налога сразу за разрешение потреблять этот товар, то действие налога было бы точно таким же, как действие прямых налогов; лишь частичное повышение цен некоторых товаров имело бы место, чтобы компенсировать несправедливость, которая, несмотря на лучшие пожелания законодателей, должна сопровождать каждый налог. Согласно оценке г-на Бозанкета цены товаров были фактически увеличены с 1793 г. на 48 млн. ф. ст. благодаря налоговому обложению, причём эта надбавка достаточно объясняет повышение цен, и для объяснения этого явления не приходится ссылаться на обесценение находящихся в обращении денег. Но если вышеизложенный взгляд на действие налогов правилен, то эта оценка исходит из ошибочной теории, не подтверждаемой ни доводами разума, ни прямой вероятностью. Но из вышеприведённых данных г-н Бозанкет делает ещё следующий вывод: так как стоимость товаров повысилась с 1793 г. на 48 млн. ф. ст., а денежное обращение увеличилось только на 3 млн. ф. ст., то это увеличение не может быть названо чрезмерным <если мы прибавим к этим 3 млн. ф. ст. рост провинциального обращения и будем помнить об экономии в использовании средств обращения, о которой так дельно и ясно говорил сам г-н Бозанкет, то, по-моему, даже если все факты, на которых настаивает г-н Бозанкет, верны, количество денег в обращении всё же возросло в ненадлежащей пропорции>. Хотя в предыдущем изложении я и сделал г-ну Бозанкету уступку, допустив, что некоторые из наших налогов приведут к росту цен товаров, из этого не обязательно следует всё же, что для обращения этих товаров потребуется больше денег. Сумма денег, которая получается правительством в форме налогов, берётся из фонда, который был бы затрачен иначе на предметы потребления. Пропорционально возрастанию налогов должны уменьшаться расходы народа. Если мой доход составляет 1 тыс. ф. ст. и правительство требует от меня 100 ф. ст. налогов, у меня останется только 900 ф. ст. для затраты на те предметы насущной необходимости и комфорта, какие нужны для потребления моего семейства. Если правительство берёт 200 ф. ст., мне останется для этой цели только 800 ф. ст. А так как сумма денег, фактически расходуемая правительством и мною, не может превышать 1 тыс. ф. ст., то дополнительного количества средств обращения, по моему мнению, не потребуется, хотя бы налоги составляли 50% дохода каждого человека. Если бы был введён налог на хлеб и вследствие этого возросла бы заработная плата рабочих, то налог мог бы действительно упасть на тех, кто потребляет продукт труда человека. Для этих потребителей не представляло бы существенного различия, если бы они сразу уплатили всю сумму такого налога казначейству или если бы налог направился через обходный канал, в который он тогда попал бы. Для этого не потребовалось бы какой-нибудь дополнительной суммы. Правительство получало бы ежедневно часть налогов независимо от того, уплачивались ли бы они сборщику акцизов или сборщику налогов; расходы его в одном случае были бы точно так же велики, как и в другом. Какую бы сумму ни расходовало правительство, расходы народа уменьшились бы на такую же сумму; то же самое количество товаров обращалось бы и того же самого количества денег было бы вполне достаточно для обращения этих товаров. Всё это верно при предположении, что люди достаточно благоразумны или достаточно богаты, чтобы уплачивать все налоги из своего годового дохода, и не поддаются искушению или не вынуждены уменьшить свой капитал для удовлетворения требований правительства. Если бы, однако, капитал уменьшился, то уменьшилась бы и совокупная сумма всех производимых товаров, а если бы количество денег, которое было прежде необходимо для обращения товаров, оставалось тем же, то увеличилось бы отношение их числа к числу товаров; таким образом, можно было бы ожидать, что товары повысятся в цене. Мы не должны забывать, однако, что количество денег в стране регулируется их стоимостью, а так как их стоимость в этом случае уменьшилась бы, то количество их стало бы относительно излишним по сравнению с деньгами других стран, и излишек был бы вследствие этого вывезен. Когда мы говорим о недостатке хлеба и вытекающем из него повышении цен, то при этом обычно делается естественный вывод, что так как стоимость хлеба удвоилась, то для его обращения нужно двойное количество денег; но этот вывод отнюдь не является ни очевидным, ни необходимым. Если бы двойное количество денег было действительно нужно, то в наличии имелось бы то же количество хлеба, продающегося по удвоенной против обычной цене, но ведь именно потому, что налицо имеется уменьшенное количество хлеба, удвоилась бы его цена. Если торговля страны расширяется, иначе говоря, если путём сбережений она в состоянии увеличить свой капитал, то такая страна потребует добавочного количества средств обращения, но при всяких условиях средства обращения должны удержать свою слитковую стоимость. Таков единственный верный критерий, с помощью которого мы можем установить, что количество обращающихся денег не чрезмерно. Пропорционально возрастанию налогов должны уменьшаться расходы народа. Если мой доход составляет 1 тыс. ф. ст. и правительство требует от меня 100 ф. ст. налогов, у меня останется только 900 ф. ст. для затраты на те предметы насущной необходимости и комфорта, какие нужны для потребления моего семейства. Если правительство берёт 200 ф. ст., мне останется для этой цели только 800 ф. ст. А так как сумма денег, фактически расходуемая правительством и мною, не может превышать 1 тыс. ф. ст., то дополнительного количества средств обращения, по моему мнению, не потребуется, хотя бы налоги составляли 50% дохода каждого человека. Если бы был введён налог на хлеб и вследствие этого возросла бы заработная плата рабочих, то налог мог бы действительно упасть на тех, кто потребляет продукт труда человека. Для этих потребителей не представляло бы существенного различия, если бы они сразу уплатили всю сумму такого налога казначейству или если бы налог направился через обходный канал, в который он тогда попал бы. ГЛАВА IX. Рассмотрение мнения г-на Бозанкета, согласно которому возобновление платежей звонкой монетой сопровождалось бы вредными последствиями
В заключение г-н Бозанкет высказывает убеждение, что возобновление платежей звонкой монетой будет сопровождаться весьма вредными последствиями и что он не ждёт никакого улучшения в вексельных курсах или падения цены слитков от сокращения количества обращающихся денег, если только не уменьшится наш ввоз и не увеличится вывоз. А для меня, наоборот, совершенно ясно, что сокращение количества банкнот понизит цену слитков и улучшит вексельный курс, ничуть не нарушая регулярности нашего теперешнего вывоза и ввоза. Это сокращение не даст нам возможности вывозить или ввозить золото каким-нибудь иным способом, кроме того, которым мы пользуемся теперь. Наши сделки с иностранцами будут совершенно такими же, как и раньше, но мы будем обладать более дорогой монетой того же наименования. Вместо того чтобы получать в Гамбурге кредит под обесцененный фунт стерлингов, за который можно купить только 104 грана золота по цене в 28 фламандских шиллингов, мы могли бы, восстановив наш фунт стерлингов до его настоящей слитковой стоимости, т. е. до 123 гранов, иметь кредит по цене в 34 шилл. Однако разница в 6 шилл., которая, таким образом, окажется в нашу пользу, будет только видимой и номинальной выгодой. Нет большей ошибки, чем предположение, что в этом заключалась бы какая-нибудь реальная выгода. Если бы путём уменьшения количества банкнот мы повысили бы их стоимость настолько, что она поднялась бы выше стоимости золотых слитков, мы могли бы тогда вызвать действительное изменение вексельного курса: мы нарушили бы существующее равновесие ввоза и вывоза и вызвали бы ввоз слитков или, говоря на языке купцов, мы имели бы благоприятный торговый баланс. Если бы взгляд г-на Бозанкета на наши дела был правилен, наши перспективы были бы очень мрачны. Вынужденные иметь постоянно большие расходы за границей, для того чтобы "ввозить товары, без которых мы не можем обходиться" и в обмен на которые принимается только золото, мы почти могли бы вычислить срок, когда это состязание должно кончиться вследствие недостатка этого наиболее существенного товара. Для платёжного баланса в том огромном размере, как его вычисляет г-н Бозанкет, в нашей стране не хватило бы золота и на один год, и если бы за наши товары нигде нельзя было бы купить его, то как безнадёжно должно было бы быть наше положение. Что касается меня, то я, однако, не имею таких опасений. Я убеждён, что наши заграничные расходы не оплачиваются ни золотом, ни векселями, что они всегда оплачиваются продуктом труда и промышленности нашего народа. Я смотрю с беспокойством только на слепую приверженность нашей теперешней системе денежного обращения - системе, которая постепенно истощает наши ресурсы. Если, говоря словами Комитета, неудобства и бедствия этой системы не будут устранены, то в непродолжительном времени практика убедит в необходимости их устранения всех тех, кто пока ещё сомневается в их существовании; но если даже их прогрессивный рост менее вероятен, то достоинство и честь парламента требуют, чтобы он не разрешал дольше, чем это требуется повелительной необходимостью, существование в нашей великой торговой стране такой системы денежного обращения, в которой отсутствует естественное сдерживающее начало, или контроль; последние должны удерживать стоимость денег на определённом уровне и обеспечивать благодаря постоянству общего стандарта стоимости справедливость и доверие к денежным договорам и обязательствам, принятым одними людьми по отношению к другим. Можем ли мы позволить себе надеяться, что работа, так удачно начатая просвещённым Комитетом, является залогом завершения её через мудрость парламента? Предложения в пользу экономного и устойчивого денежного обращения, а также замечания о прибыли английского банка, поскольку она связана с интересами государства и собственников капитала банка
Введение
В ближайшую сессию парламента будут обсуждаться следующие важные вопросы, касающиеся Английского банка:
Первый из этих вопросов значительно превосходит по своему значению остальные, но по вопросу о денежном обращении и законах, которыми оно должно регулироваться, было написано уже так много, что я не стал бы беспокоить читателя дальнейшими замечаниями на эти темы, если бы не считал, что мы могли бы с большой пользой установить более экономный способ производства наших платежей. А чтобы объяснить этот способ, необходимо дать предварительно краткое изложение некоторых основных начал, составляющих законы денежного обращения, и защитить их от некоторых из выдвигаемых против них возражений. Хотя значение двух остальных вопросов не столь велико, однако в эпоху, когда на наши финансы производится такое давление, когда экономия так важна, они всё же заслуживают серьёзного внимания со стороны парламента. Если по рассмотрении вопроса мы увидим, что услуги, оказываемые Английским банком публике, оплачиваются слишком расточительно и что эта богатая корпорация накопила сокровище, которому нет равного, - и притом в большей его части за счёт общества, а также благодаря небрежности и снисходительности правительства, - то можно надеяться, что теперь будет заключено лучшее соглашение. Обеспечивая Английскому банку справедливое вознаграждение за ответственность и хлопоты, с которыми сопряжено управление публичным предприятием, это соглашение будет в то же время служить гарантией против хищнического распоряжения общественными ресурсами. Следует, мне думается, признать, что война, которая так тяжело ложилась на плечи почти всех классов общества, сопровождалась для Английского банка невиданными барышами, причём доходы этой корпорации возрастали пропорционально росту тягот и трудностей всего общества. Прекращение Английским банком платежей звонкой монетой, явившееся последствием войны, позволило ему повысить количество выпущенных им в обращение банкнот с 12 млн. до 28 млн. ф. ст. и освободило его в то же время от всякой необходимости иметь сколько-нибудь значительный депозит в звонкой монете и в слитках, т. е. ту часть его актива, из которой он не извлекает никакой прибыли. Война увеличила, кроме того, непогашенный государственный долг, находящийся в ведении Английского банка, с 220 до 830 млн. ф. ст.; таким образом, несмотря на уменьшение процента вознаграждения, он получит в этом году за управление делами по долгу 277 тыс. ф. ст. <см. Приложение III>, тогда как в 1792 г. все его поступления по счёту долга составляли 99 800 ф. ст. Войне Английский банк обязан также и увеличением суммы правительственных вкладов. В 1792 г. эти вклады составляли, вероятно, меньше 4 млн. ф. ст. В 1806 г. и после этого года они, как известно, превосходили в общем 11 млн. ф. ст. Нельзя, мне думается, сомневаться в том, что все услуги, которые Английский банк оказывает государству, могли бы быть выполнены государственными служащими в государственных учреждениях, организованных для этой цели, что дало бы уменьшение или сбережение расходов почти на 1/2 млн. ф. ст. ежегодно. В 1786 г. государственные контролёры высказали мнение, что управление делами государственного долга, доходившего тогда до 224 млн. ф. ст., могло бы обходиться правительству меньше чем в 187 ф. ст. 10 шилл. с миллиона. При долге в 830 млн. ф. ст. Английский банк получает 340 ф. ст. с миллиона с первых 600 млн. и 300 ф. ст. с миллиона с остальных 230 млн. Против методов работы Английского банка по управлению публичным предприятием нельзя по справедливости сделать никаких возражений; знание дела, систематичность, точность отличают каждое его отделение, и мало вероятно, чтобы в этих частностях можно было произвести какие-нибудь изменения, которые могли бы считаться улучшением. Поскольку государство связано с Английским банком существующим соглашением, возражения будут выдвигаться против всякого изменения в этом отношении. Как бы ни была, по моему мнению, несоответственно мала компенсация, полученная государством от Английского банка за возобновление его хартии в то время и при тех обстоятельствах, при каких размеры этой компенсации были установлены, я не стану отстаивать необходимость пересмотра договора; я позволил бы Английскому банку пользоваться без всяких препятствий всеми плодами такой неосмотрительной и неравной сделки. Но соглашение, заключённое с банком в 1808 г. относительно управления делами национального долга, не принадлежит, по моему мнению, к соглашению того же типа, и каждая сторона свободна теперь аннулировать его. Соглашение не было заключено на определённый период и не находится в необходимой связи с продолжительностью хартии, составленной за восемь лет перед этим. Находясь в соответствии с положением вещей, существовавшим в эпоху его заключения, или с таким положением, какого можно было ждать в течение ближайших лет после его заключения, оно не имеет уже больше обязательной силы. Именно такое заявление делает г-н Персиваль в следующем месте своего письма Английскому банку, датированного 15 января 1808 г. и написанного в связи с принятием шкалы вознаграждения за управление делами долга, предложенной Английским банком: "Под таким впечатлением, - говорит г-н Персиваль, - я весьма склонен принять предложения банка в менее существенных частях соглашения и поэтому соглашусь на шкалу вознаграждения, предложенную им за управление делами государственного долга, поскольку оно относится к теперешним условиям или к таким, наступления которых можно ожидать в течение ближайшего времени". Так как с тех пор прошло восемь лет и непогашенный долг увеличился за это время на 280 млн. ф. ст., то будет ли справедливо утверждать, что аннулировать это соглашение или предложить ввести в него изменения, диктуемые переживаемым временем и новыми условиями, не во власти ни той, ни другой стороны ни теперь, ни потом? Я очень многим обязан г-ну Гренфеллу; в этой части рассматриваемой проблемы я только повторяю его аргументы и утверждения, почти ничего не прибавляя от себя. Я старался поддержать и своими слабыми силами дело, которое он уже так искусно защищал в парламенте и в котором, как я надеюсь, его дальнейшие выступления увенчаются успехом. Отдел первый. Причины, обусловливающие единообразие орудия обращения, обусловливают и его доброкачественность
Все, кто писал по вопросу о деньгах, согласны, что постоянство стоимости орудия обращения представляет в высшей степени желательную вещь; поэтому всякое улучшение, которое может способствовать продвижению к этой цели, уменьшая число причин изменений стоимости денег, должно быть принято. Но нет возможности выработать такой план, который сохранял бы за деньгами абсолютно неизменную стоимость, потому что стоимость денег будет всегда подвергаться тем же изменениям, каким подвергается стоимость товара, принятого за денежный стандарт. Пока драгоценные металлы продолжают оставаться стандартом нашего денежного обращения, деньги необходимо должны испытывать те же изменения в стоимости, что и эти металлы. Именно сравнительная устойчивость стоимости драгоценных металлов в течение относительно продолжительных периодов была, вероятно, причиной предпочтения, отдаваемого им во всех странах в качестве стандартной меры, которой измеряется стоимость других предметов. Только то денежное обращение может рассматриваться как совершенное, которое имеет неизменённую стандартную меру, никогда не отходит от неё и используется с осуществлением самой крайней экономии. В числе преимуществ бумажного обращения перед металлическим далеко не последним следует считать ту лёгкость, с которой могут быть изменены его размеры, когда этого требуют нужды торговли и временные условия; оно даёт возможность осуществить желательную цель - сохранять за деньгами, поскольку это вообще осуществимо, неизменную стоимость - верным и дешёвым способом. Количество металла, употребляемого в какой-либо стране, имеющей металлическое обращение, в качестве денег при совершении платежей, или количество металла, заместителем которого являются бумажные деньги, если последние употребляются в обращении частью или целиком, должно зависеть от трёх обстоятельств: во-первых, от стоимости металла, во-вторых, от суммы или стоимости платежей, подлежащих погашению, и, в-третьих, от степени экономии, осуществляемой при совершении этих платежей. Стране, где стандартом стоимости является золото, требуется по меньшей мере в 15 раз меньше этого металла, чем требовалось бы ей серебра, если бы она им пользовалась, и в 900 раз меньше, чем требовалось бы ей меди, если бы она употребляла медь; ведь стоимость золота относится к стоимости серебра, как 15 : 1, а к стоимости меди, как 900 : 1. Если бы наименование фунта стерлингов было дано определённому специфическому весу этих металлов, то в одном случае потребовалось бы в 15 раз больше этих фунтов, а в другом - в 900 раз, независимо от того, употреблялись ли бы в качестве денег сами металлы или же они были бы заменены частично или полностью бумажными деньгами. И если страна неизменно употребляет в качестве стандарта один и тот же металл, то требующееся ей количество денег будет находиться в обратном отношении к стоимости этого металла. Предположим, что этим металлом является серебро и что в силу возросшей трудности разработки рудников серебро удвоилось бы в стоимости, - в этом случае для использования его в качестве денег потребовалась бы только половина прежнего количества; но если бы всё денежное обращение осуществлялось при помощи бумажных денег, стандартом которых являлось бы серебро, то для поддержания их на уровне слитковой стоимости количество их также должно было бы быть уменьшено вдвое. Таким же путём можно показать, что если бы серебро снова стало дешевле в сравнении со всеми другими товарами, то потребовалось бы удвоенное количество его чтобы приводить в обращение то же самое количество товаров. Если в какой-нибудь стране число торговых сделок вырастает благодаря росту её богатства и промышленности, то при неизменной стоимости слитков и одинаковой экономии в использовании денег стоимость последних повысится в силу более интенсивного использования их; она будет неизменно оставаться выше стоимости слитков, если только количество денег не увеличится либо вследствие введения в обращение добавочных бумажных денег, либо благодаря покупке слитков для перечеканки их в монету. Больше товаров будет покупаться и продаваться, но по более низким ценам; таким образом, то же самое количество денег будет адекватно возросшему числу сделок, ибо деньги будут приниматься в каждой сделке по более высокой стоимости, Итак, стоимость денег не зависит целиком от их абсолютного количества, но от их количества по отношению к платежам, которые они должны совершать; одни и те же последствия будут обусловлены любой из двух следующих причин: увеличением степени использования денег на 1/10 или уменьшением на 1/10 же их количества; и в том и в другом случае стоимость их повысится на 1/10. Причиной увеличения количества денег при нормальном состоянии денежного обращения всегда является повышение их стоимости сравнительно со стоимостью слитков; только при таких условиях открывается возможность либо для выпуска дополнительного количества бумажных денег, что всегда приносит прибыль тем, кто их выпускает, либо для извлечения прибыли из отправки слитков, на Монетный двор для перечеканки их в монету. Сказать, что деньги имеют большую стоимость, чем слитки или принятый стандарт, значит сказать, что слитки продаются на рынке ниже монетной цены золота, поэтому слитки можно покупать, перечеканивать в монету и выпускать как деньги с прибылью, равной разнице между рыночной и монетной ценой золота. Монетная цена его равняется 3 ф. ст. 17 шилл. 10 1/2 пенс. Если же благодаря росту богатства покупается и продаётся большое количество товаров, то первым следствием этого будет повышение стоимости денег. Теперь не 3 ф. ст. 17 шилл. 10 1/2 пенс. металлических денег будут равны по стоимости унции золота, а 3 ф. ст. 15 шилл., поэтому на каждой унции золота, отправленной на Монетный двор для перечеканки в монету, можно получить прибыль в 2 шилл. 10 1/2 пенс. Однако это не может долго продолжаться, ибо добавочное количество денег, которое таким путём введено в обращение, понизит их стоимость; уменьшение же количества имеющихся на рынке слитков также имело бы тенденцией поднять стоимость их до уровня стоимости монеты; в силу одной или обеих этих причин полное равенство их стоимости не замедлило бы восстановиться. Итак, оказывается, что если бы увеличение размеров денежного обращения происходило за счёт монеты, то стоимость как слитков, так и денег была бы по крайней мере временно выше, чем прежде, даже и после того, как количество тех и других достигло бы прежнего уровня. Это обстоятельство, хотя оно часто и неизбежно, создаёт значительные неудобства, влияя на все прежде заключённые договоры. Но от этих неудобств можно полностью избавиться путём выпуска бумажных денег; поскольку тогда не будет возникать добавочный спрос на слитки, их стоимость будет оставаться неизменной, стоимость же новых бумажных денег, так же как и старых, будет соответствовать стоимости слитков. Следовательно, кроме всех других преимуществ, какие даёт употребление бумажных денег, надлежащее регулирование их количества обеспечивает неизменность стоимости средств обращения, в которых совершаются все платежи, в такой степени, какая не может быть достигнута никакими другими средствами. Поскольку стоимость денег и сумма платежей остаются без изменения, количество требующихся денег должно зависеть от степени экономии, осуществляемой в их использовании. Если платежи производятся чеками на банкиров, то деньги лишь списываются с одного счёта и приписываются к другому, причём размеры таких операций могут составлять ежедневно миллионы, банкнот же или монеты употребляется тогда очень мало или совсем не употребляется; но если это не так, то денег потребуется значительно больше, или, что то же самое по своим последствиям, то же количество денег будет обращаться по значительно возросшей стоимости и будет поэтому адекватно дополнительной сумме платежей. Итак, всякий раз, когда купцы перестают питать доверие друг к другу и воздерживаются от сделок в кредит или принятия в уплату чеков, банкнот или векселей, возникает большой спрос на деньги, всё равно, бумажные или металлические. Преимущество бумажно-денежного обращения, если оно установлено на правильных началах, состоит в том, что добавочное количество бумажных денег может быть быстро введено в обращение, не вызывая какого-нибудь изменения в стоимости всех обращающихся денег по сравнению со слитками или с каким-нибудь другим товаром. При системе же металлического обращения добавочное количество денег не может быть введено в обращение так быстро; когда же оно в конце концов налицо, то стоимость всех находящихся в обращений денег, а также и слитков, уже повышена. Отдел второй. Использование какого-нибудь товара в качестве стандарта стоимости. - Рассмотрение возражений против такой возможности
Во время недавней дискуссии по вопросу о слитках совершенно справедливо утверждали, что, для того чтобы деньги были вполне совершенным орудием обращения, они должны обладать абсолютно неизменной стоимостью. Но, кроме того, говорили также, что наши деньги стали таким орудием благодаря закону о приостановке размена, так как с помощью этого закона мы мудро разжаловали золото и серебро как стандарт наших денег. Указывали также, что изменение стоимости банкноты в 1 ф. ст. в зависимости от изменения стоимости определённого количества золота было на деле, да и должно было быть не большим, чем в зависимости от изменения стоимости всякого другого товара. Идея денежного обращения без специфической стандартной меры была, мне кажется, впервые выдвинута сэром Джемсом Стюартом <работы сэра Джемса Стюарта по вопросу о монете и деньгах весьма поучительны; приходится поэтому удивляться, что он мог разделять вышеуказанное мнение, находящееся в таком прямом противоречии с общими началами, которые он пытался установить>, но никто не смог ещё до сих пор предложить какой-нибудь критерий, с помощью которого мы могли бы удостоверить неизменность стоимости таких денег. Те, кто поддерживал это мнение, но видели, что стоимость таких денег не только не была бы неизменной, но была бы, наоборот, подвержена величайшим колебаниям; они не видели также, что единственной целью введения постоянного стандарта стоимости является регулирование количества, а тем самым и стоимости средств обращения и что без такого стандарта они испытывали бы все колебания, на которые их осудили бы невежество или интересы тех, кто их выпускает. Указывали, правда, что о стоимости средств обращения можно судить не по отношению её к стоимости одного товара, а к стоимостям массы товаров. Но допустим, хотя такое допущение и невозможно, что эмиссионеры бумажных денег согласны регулировать количество обращающихся денег при помощи такого критерия. Они, однако, не имели бы всё же возможности сделать это; вспомним, что товары постоянно изменяются в стоимости по отношению друг к другу и что при наличии такого изменения невозможно установить, какой товар увеличился в стоимости, какой уменьшился; нужно, следовательно, признать, что предлагаемый критерий совершенно бесполезен. Стоимость некоторых товаров повышается в результате налогового обложения, редкости сырого материала, из которого они выделываются, или в силу каких-либо других причин, увеличивающих трудность их производства. Наоборот, стоимость других уменьшается вследствие усовершенствования машин, лучшего разделения труда, более высокого искусства рабочего, большего изобилия сырого материала и вообще большей лёгкости производства. Чтобы определить стоимость обращающихся денег при помощи предложенного критерия, было бы необходимо сравнить её последовательно со стоимостью тысяч товаров, обращающихся в обществе, учитывая действие, которое могло быть произведено на стоимость каждого из них вышеуказанными причинами. Сделать это, очевидно, невозможно. Предположение, что рассматриваемый критерий был бы полезен на практике, возникает в силу непонимания разницы между ценой и стоимостью. Цена товара - это его меновая стоимость, выраженная только в деньгах. Стоимость же товара измеряется количеством всех других вещей, на которые он обычно обменивается. Цена товара может подняться, в то время как стоимость его падает, и vice versa. Цена шляпы может повыситься с 20 до 30 шилл., но на 30 шилл. нельзя получить столько чая, сахара, кофе и всяких других вещей, сколько их можно было получить прежде на 20 шилл., следовательно, нельзя их получить столько за шляпу. Таким образом, стоимость шляпы понизилась, хотя цена её повысилась. Нет ничего легче, как установить изменение цены, нет ничего труднее, как установить изменение стоимости; ясно, что без неизменной меры стоимости, а такой не существует, невозможно установить с какой-либо достоверностью или точностью изменение стоимости. Шляпа может обмениваться на меньшее количество чая, сахара и кофе, чем прежде, но в то же самое время она может обмениваться на большее количество металлических изделий, обуви, чулок и т. д. Разница же в сравнительной стоимости этих товаров может возникнуть либо при неизменной стоимости одного из них и увеличении, хотя и в различной степени, стоимости двух других, либо при неизменной стоимости первого и понижении стоимости двух других, либо, наконец, при одновременном изменении стоимости всех трёх товаров. Если мы говорим, что стоимость должна измеряться удовлетворением, которое собственник товара может получить благодаря обмену его, то мы так же мало в состоянии измерить стоимость, ибо два человека могут извлечь очень различные степени удовлетворения из владения одним и тем же товаром. В вышеуказанном примере стоимость шляпы покажется упавшей тому, кто получал удовлетворение от приобретения чая, кофе и сахара, и повысившейся тому, кто предпочитает получить обувь, чулки и металлические изделия. Итак, товары вообще не могут стать стандартом для регулирования количества и стоимости денег; хотя общепринятые стандарты, а именно золото и серебро, тоже имеют некоторые неудобства, порождаемые теми изменениями их стоимости, которым они подвергаются в качестве товаров, эти неудобства в действительности совершенно ничтожны в сравнении с теми, которые мы испытывали бы, если бы приняли рекомендуемый план. Когда золото, серебро и почти все другие товары поднялись в течение последних 20 лет в цене, то, вместо того чтобы объяснить это повышение, хотя бы частично, падением стоимости бумажных денег, защитники теории абстрактного денежного обращения всегда находили какое-нибудь другое достаточное основание для изменения цен. Золото и серебро поднялись в цене потому, что их было мало, а спрос на них был очень велик, так как надо было оплатить содержание колоссальных армий, тогда комплектовавшихся. Другие же товары повысились в цене потому, что они были обложены налогами непосредственно или косвенно, или потому, что благодаря ряду неурожайных лет и трудностям ввоза значительно повысилась стоимость хлеба, согласно же разбираемой теории это неизбежно должно повысить цены товаров. По мнению авторов этой теории, единственными вещами, стоимость которых не изменилась, были банкноты; последние являются поэтому исключительно пригодными для измерения стоимости всех других вещей. Если бы повышение цен составляло 100%, то и в этом случае можно было бы отрицать, что средства обращения имеют какое-либо отношение к этому повышению; оно могло бы опять-таки быть приписано тем же причинам. Аргумент этот, несомненно, надёжен, потому что его нельзя опровергнуть. Когда изменяется относительная стоимость двух товаров, нет возможности сказать с достоверностью, повысилась ли стоимость одного или упала стоимость другого, так что если бы мы ввели у себя деньги, не имеющие определённого стоимостного стандарта, то обесценению их не было бы никакого предела. Притом же обесценение и не могло бы быть доказано, так как всегда можно было бы утверждать, что товары повысились в стоимости, деньги же не понизились. Отдел третий. Стандарт стоимости денег и его несовершенства. - Падение стоимости денег ниже стандарта, не уравновешиваемое подъёмом её выше стандарта. - Последствия таких колебаний. - Соответствие стоимости бумажных денег стандарту обязательно
При наличии металлического денежного стандарта стоимость денег подвергается только таким изменениям, какие испытывает стандарт как таковой; но против таких изменений не существует никакого средства, и последние события показали, что в течение периодов войны, когда золото и серебро употребляются для содержания огромных армий вдали от родины, подобные изменения гораздо более значительны, чем это вообще допускалось. Само допущение показывает только, что золото и серебро не являются такой хорошей стандартной мерой стоимости, как это предполагалось до сих пор, ибо сами они подвергаются большим изменениям, чем это желательно по отношению к стандартной мере. И всё-таки они представляют лучший из всех известных нам стандартов. Если бы можно было найти какой-нибудь другой товар, стоимость которого менее изменчива, он мог бы по праву быть принят за будущий стандарт наших денег при условии, что он имел бы все другие качества, делающие его пригодным для этой цели. Но пока эти металлы остаются стандартом, обращающиеся деньги должны соответствовать ему в своей стоимости; каждый раз, когда такое соответствие нарушается и рыночная цена слитков подымается выше их монетной цены, деньги, находящиеся в обращении, обесцениваются. Это положение не встретило возражений и не может быть оспариваемо. Много неудобств проистекает от употребления в качестве стандарта наших денег двух металлов, поэтому в течение долгого времени люди спорили о том, какой из них - золото или серебро - закон должен объявить главным или единственным стандартом денег. В пользу золота можно сказать, что большая стоимость его при меньшем объёме делает его в высшей степени удобным стандартом в богатой стране; однако именно это качество подвергает его стоимость большим изменениям в периоды войны или широко распространяющегося нарушения коммерческого доверия; в такие периоды золото нередко собирается и накапливается в виде сокровища. Это обстоятельство может быть выдвинуто как аргумент против его употребления. Единственным возражением против применения серебра в качестве стандарта является его объём, который делает его непригодным для крупных платежей, требующихся в богатой стране; но это возражение полностью устраняется при замещении серебра бумажными деньгами как общим средством обращения страны. Серебро к тому же имеет более постоянную стоимость вследствие того, что и спрос на него и предложение его более регулярны; поскольку же все чужие страны регулируют стоимость своих денег стоимостью серебра, совершенно несомненно, что в качестве стандарта серебро в общем предпочтительнее золота и должно постоянно применяться для этой цели. Можно, быть может, представить себе лучшую систему денежного обращения, чем та, которая существовала у нас до издания последних законов, сделавших банкноты законным платёжным средством; однако, до тех пор пока закон признавал определённый стандарт стоимости денег, пока Монетный двор был открыт всякому, кто приносил туда золото и серебро для перечеканки в монету, предел падения стоимости денег определялся только падением стоимости драгоценных металлов. Если бы золото сделалось так же изобильно и дёшево, как медь, банкноты неизбежно обесценились бы в той же мере, и все те, чья собственность состоит целиком из денег, - как, например, держатели билетов казначейства, лица, учитывающие купеческие векселя, держатели государственных фондов или владельцы ипотек, получающие все свои доходы от аннуитетов, и многие другие, - испытывали бы все бедствия обесценения. Будет ли тогда справедливо утверждать, что при повышении стоимости золота и серебра стоимость денег должна быть удержана на прежнем уровне принудительным путём с помощью аппарата законодательства, тогда как для предупреждения падения стоимости денег при падении стоимости золота и серебра не принимаются и никогда не принимались какие-нибудь меры? Раз владелец денег подвергается всем неудобствам, связанным с падением стоимости его собственности, то он должен также пользоваться выгодами от повышения её стоимости. Если бумажно-денежное обращение без стоимостного стандарта представляет улучшение, то следует доказать, что это так, и отказаться тогда от стандарта; но нельзя сохранять такое бумажное обращение только в ущерб и никогда к выгоде класса лиц, владеющих одним из тысяч обращающихся в обществе товаров, из которых, кроме денег, ни один не подчинён подобной необходимости. Лица, имеющие право выпуска бумажных денег, должны регулировать свои эмиссии, руководствуясь исключительно ценой слитков, а не количеством выпущенных ими в обращение бумажных денег. Это количество не может быть ни слишком велико, ни слишком мало до тех пор, пока деньги сохраняют такую же стоимость, какую имеет принятый стандарт. Деньги должны, наоборот, стоить скорее больше, чем слитки, ибо это дало бы компенсацию за маленькую отсрочку, длящуюся до возвращения денег на Монетный двор в обмен на слитки. Эта отсрочка эквивалентна незначительной пошлине за чеканку; чеканные же деньги или банкноты, представляющие их, должны быть в своём естественном и совершенном состоянии ровно настолько же дороже слитков. Английский банк терпел в прежнее время значительные потери, потому что не обращал должного внимания на этот принцип. Он снабжал страну всей необходимой для неё чеканной монетой и, следовательно, покупал на свои банкноты слитки, чтобы отправлять их на Монетный двор для перечеканки. Если бы, ограничивая количество банкнот, он удерживал их на несколько более высоком уровне стоимости, чем стоимость слитков, то благодаря дешевизне своих закупок он покрывал бы все расходы по куртажу и очистке металла, включая справедливое вознаграждение за отсрочку на Монетном дворе. Отдел четвертый. Способ довести английское денежное обращение до возможного совершенства
В ближайшую сессию парламента снова будет обсуждаться вопрос о денежном обращении. Вероятно, тогда будет установлен срок для возобновления платежей звонкой монетой, а это заставит Английский банк уменьшить количество выпускаемых бумажных денег до такого предела, при котором стоимость их будет соответствовать стоимости слитков. Хорошо регулируемое денежное обращение является огромным усовершенствованием в торговых сношениях, и я очень сожалел бы, если бы предрассудки побудили нас вернуться к менее полезной системе. Введение драгоценных металлов в качестве денег можно поистине рассматривать как один из наиболее важных шагов в деле усовершенствования торговли и ремёсел цивилизованной жизни; но не менее верно также, что с развитием знания и науки мы делаем новое открытие: изгнание драгоценных металлов из той области, где они использовались с такой выгодой в течение менее просвещённого периода, является дальнейшим усовершенствованием. Если бы Английский банк был снова призван оплачивать свои банкноты звонкой монетой, то последствием этого было бы значительное уменьшение прибыли банка без соответственного выигрыша для какой-либо другой части общества. Если бы те, кто пользуется банкнотами достоинством в 1, 2 или даже 5 ф. ст., могли бы пользоваться вместо них по желанию гинеями, то нет никакого сомнения в том, что именно они предпочли бы; таким образом, чтобы удовлетворить простую прихоть, весьма дорогое средство обращения заменило бы менее ценное. Наряду с потерями Английского банка, которые должны рассматриваться как потери для общества, так как общее богатство (wealth) составляется из индивидуальных богатств (riches), государство должно было бы производить бесполезные расходы на чеканку, и при всяком падении вексельного курса гинеи переплавлялись бы и вывозились. Оградить население от всяких других изменений стоимости денег, кроме тех, которым подвергается стандартный денежный материал, и в то же время удовлетворять впредь нужды обращения с помощью наименее дорогого средства его - значит довести наше денежное обращение до последней степени совершенства. Мы пользовались бы всеми выгодами такого совершенного денежного обращения, если бы на Английский банк была возложена обязанность выдавать в обмен на банкноты не гинеи, а слитки золота или серебра установленной Монетным двором пробы и цены. Благодаря этому падение курса банкнот ниже стоимости слитков сопровождалось бы немедленным ограничением их количества. Чтобы предупредить повышение цены банкнот выше стоимости слитков, следовало бы также обязать банк выдавать банкноты в обмен на золото стандартной пробы по цене в 3 ф. ст. 17 шилл. за унцию. Чтобы избавить банк от всякой лишней работы, количество золота, которое может быть истребовано в обмен на банкноты по монетной цене, т. е. по 3 ф. ст. 17 шилл. 10 1/2 пенс. за унцию, или количество золота, которое может быть продано банку по цене в 3 ф. ст. 17 шилл., не должно быть меньше 20 унций. Другими словами, Английский банк был бы обязан покупать любое количество предлагаемого ему золота, если оно не меньше 20 унций, по 3 ф. ст. 17 шилл. за унцию <цена в 3 ф. ст. 17 шилл., о которой говорится в тексте, - конечно, цена произвольная. Можно было бы, пожалуй, привести доводы в пользу небольшого повышения или понижения её. Назвав цену в 3 ф. ст. 17 шилл., я хотел только дать иллюстрацию к общему положению. Цена должна быть фиксирована таким образом, чтобы продавец золота предпочел скорее продать его Английскому банку, чем отправить на Монетный двор для чеканки. То же самое замечание относится и к выбранному мною минимуму в 20 унций. Могут найтись основания для установления минимума в 10 или 30 унций> и продавать любое количество его, какое у него могли бы потребовать, по 3 ф. ст. 17 шилл. 10 1/2 пенс. за унцию. Так как Английский банк имеет возможность регулировать количество своих банкнот, он не будет испытывать никаких неудобств вследствие этого постановления. Самая полная свобода должна быть предоставлена в то же время для вывоза и ввоза всякого рода слитков. Операции со слитками были бы очень немногочисленны, если бы Английский банк регулировал свои ссуды и эмиссии, руководствуясь критерием, о котором я так часто упоминал, а именно ценой слитков стандартной пробы, и не считаясь с абсолютным количеством банкнот, находящихся в обращении <я уже отметил, что, по моему мнению, серебро является самым лучшим стандартом наших денег. Если бы закон признал его таковым, Английский банк был бы обязан покупать или продавать только серебряные слитки. Если бы денежным стандартом было исключительно золото, Английский банк должен был бы продавать и покупать только золото; но если оба металла продолжают считаться стандартами, каковыми они и являются в настоящее время по закону, то Английский банк должен был бы иметь право решать, какой металл он будет давать в обмен на свои банкноты; на серебро же следовало бы установить цену несколько ниже той, по которой он не имел бы права отказываться от покупки серебра>. Цель, которую я имею в виду, была бы в значительной степени достигнута, если бы Английский банк был обязан выдавать в обмен на предъявляемые ему банкноты слитки установленной цены и пробы, хотя в то же время он не был бы обязан покупать любое количество предлагаемых ему слитков по определённой цене, особенно если Монетный двор оставался бы открытым для чеканки монеты по требованию частных лиц; ведь предлагаемая мною мера ставит себе лишь одну цель: устранить отклонения стоимости денег от стоимости слитков больше, чем на ничтожную разницу между ценами, по которым Английский банк продавал и покупал бы золото. Она приблизила бы нас, таким образом, к тому постоянству стоимости денег, которое считается столь желательным. Если бы Английский банк сократил произвольно количество своих банкнот, стоимость их повысилась бы и золото, повидимому, понизилось бы в своей стоимости ниже того уровня, по которому Английский банк должен был покупать его согласно моему предложению. В этом случае золото могло бы быть отправлено на Монетный двор. Превратившись в монету и будучи введено в обращение, оно понизило бы стоимость денег, и последняя снова соответствовала бы установленному уровню. Всё это сопровождалось бы большим риском, стоило бы дороже и совершилось бы не так легко, как с помощью предложенного мною способа, против которого Английский банк ничего не может возразить, так как ему гораздо выгоднее снабжать обращение банкнотами, чем обязать других снабжать его монетой. При такой системе и таком регулировании денежного обращения Английский банк никогда не испытывал бы никаких затруднений, кроме тех, которые возникают при чрезвычайных условиях, когда паника охватывает всю страну и каждый стремится иметь драгоценные металлы, как наилучшее орудие для реализации или сокрытия своего имущества. Против такой паники банки не имеют гарантии ни при какой системе. Они подвержены ей по самой своей природе, так как ни в Английском банке, ни в стране никогда не может быть такого количества металлических денег или слитков, какое имеют право потребовать владельцы денег данной страны. Если бы все они в один и тот же день истребовали свои вклады у банкиров, то даже в несколько раз большее количество банкнот, чем то, которое находится теперь в обращении, оказалось бы недостаточным для удовлетворения этих требований. Именно паника такого рода явилась причиной кризиса 1797 г., а не, как предполагали некоторые, большие ссуды, которые Английский банк тогда выдал правительству. Ни Английский банк, ни правительство не заслуживали в то время порицания. Неосновательные опасения пугливой части общества распространились с быстротой эпидемии и вызвали натиск на этот банк. Этот натиск всё равно имел бы место, если бы даже Английский банк не выдавал никаких ссуд правительству и имел вдвое больший капитал. Если бы Английский банк продолжал платить звонкой монетой, то паника, вероятно, улеглась бы раньше, чем истощилась его металлическая наличность. Если принять во внимание те взгляды, которыми руководствовались директора Английского банка при выпуске бумажных денег, то следует признать, что они пользовались своими полномочиями довольно сдержанно. Они, очевидно, применяли свои собственные принципы с величайшей осторожностью. В силу существующих законов они имеют право без какого-либо контроля увеличить или уменьшить размеры денежного обращения во сколько им угодно раз, право, которое не должно быть предоставлено ни государству, ни кому-либо в государстве; если увеличение или уменьшение количества обращающихся денег зависит только от воли тех, кто имеет право выпуска их, то исчезает всякая гарантия постоянства их стоимости. Что Английский банк имеет возможность сократить обращение до минимальных размеров, не будут отрицать даже те, кто вместе с директорами его считает, что последние не имеют власти бесконечно увеличивать количество обращающихся денег. Лично я вполне убеждён, что Английский банк не желал, да и не имел никакой выгоды воспользоваться своей властью в ущерб интересам публики; однако, представляя себе те вредные последствия, которые могут быть вызваны внезапным и сильным сокращением обращения, а равно и сильным расширением его, я не могу не отнестись с порицанием к той лёгкости, с какой государство вооружило этот банк такой страшной прерогативой. Неудобства, которым подвергались провинциальные банки до приостановки размена банкнот, должны были быть временами очень велики. Во все тревожные моменты или в период ожидания тревоги они были вынуждены скапливать гинеи, чтобы быть готовыми ко всяким могущим возникнуть требованиям. В таких случаях провинциальные банки получали гинеи у Английского банка в обмен на крупные банкноты и поручали их доставку в провинцию за свой счёт и риск какому-нибудь доверенному агенту. Выполнив функцию, для которой они предназначались, гинеи возвращались обратно в Лондон и, по всей вероятности, опять попадали в Английский банк, если только они не испытывали такой потери в весе, которая ставила их ниже законного стандарта. Если бы предлагаемый нами план оплаты банкнот слитками был принят, то необходимо было бы или распространить ту же самую привилегию на провинциальные банки, или сделать банкноты Английского банка законным платёжным средством. В последнем случае не требовалось бы никакого изменения в законодательстве о провинциальных банках, так как они были бы обязаны, точно так же как и теперь, выдавать по востребованию банкноты Английского банка, в обмен за свои. Экономия, которая получалась бы вследствие этого, была бы очень значительна: гинеи не теряли бы части своего веса от трения, которому они подвергаются во время своих беспрерывных странствований, а, кроме того, были бы сбережены расходы по их пересылке. Но гораздо большие выгоды дало бы снабжение денежного обращения как в провинции, так и в Лондоне, особенно поскольку речь идёт о мелких платежах, таким дешёвым орудием его, как бумага, вместо дорогостоящего золота. Таким образом, страна получила бы прибыль, какую можно было бы извлечь при производительном использовании капитала, равного всей сбережённой сумме. И мы, конечно, не имели бы никакого основания отказаться от такой безусловной выгоды, если бы только нам не были указаны какие-нибудь специфические неудобства, которыми могло бы сопровождаться пользование более дешёвым орудием обращения. Много и дельно писали у нас о выгодах, которые даёт стране свобода торговли, предоставляющая каждому человеку возможность использовать свои таланты и свой капитал, как ему кажется лучшим, не будучи стеснённым никакими запретами. Аргументация, выдвигаемая в защиту свободы торговли, настолько неотразима, что она с каждым днём завоёвывает всё новых последователей. Я с удовольствием наблюдаю продвижение этого великого принципа в той среде, где можно было ожидать самой упорной приверженности к старым предрассудкам. В представленных парламенту петициях об отмене хлебных законов выгоды ничем не ограниченной свободы торговли были признаны вообще всеми. Никто, однако, не сделал этого так хорошо, как суконщики из Глостершира; убеждение их в нецелесообразности ограничений так велико, что они выразили готовность отказаться от всяких ограничений, могущих иметь место по отношению к их промышленности. Это - принципы, которым можно только желать самого широкого распространения и самого всеобщего применения на практике. Если, однако, чужеземные народы недостаточно просвещены, чтобы принять эту либеральную систему, и захотят попрежнему сохранять свои запрещения и чрезмерные пошлины на ввоз наших товаров и фабрикатов, то пусть Англия подаст им хороший пример, воспользовавшись сама выгодами свободной торговли; вместо того чтобы отвечать на их запрещения такими же стеснениями, пусть она как можно скорее избавится от всяких следов нелепой и вредной политики. Денежная выгода, которая явилась бы результатом свободной торговли, очень скоро склонила бы другие государства ввести ту же систему; пройдёт немного времени, и все увидят, что путь ко всеобщему процветанию - это возможность для каждой страны найти естественным путём наиболее выгодное применение для её капитала, её талантов и её трудолюбия. Но как бы выгодна ни оказалась свобода торговли, приходится допустить, что имеются некоторые - очень немногочисленные - исключения, когда вмешательство правительства может принести благодетельные последствия. Г-н Сэй, показав в своём прекрасном труде по политической экономии все выгоды свободы торговли, замечает <"Economie politique", livre 1, ch. 17>, что вмешательство государства оправдывается только в двух случаях: во-первых, для предупреждения обмана и, во-вторых, для удостоверения факта. Если дело касается испытаний, которым должны подвергаться практикующие врачи, то вмешательство государства отнюдь не является неуместным, ибо для благополучия народа необходимо, чтобы факт приобретения этими врачами известной суммы знаний о болезнях человеческого тела был установлен и удостоверен. То же самое может быть сказано о пробе, пометку о которой правительство делает на изделиях из драгоценных металлов и на монете; оно таким образом предупреждает обман и избавляет от необходимости производить при каждой покупке и продаже сложный химический процесс. Та же самая цель имеется в виду при проверке чистоты лекарств, продаваемых дрогистами и аптекарями. Во всех этих случаях предполагается, что покупатели не имеют или не могут приобрести достаточные знания для предохранения себя от обмана; правительство вмешивается, чтобы сделать за них то, чего они не в состоянии сделать сами для себя. Но если общество нуждается в защите против плохой монеты, которая может быть навязана ему при незаконной примеси лигатуры, т. е. в защите, которая при употреблении металлических денег даётся правительственной пометкой о пробе, то во сколько раз более необходима такая защита, когда бумажные деньги образуют всю, или почти всю, совокупность средств обращения данной страны? Разве со стороны правительства не непоследовательно использовать свою власть для защиты общества от потери 1 шилл. в гинее и ничего не предпринимать для защиты его от потери всех 20 шилл. в банкноте достоинством в 1 ф. ст.? Для банкнот, выпускаемых Английским банком, правительством даётся гарантия, так что весь капитал банка, составляющий свыше 11 1/2 млн. ф. ст., должен будет погибнуть раньше, чем держатели его банкнот пострадают от неосторожности, которую он может совершить. Почему тот же принцип не применяется по отношению к провинциальным банкам? Какое возражение может быть сделано против предъявления тем, кто берёт на себя обязательство снабжать публику средствами обращения, требования представить правительству адекватное обеспечение выполнения взятых ими на себя обязанностей? Поскольку люди пользуются деньгами, все они являются участниками торговли; те, чьи привычки и занятия мало приспособлены для изучения механизма торговли, вынуждены всё же пользоваться деньгами, хотя они совершенно не умеют установить солидность различных банков, банкноты которых находятся в обращении. Таким образом, мы видим, что люди, имеющие ограниченный доход, - женщины, рабочие и ремесленники всякого рода, - несут часто тяжёлые потери от банкротств провинциальных банков, ставших в последнее время более частыми, чем когда-либо прежде. Я отнюдь не намереваюсь судить с пристрастием тех, кто причинил столько разорения и нужды средним и низшим классам народа; однако и самые снисходительные люди должны признать, что в обычной банковской практике неизбежно допускается очень много злоупотреблений, раньше чем банк, обладающий даже весьма умеренными фондами, вынужден отказаться от выполнения своих обязательств; для большинства такого рода банкротств можно, я думаю, установить, что их участники виновны в преступлениях гораздо более тяжёлых, чем простое неблагоразумие и неосторожность. Против этих-то неудобств и надо защитить общество, требуя от каждого провинциального банка вручения правительству или назначенным для этой цели особым уполномоченным депозита, состоящего из билетов государственного займа или других правительственных обязательств и находящегося в определённом отношении к сумме эмиссий данного банка. Нет никакой необходимости слишком подробно входить во все детали этого плана. Штемпельные марки могут выдаваться на сумму выпускаемых банкнот, как только внесён требуемый депозит; в течение года могут быть установлены определённые сроки, когда всё обеспечение или часть его возвращается банку, если он докажет путём ли возвращения погашенных штемпельных марок или каким-либо иным удовлетворительным способом, что банкноты, на которые обеспечение было выдано, не находятся уже больше в обращении. Ни один солидный провинциальный банк не станет возражать против такой регламентации; напротив, она, по всей вероятности, будет для него в высшей степени желательна, так как устранит конкуренцию тех, кто имеет в настоящее время так мало оснований выступать против него на рынке. Отдел пятый. Обычаи, создающие большое количество неудобств для торговли. - Средства, предлагаемые против них
Однако и после всех усовершенствований, какие можно осуществить в нашей системе денежного обращения, остаётся всё же одно временное неудобство, которое публика будет испытывать, как это было и до сих пор, при больших выплатах дивидендов государственным кредиторам, производимых раз в три месяца, - неудобство, которое часто давало себя сильно чувствовать и против которого, по моему мнению, легко найти средство. Национальный долг принял такие колоссальные размеры и проценты, которые выплачиваются по этому долгу раз в три месяца, составляют такую большую сумму, что одна только приёмка денег от главных сборщиков налогов и последующее уменьшение количества денег в обращении как раз в периоды, предшествующие выплате процентов по государственному займу, в январе, апреле, июле и октябре, порождают на неделю или больше самую острую нужду в средствах обращения. Благодаря разумным мероприятиям и, по всей вероятности, неограниченному учёту векселей как раз в то время, когда эти деньги поступают в казначейство, и принятию мер для получения значительных сумм сейчас же после выплаты дивидендов Английский банк, несомненно, значительно уменьшил неудобства для торговой части общества. Несмотря на это, все, кто знаком с денежным рынком, хорошо знают, что в упомянутые мною периоды чувствуется крайне острая нужда в деньгах. Билеты казначейства, которые обыкновенно продаются с премией в 5 шилл. на 100 ф. ст., продаются в такое время настолько ниже их номинальной цены, что путём покупки их и перепродажи после выплаты дивидендов можно получить прибыль в размере 15-20% . Далее разница между ценою билетов государственного займа за наличные и ценою их при уплате через неделю или две доставляет в это время людям, могущим ссудить деньги, прибыль, превосходящую даже прибыль, получаемую от вложения денег в покупку билетов казначейства. Эта острая нужда в деньгах часто сменяется после выплаты дивидендов таким же большим изобилием, так что в течение некоторого времени деньги эти трудно использовать. Весьма высокое совершенство, которого достигла наша система экономии в употреблении денег, благодаря различным банковским операциям, скорее усугубляет специфическое зло, о котором я говорю, ибо при сокращении количества находящихся в обращении денег в результате усовершенствованных способов производства наших платежей извлечение 1 или 2 млн. ф. ст. из этой сокращённой суммы становится гораздо более серьёзным по своим последствиям, так как составляет большую долю всей совокупности обращающихся денег. Никаких разногласий не может, я полагаю, существовать по вопросу о неудобствах, которым подвергаются промышленность и торговля вследствие такой периодической нужды в деньгах. Но такое единодушие не будет, может быть, иметь места по отношению к средству, которое я хочу теперь предложить. Пусть Английский банк будет уполномочен правительством выдавать владельцам билетов государственного займа дивидендные свидетельства за несколько дней до того, как главные сборщики налогов обязаны будут произвести уплату по своим балансам в казначейство. Пусть эти свидетельства будут оплачиваться по предъявлении совершенно так же, как теперь. Пусть день оплаты этих дивидендных свидетельств банкнотами устанавливается совершенно так же, как и в настоящее время. Если бы день оплаты мог быть назначен при самой выдаче дивидендных свидетельств или до неё, это было бы гораздо удобнее. Наконец, пусть эти свидетельства принимаются в казначействе от главных сборщиков налогов или от всякого другого лица, которое должно произвести платежи в казначействе, точно так же как принимаются банкноты; лица же, расплачивающиеся этими свидетельствами, должны соглашаться на учёт их за то число дней, которое пройдёт прежде, чем наступит срок платежа по ним. Если бы такой план был принят, то не могло бы ощущаться ни особого недостатка в деньгах до выплаты дивидендов, ни особенного изобилия их после неё. Количество денег, находящихся в обращении, не подвергалось бы ни увеличению, ни уменьшению в связи с выплатой дивидендов. Благодаря стимулу личной заинтересованности значительная часть этих свидетельств неминуемо попала бы в руки тех, кто должен производить платежи в казну, а от них - в казначейство. Таким образом, значительная часть платежей правительству и платежей правительства по государственным займам производилась бы без вмешательства банкнот или денег, и нужда в деньгах для этих целей, так жестоко ощущаемая теперь торговыми классами, действительно предупреждалась бы. Те, кто хорошо знаком с системой экономии, принятой теперь в Лондоне всеми банками, легко поймут, что предложенный здесь план представляет собой только распространение этой системы экономии на группы платежей, к которым она до сих пор не применялась. Для них было бы совершенно излишним приводить ещё дальнейшие аргументы в пользу плана, с выгодами которого при других банковских операциях они уже хорошо знакомы. Отдел шестой. Услуги, оказываемые Английским банком государству, оплачиваются чрезмерно высоко. - Средство, предлагаемое против этой переплаты
Г-н Гренфелл привлёк недавно внимание парламента к вопросу, имеющему большое значение для финансовых интересов общества. В эпоху, когда налоги, вызванные беспримерными трудностями и расходами войны, ложатся таким тяжёлым бременем на народ, столь явный источник, как указанный им, наверное, не останется в пренебрежении. Из документов, приложенных к предложениям, сделанным г-ном Гренфеллом в парламенте, явствует, что Английский банк имел в своём распоряжении в течение многих лет сумму государственных денег в среднем не меньшую, чем 11 млн. ф. ст., на которую он получал 5%. Единственным вознаграждением, полученным государством за выгоды, извлекаемые так долго Английским банком из его средств, был заём в 3 млн. ф. ст. на срок с 1806 по 1814 г., т. е. на восьмилетний период, из 3% и дальнейший заём в 3 млн. ф. ст., беспроцентный; Английский банк согласился предоставить последний государству в 1808 г. до истечения шестимесячного срока со дня заключения окончательного мирного договора, а в силу акта, принятого во время последней сессии парламента, он был продлён, оставаясь беспроцентным, до апреля 1816 г. С 1806 до 1816 г., в течение десятилетнего периода, Английский банк получал барыш в 5% ежегодно на 11 млн. ф. ст., что
Итак, Английский банк получил за 10 лет 3 820 тыс. ф. ст., или по 382 тыс. ф. ст. в год, состоя банкиром государства, тогда как все расходы, с которыми связана деятельность соответствующего отделения банка, не превосходят 10 тыс. ф. ст. в год. В 1807 г., когда эти выгоды были впервые отмечены Комитетом палаты общин, многие сторонники Английского банка, а также г-н Торнтон, один из директоров банка, который был тогда управляющим его, указывали, что барыши банка находятся в соответствии с количеством его банкнот, находящихся в обращении, и что из государственных депозитов банк не извлекал никакой выгоды, кроме лишь возможности удерживать в обращении более значительное количество банкнот. Это заблуждение было полностью разоблачено Комитетом. Если бы аргумент г-на Торнтона был правилен, то Английский банк вообще не извлекал бы никакой выгоды из депозитов государственных сумм, так как эти депозиты не дают ему возможности удерживать в обращении более значительное количество банкнот. Предположим, что до поступления в Английский банк каких бы то ни было государственных депозитов сумма его банкнот, находившихся в обращении, составляла 25 млн. ф. ст. и что из обращения их банк извлекал прибыль. Предположим далее, что правительство получило 10 млн. ф. ст. налогов банкнотами и депонировало их в Английский банк в форме бессрочного вклада. Количество обращающихся банкнот немедленно понизилось бы до 15 млн. ф. ст., но прибыль банка оставалась бы точно такой же, как и раньше. Хотя теперь в обращении находилось бы только 15 млн. ф. ст., банк получал бы прибыль с 25 млн. Но если бы он снова увеличил после этого размеры обращения до 25 млн. ф. ст., затратив 10 млн. на учёт векселей, на покупку билетов казначейства или авансируя на год платежи по займам держателей временных заёмных свидетельств, то разве он не прибавил бы к своим обычным прибылям проценты с 10 млн. ф. ст. даже при условии, что количество выпущенных им в обращение банкнот не было бы ни разу поднято выше 25 млн.? Утверждение, что рост суммы государственных вкладов даёт Английскому банку возможность увеличить количество его банкнот, находящихся в обращении, не подтверждается ни теорией, ни опытом. Если мы посмотрим, как совершался рост таких вкладов, то увидим, что никогда он не был так значителен, как в период с 1800 по 1806 г., а между тем за это время количество находившихся в обращении банкнот в 5 ф. ст. и выше совершенно не увеличилось. Напротив, с 1807 по 1815 г., когда сумма правительственных вкладов нисколько не возросла, количество банкнот в 5 ф. ст. и выше увеличилось на 5 млн. ф. ст. Ничто не может дать такого полного представления о прибылях Английского банка, получаемых им от правительственных вкладов, как доклад, представленный Комитетом государственных расходов в 1807 г. В докладе говорится: "В показаниях, относящихся к этой части вопроса, признаётся, что банкноты, выпускаемые Английским банком, дают прибыль, но, повидимому, предполагается, что правительственные вклады приносят её лишь постольку, поскольку они имеют тенденцию увеличивать количество банкнот; ваш же Комитет вполне убеждён, что как вклады, так и банкноты одинаково дают и обязательно должны давать прибыль. Фонды банка, представляющие собой источники прибыли и являющиеся мерой суммы, которую он может ссужать (за одним только вычетом: по счёту наличности и слитков), могут быть подразделены на три рубрики. Во-первых, сумма, полученная от владельцев банка в качестве капитала, вместе с прибавленными к нему сбережениями. Во-вторых, сумма, полученная от лиц, держащих свою наличность в банке. Эта сумма состоит из балансов счетов по вкладам как правительства, так и частных лиц. В 1797 г. этот фонд со включением всех балансов частных лиц составлял всего 5 130 140 ф. ст., а одни только правительственные вклады составляют уже в настоящее время сумму в 11-12 млн. ф. ст., включая банкноты, депонированные в казначейство <некоторые из моих читателей могут не так понять слова "включая банкноты, депонированные в казначейство". Это - банкноты, которые никогда не пускаются в обращение, они также не включаются никогда в представляемые банком отчёты. Они называются в казначействе специальными банкнотами и представляют простые свидетельства (даже не имеющие формы банкнот) об уплате банку казначейством денег, которые ежедневно получаются в последнем учреждении. Они представляют, следовательно, документ на часть правительственных вкладов, помещённых в Английском банке>. В-третьих, сумма, получаемая взамен банкнот, пущенных в обращение. Первоначально за каждую банкноту должны были давать соответствующую стоимость, и эта стоимость, получаемая, таким образом, за банкноты, составляет часть общего фонда, отдаваемого взаймы под проценты. Держатель банкноты ничем не отличается по существу от лица, которому банк должен по балансу его счёта. Оба они являются кредиторами банка: один из них владеет банкнотой, которая представляет свидетельство о долге, причитающемся ему, другой имеет свидетельство о внесении вклада в банк. Вся сумма, постоянно отдаваемая в долг под проценты, должна находиться в точном соответствии с общей суммой всех трёх фондов за вычетом стоимости наличности и слитков". <В 1797 г. Английский банк определял состояние своего баланса следующим образом:
На обороте отчёта банк показал, в каких обязательствах были инвестированы эти фонды. За исключением наличности и слитков, а также небольшой суммы в штемпельных марках все они приносили банку проценты и прибыль.> Каждое слово этого заявления, по моему мнению, неопровержимо, и принцип, сформулированный Комитетом, дал бы нам непогрешимый ключ к определению чистой прибыли Английского банка, если бы мы знали сумму его сбережений, - его наличность, его слитки, его ежегодные расходы, а также и другие данные о нём были бы нам хорошо известны. На обороте отчёта банк показал, в каких обязательствах были инвестированы эти фонды. За исключением наличности и слитков, а также небольшой суммы в штемпельных марках, все они приносили банку проценты и прибыль. Из приведённого выше извлечения видно, что в 1807 г. сумма правительственных вкладов составляла от 11 до 12 млн. ф. ст., в то время как в 1797 г. сумма правительственных и частных вкладов составляла всего 5 130 140 ф. ст. Основываясь на этом отчёте, г-н Персиваль обратился к Английскому банку от имени государства, требуя участия последнего в добавочной прибыли из этого источника в форме ли ежегодных платежей или беспроцентного займа. После непродолжительных переговоров получен был беспроцентный заём в 3 млн. ф. ст., подлежавший уплате через шесть месяцев после окончательного заключения мира. Доклад отмечает также непомерное вознаграждение, уплаченное Английскому банку за управление делами национального долга. Государство платило в тот период за это последнее из расчёта 450 ф. ст. с миллиона. Комитет установил также, что добавочное вознаграждение за управление делами долга составило в течение десятилетия, закончившегося в 1807 г., благодаря увеличению национального долга больше 155 тыс. ф. ст.; тогда как "количество должностных лиц, фактически занимавшихся этим делом, увеличилось всего лишь на 137 человек, расход на их содержание возрос, вероятно, с 18 449 до 23 290 ф. ст. в год, а прибавка к другим постоянным расходам равнялась, должно быть, 1/2 или 2/3 этой суммы". После этого доклада с Английским банком было заключено новое соглашение о ведении дел по национальному долгу. На каждый миллион должно было уплачиваться 450 ф. ст. при условии, что непогашенная капитальная сумма долга превышала 300 млн. ф. ст., но была ниже 400 млн. На каждый миллион уплачивалось 340 ф. ст., если капитальная сумма превышала 400 млн. ф. ст., но была ниже 600 млн. На каждый миллион уплачивалось 300 ф. ст. по той части государственного долга, которая превышала 600 млн. ф. ст. Кроме всех этих доходов Английскому банку уплачивают 800 ф. ст. с миллиона за взимание платежей по займам, 1 тыс. ф. ст. за каждый договор о лотерее и 1 250 ф. ст. с миллиона, или 1/8%, за взимание налогов с прибыли, доставляемой имуществом, профессиями и торговлей. Это соглашение с тех пор остаётся в силе. Теперь приближается срок, когда деятельность Английского банка подвергнется рассмотрению в парламенте и когда соглашение, касающееся правительственных вкладов, будет закончено уплатой беспроцентного займа в 3 млн. ф. ст., заключённого в 1808 г. Трудно найти, следовательно, более удобный момент для того, чтобы указать на чрезмерные выгоды, которые были предоставлены Английскому банку по условиям договора, заключённого между ним и г-ном Персивалем в 1808 г. В этом, мне кажется, и состояла главная цель г-на Гренфелла: он хочет привлечь внимание парламента не только к добавочным выгодам, полученным Английским банком со времени соглашения 1808 г., но и к самому соглашению, в силу которого государство платит в настоящее время и платило очень долго в той или иной форме огромные суммы за совершенно неадекватные услуги. Г-н Гренфелл думает, вероятно, и если это так, то я от души соглашаюсь с ним, что прибыль в 382 тыс. ф. ст. в год (сумма, в какой исчисляются доходы Английского банка от правительственных вкладов за десятилетие, как это указано нами выше) значительно превышает справедливое вознаграждение, которое государство должно платить банку за выполнение им простых обязанностей банкира. Это особенно верно, если принять во внимание, что в добавление к этой сумме Английскому банку выплачивается теперь ещё 300 тыс. ф. ст. в год за управление делами национального долга, займов и т. д., и сверх всего он пользовался со времени возобновления своей хартии огромной дополнительной прибылью от замещения находившихся в обращении частью металлических и частью бумажных денег полностью бумажными. Эта добавочная прибыль не принималась во внимание в 1800 г., когда было заключено соглашение, ни парламентом, даровавшим эту хартию, ни Английским банком, получившим её. Последний может быть при этом лишён значительной части этой добавочной прибыли в случае отмены закона, освободившего Английский банк от оплаты звонкой монетой своих банкнот. При таких условиях следует, по моему мнению, признать, что г-н Персиваль отнюдь не получил в 1808 г. для государства всё, на что оно имело право рассчитывать; принимая же во внимание всем известные взгляды канцлера казначейства на право государства участвовать в добавочной прибыли Английского банка, получаемой им от правительственных вкладов, можно надеяться, что теперь мы будем отстаивать условия соглашения, более соответствующие интересам государства. Правда, вышеуказанные суммы, хотя и уплаченные государством, не представляют чистой прибыли Английского банка; из них приходится сделать ещё вычет на расходы по той части аппарата банка, которая предназначена исключительно для ведения государственных дел, но эти расходы, вероятно, не превышают 150 тыс. ф. ст. в год. Комитет государственных расходов констатировал в 1807 г. в своём докладе палате общин, что "число клерков, которым Английский банк поручал исключительно или главным образом ведение государственных дел, составляло в
Каждая из двух последних сумм была бы достаточна для организации пенсионного фонда.
Итак, по самой высокой оценке Комитета, расходы по ведению государственных операций составляли в 1807 г., включая всю сумму жалованья директоров, случайные расходы, расходы на дополнительные постройки и ремонт, а также судебные расходы и убытки от мошенничеств и подлогов, 119 500 ф. ст. Комитет констатировал также, что увеличившиеся расходы Английского банка по управлению государственными операциями составляли по истечении периода в 11 лет (с 1796 по 1807 г.) около 35 тыс. ф. ст. в год при долге, возросшем до 278 млн. ф. ст., т. е. из расчёта 126 ф. ст. на миллион. С 1807 г. до настоящего времени непогашенный долг, которым ведает банк, возрос приблизительно с 550 млн. ф. ст. почти до 830 млн., или на сумму около 280 млн., - немногим больше, чем с 1796 по 1807 г.; поэтому, считая опять-таки по 126 ф. ст. с миллиона, аналогичные расходы составили бы тут 35 тыс. ф. ст. Но "так как норма расходов уменьшается по мере расширения масштаба деятельности", я определяю их в 30 500 ф. ст., что вместе с расходами за 1807 г. в 119 500 ф. ст. подымет всю сумму расходов по управлению государственными операциями до 150 тыс. ф. ст. Государственные контролёры пришли в 1786 г. к заключению, что 187 ф. ст. 10 шилл. с миллиона достаточно, чтобы оплатить расходы по управлению делами долга в 224 млн. ф. ст. Расчёт, который я только что сделал, даёт около 180 ф. ст. с миллиона на долг в 830 млн. ф. ст., что представляет вполне достаточное вознаграждение, если принять во внимание, что долг, как таковой, растёт совсем в ином отношении, чем работа, которую вызывает управление его делами. Итак, предполагая, что расходы составляют около 150 тыс. ф. ст., чистая прибыль, получаемая Английским банком в текущем году от всех его сделок с государством, составит следующую сумму:
Из этой громадной суммы 382 тыс. ф. ст. доставляются, по всей вероятности, одними только вкладами; расход этот мог бы быть сбережён для нации, если бы правительство взяло управление этим делом в собственные руки; для этого оно должно было бы иметь в своём распоряжении общее казначейство, на которое каждый департамент мог бы выдавать векселя точно так же, как выдают их теперь на Английский банк; иначе говоря, оно должно инвестировать 11 млн. ф. ст.- сумму, какую составляют, повидимому, в среднем вклады в билетах казначейства и часть которой может быть продана на рынке, если бы в силу каких-нибудь непредвиденных обстоятельств вклады упали ниже этой суммы. Предложенные г-ном Гренфеллом резолюции <см. Приложения>, относительно которых парламент выскажется в ближайшую сессию, дают краткое резюме фактов, содержащихся в приложенных к его предложению документах, и заканчиваются следующим заключением: "Что палата общин обратит в ближайший срок внимание на выгоды, извлекаемые Английским банком как из управления национальным долгом, так и из общей суммы балансов государственных денег, остающихся в распоряжении банка, для того чтобы заключить по истечении срока ныне действующих обязательств такое соглашение, которое соответствовало бы как интересам государства, так и правам, кредиту и устойчивости Английского банка". Г-н Мэллиш, управляющий Английским банком, также внёс свои резолюции на рассмотрение ближайшей сессии парламента. Эти резолюции <см. там же> признают правильность всех фактов, указанных г-ном Гренфеллом; они упоминают также об одной или двух незначительных услугах, которые Английский банк оказывает государству, одну без вознаграждения <услуга без вознаграждения заключалась в вычислении вычетов из каждого дивидендного свидетельства налогов на собственность. Другая состояла во взимании взносов у тех, кто платил налога на собственность непосредственно банку, за что последний получал 1 250 ф. ст. с миллиона, или 1/8%. Если бы сборщик налогов ходил из дома в дом за получением этих денег, то он получал бы за это вознаграждение в 5 пенс. с 1 ф. ст., что обошлось бы государству в 58 007 ф. ст. вместо 3 480 ф. ст., уплачиваемых Английскому банку. Быть может, ни одна часть операций Английского банка не может выполняться с большей лёгкостью, чем эта последняя, которую особо подчеркивает его правление. Мне кажется, что она отнюдь не оплачивается ниже нормы, а, наоборот, слишком щедро. Экономия, получаемая государством, состоит на деле в том, что деньги сосредоточиваются в одном центре и их не приходится собирать в разных местах. Но Английский банк, повидимому, считает, что мерой, которой он измеряет степень умеренности своих требований, является скорее экономия, которую он доставляет своему клиенту, а не справедливое вознаграждение за его собственные хлопоты и расходы. Что сказало бы правление банка об инженере, который, определяя расходы по сооружению паровой машины, принял бы в расчёт не стоимость труда и материалов, необходимых для её сооружения, а стоимость труда, который эта машина предназначена сберечь?>, а другую за меньшее вознаграждение, чем то, какое следовало бы заплатить обыкновенному сборщику налогов. Однако восьмая и девятая резолюции содержат экстраординарную претензию - они, повидимому, ставят под вопрос право правительства требовать от Английского банка после погашения займа в 3 млн. ф. ст. в 1816 г. и вплоть до 1833 г., когда истекает срок его хартии, какую бы то ни было компенсацию за выгоды, извлекаемые банком из правительственных вкладов, или заключить какое-либо новое соглашение относительно размеров вознаграждения, получаемого Английским банком за управление делами национального долга. Эти резолюции гласят: "8. Что в силу актов 39 и 40-го годов царствования Георга III, статья 28, отд. 13, Английский банк будет пользоваться в течение срока действия хартии всеми привилегиями, прибылями, преимуществами, барышами и выгодами всякого рода, которыми он ныне обладает и пользуется при выполнении им каких-либо операций для государства или по его поручению. Что до возобновления его хартии Английский банк был использован в качестве государственного банка, который держал у себя наличность всех главных департаментов, получающих государственные доходы, а также ведал и производил государственные расходы, и т. д. 9. Что по истечении срока соглашения, действующего в настоящее время между государством и Английским банком, может оказаться уместным рассмотреть выгоды, извлекаемые банком из его сделок с государством с целью принятия соглашения, соответствующего началам справедливости и взаимного доверия, которые должны господствовать во всех сделках между государством и Английским банком". <Со времени выхода в свет первого издания этой работы первый лорд казны и канцлер казначейства предложил Английскому банку продлить срок аванса в 3 млн. ф. ст., который подлежал уплате в апреле ближайшего года, ещё на два года без процентов, а также авансировать правительству сумму в 6 млн. ф. ст. из 4% на двухлетний неизменный срок и продлить этот срок еще на три года при условии уплаты с шестимесячным предуведомлением, сделанным в любое время между 10 октября какого-нибудь года и 5 апреля последующего за ним либо лордами казначейства Английскому банку, либо последним их лордствам. Это предложение было принято общим собранием владельцев капитала Английского банка, созванным 8 февраля для обсуждения его. На этом общем собрании я обратился с просьбой дать мне некоторые разъяснения о судьбе правительственных вкладов по истечении двухлетнего срока и отметил с одобрением, что Английский банк отступил от своего требования, сформулированного им в вышеприведённых резолюциях и настаивавшего, как мне казалось, на праве банка хранить правительственные вклады, не платя за это никакого вознаграждения. Г-н Мэллиш, управляющий Английским банком, возразил на это, что я совершенно не понял смысла этих резолюций, и выразил уверенность, что если я снова внимательно прочту их, то смогу убедиться, что из них нельзя сделать такого вывода. Я рад, что Английский банк отрицает всякое намерение лишить государство выгоды, которой сам он пользовался со времени доклада Комитета государственных расходов: я сожалею, однако, что авторы резолюций выразились так неясно, что последние произвели на меня и других совершенно иное впечатление. Мне всё же кажется, что резолюции считают привилегию быть государственным банкиром закреплённой за Английским банком на срок действия его хартии в силу весьма важных соображений и признают уместным приступить к пересмотру имеющегося соглашения лишь по истечении срока его действия>. Что Английский банк указывает теперь на невозможность для государства предъявлять к банку благодаря его хартии какие-либо требования об участии в выгодах, приносимых правительственными вкладами, и притом впервые после всего, что произошло с 1800 г., - это действительно кажется странным. Хартия Английского банка была возобновлена в 1800 г. на 21 год со времени истечения её срока в 1812 г., следовательно, срок её действия окончится теперь не ранее 1833 г. Но с 1800 г. банк не только не заявлял претензии на получение полностью всех выгод, приносимых правительственными вкладами, но ещё ссудил в 1806 г. правительству 3 млн. ф. ст. до 1814 г. из 3%, а в 1808 г. - ещё 3 млн. ф. ст. до окончания войны без процентов; в последнюю же сессию парламента заём в 3 млн. ф. ст. был продлён без процентов до апреля 1816 г. Эти займы были предоставлены именно на основе роста сумм правительственных вкладов. Комитет государственных расходов, касаясь в своём уже упомянутом мною докладе (1807 г.) займа в 3 млн. ф. ст., предоставленного государству в 1806 г. из 3%, замечает: "Но эта сделка весьма существенна с другой точки зрения: она показывает, что соглашение, заключённое в 1800 г., не рассматривалось ни теми, кто вёл переговоры со стороны государства, ни самими директорами Английского банка как барьер против дальнейшего участия государства в прибылях во всех случаях роста прибылей, извлекаемых банком из правительственных вкладов и такого положения государства, при котором это требование сделалось бы на тех же основаниях рациональным и целесообразным" <Курсив Рикардо. - Прим. ред.>. А каким языком говорил г-н Персиваль в то самое время, когда в результате этого доклада он потребовал и получил заём в 3 млн. ф. ст. до окончания войны? В своём письме управляющему и заместителю управляющего Английским банком, датированном 11 января 1808 г., он говорит: "Я считаю необходимым заметить, что предложение ограничить срок аванса, сделанного в форме займа и ежегодных взносов в казначейство, периодом длительности настоящей войны и ещё 12 месяцами после её окончания отнюдь не следует понимать как признание мною отсутствия у государства права требовать по истечении этого периода каких-либо выгод от отдаваемых на хранение банку правительственных вкладов; моё предложение следует понимать просто как меру, в силу которой и правительство и банк будут оба иметь возможность выработать новое соглашение, когда обстоятельства в дальнейшем изменятся и, вероятно, повлияют на размеры государственных средств, находящихся в распоряжении банка". 19 января предложения г-на Персиваля были представлены собранию директоров в более официальной форме; на этот раз они заканчиваются следующим образом: "Подразумевается также, что в течение периода, на который этот аванс выдан банком <Курсив Рикардо. - Прим. ред.>, не будет предложено никакого изменения в общем ходе дел между банком и казначейством и не будет принято никакого постановления, в силу которого суммы, направляемые в настоящее время на основании закона в банк, могли бы быть оттуда изъяты". Предложения эти были рекомендованы к принятию собранием директоров собранию владельцев капитала и были приняты 21 января без всяких прений. В своём обращении к Английскому банку в ноябре 1814 г., относящемся к продлению срока займа в 3 млн. ф. ст., который истекал между 17 декабря следующего года и апрелем 1816 г., г-н Ванситтарт употребляет следующие слова: "Но я просил бы понять меня вполне точно: я не отступаю от оговорки, сделанной покойным г-ном Персивалем в его письме к управляющему и заместителю управляющего Английским банком от 11 января 1808 г., - оговорки, с помощью которой он предостерегает против возможности каких-либо лжетолкований, могущих лишить государство права требовать по истечении срока, на который был заключён заём, участия в будущих выгодах от продолжения хранения в банке правительственных вкладов в прежнем или большем размере. Вообще я вполне присоединяюсь к взглядам, которые защищал г-н Персиваль в имевшей тогда место дискуссии". Английский банк не сделал как будто никаких возражений на эти замечания. Было созвано общее собрание владельцев, и заём в 3 млн. ф. ст. был продлён до апреля 1816 г. Со стороны Английского банка было бы, очевидно, весьма нелюбезно настаивать теперь на том, что соглашение 1800 г. исключает для государства право требовать какое-либо вознаграждение за выгоды, извлекаемые банком от роста правительственных вкладов за последний период; ведь правительство столько раз настаивало на праве участия, и право его каждый раз признавалось собранием директоров. В дополнение к этим убедительным фактам справка об основаниях для соглашения о возобновлении хартии, изложенных детально г-ном Торнтоном в его показании перед Комитетом государственных расходов в 1807 г. <см. "Доклад">, покажет нам ещё лучше, что Английский банк не имеет никакого права прикрываться своей хартией, отказываясь допустить государство к участию в прибылях, выросших вследствие увеличения суммы правительственных вкладов. Следует вспомнить, что г-н Торнтон был в 1800 г. управляющим Английским банком, что он был представителем последнего в переговорах с г-ном Питтом о возобновлении хартии и что в действительности именно у него зародилась мысль о возобновлении хартии за столь продолжительный срок до истечения её действия. Г-н Торнтон сказал Комитету, что единственная сумма государственных денег, из которых банк извлекал прибыль и о которых он и г-н Питт говорили с целью определения вознаграждения, следуемого государству за продление срока исключительных привилегий, были деньги, внесённые в банк для уплаты растущих дивидендов и для трёхмесячных эмиссий за счёт комиссаров по погашению национального долга.
(*) Из отчёта, представленного парламенту в последнюю сессию, явствует, что сумма билетов казначейства и банкнот, вложенных казначейством на текущий счёт, доходила в среднем в течение года, оканчивающегося мартом 1800 г., до 3 690 тыс. ф. ст. Г-н Торнтон категорически заявляет, что остальные государственные счета составляли ничтожную сумму, что "вероятное увеличение суммы денег по счетам различных департаментов правительства не принималось в расчёт" и что "такое увеличение не было принято во внимание и в связи с ним не было принято никаких мер". Таким образом, даже представитель Английского банка признаёт, что вероятное увеличение государственных счетов не было принято во внимание при определении денежного вознаграждения государству за продление исключительных привилегий банка; а если так, то как может теперь банк утверждать с каким-нибудь на то правом, что прибыль, извлекаемая из этих увеличенных вкладов, "которые не были предусмотрены и в связи с которыми не было принято никаких мер", принадлежит по праву исключительно банку и что государство не имеет ни права участвовать в них, ни взять назад свои вклады из банка, чтобы использовать их так, как оно находит более целесообразным? Следует отметить, что в своём вышеупомянутом показании г-н Торнтон заявил, что все другие государственные счета, кроме двух вышеприведённых, представляют ничтожную сумму; но из отчётов, представленных в последнюю сессию парламенту, явствует, что в 1800 г., к которому относится показание г-на Торнтона и в котором была возобновлена хартия Английского банка, государственные вклады всех категорий в последний составляли до 6 200 тыс. ф. ст., т. е. превосходили всю сумму, указанную г-ном Торнтоном, на 3 млн. ф. ст., а 3 млн. ф. ст. он вряд ли назвал бы, если бы знал этот факт, "ничтожной суммой". Таким образом, наличие такого значительного дополнительного вклада не было принято во внимание гг. Торнтоном и Питтом в то время, когда велись переговоры о возобновлении хартии, и ни одна часть вознаграждения, которое получало тогда государство, не соответствовала этому наличию. А если так, то существование значительных правительственных вкладов в 1800 г. не только не даёт банку права удержать в свою пользу всю прибыль, приносимую теперь ещё большими вкладами, но по справедливости заставляет его быть особенно щедрым во всяком новом соглашении, которое он мог бы заключить с государством; это дало бы ему возможность дать возмещение за столь долго получаемую им прибыль, которой, надо полагать, он не получал бы, если бы все факты были полностью известны и приняты во внимание в то время, когда устанавливались условия возобновления его хартии. Но факты эти, были ли они известны или нет, не могли иметь большого значения с точки зрения г-на Торнтона, уверявшего столь решительно, что прибыль Английского банка не возрастала вместе с увеличением суммы правительственных вкладов и что банк выигрывает от этого увеличения лишь потому, что благодаря им он мог увеличить количество банкнот, выпускаемых в обращение. Не прискорбно ли видеть, что такая великая и богатая корпорация, как Английский банк, выказывает желание увеличить свои накопления при помощи незаконных барышей, вырванных из рук переобременённого народа? Не следовало ли скорее ожидать, что благодарность за полученную хартию и за непредвиденные выгоды, которые она принесла с собой, - те премии и увеличенные дивиденды, которые банк уже получил, и то большое неделимое сокровище, которое хартия дала ему, кроме того, возможность накопить, - побудит банк добровольно предоставить государству всю прибыль, извлекаемую им из использования 11 млн. ф. ст. государственных денег, вместо того чтобы выражать желание лишить государство и той малой части этой прибыли, которою оно пользовалось в течение немногих лет? Когда в 1807 г. обсуждался вопрос о процентном отчислении в пользу Английского банка в оплату за управление делами национального долга, г-н Торнтон сказал, что "в сделке, заключаемой между государством и банком, следует, по его убеждению, требовать лишь справедливого вознаграждения за хлопоты, риск и фактические потери, а также за большую ответственность, связанную с выполнением таких обязанностей". Как могло статься, что язык директоров банка в настоящее время так сильно изменился? Вместо того чтобы требовать лишь справедливого вознаграждения за хлопоты, риск и фактические потери, они стараются лишить государство даже того неадекватного вознаграждения, которое оно получало до этого; они апеллируют теперь впервые к своей хартии для защиты своего права держать у себя государственные деньги и пользоваться всей прибылью, которая может быть извлечена из них без предоставления самого ничтожного вознаграждения государству. Если бы хартия действительно связывала государство в такой мере, как это утверждает банк, то от крупного публичного предприятия, владеющего такой выгодной монополией и так тесно связанного с государством, можно было ожидать более благожелательной политики по отношению к своим великодушным благодетелям. До последней сессии парламента Английский банк пользовался также особыми льготами при исчислении той суммы, которую он вносил взамен гербового сбора. В 1791 г. он платил 12 тыс. ф. ст. в год вместо всех гербовых сборов с векселей или с банкнот. В 1799 г., после повышения гербового сбора, эта сумма была увеличена до 20 тыс. ф. ст.; новое повышение в 4 тыс. ф. ст., поднявшее эту сумму до 24 тыс. ф. ст., было введено взамен гербового сбора с банкнот ниже 5 ф. ст., которые банк начал тогда выпускать в обращение. В 1804 г. гербовый сбор, установленный в 1799 г. для банкнот ниже 5 ф. ст., был увеличен не меньше чем на 50%, был также значительно повышен сбор с банкнот более высокого достоинства; но хотя сумма находящихся в обращении банкнот ниже 5 ф. ст. возросла с 1 1/2 до 4 1/2 млн. ф. ст., сумма банкнот более высокого достоинства также возросла, сумма, уплачиваемая банком вместо гербового сбора, увеличилась только с 24 тыс. до 32 тыс. ф. ст. В 1808 г. произошло дальнейшее повышение ставок гербового сбора на 33%, и отступная сумма повысилась тогда с 32 тыс. до 42 тыс. ф. ст. В том и в другом случае рост этой суммы не соответствовал даже повышению ставок гербового сбора, увеличение же количества банкнот, выпущенных банком в обращение, совершенно не было учтено. В последнюю сессию парламента при дальнейшем повышении ставок гербового сбора был впервые установлен принцип, согласно которому сумма, уплачиваемая Английским банком взамен гербового сбора, должна находиться в определённом отношении к количеству его банкнот, находящихся в обращении. В настоящее время она определяется следующим образом: исходя из средней суммы банкнот, находившихся в обращении в предшествующие три года, банк должен платить 3 500 ф. ст. с миллиона безотносительно категорий или стоимости банкнот, из которых состоит вся находящаяся в обращении сумма их. Средняя сумма банкнот, находившихся в обращении в течение трёх лет, заканчивающихся 5 апреля 1815 г., равнялась 25 102 600 ф. ст., и с этой средней банк будет теперь платить около 87 500 ф. ст. В следующем году средняя будет взята за три года, оканчивающихся в апреле 1816 г., и если она будет отличаться от предыдущей, то общая сумма гербового сбора будет изменена соответственно. Если бы в настоящее время мы шли тем же путём, что и в 1804 и 1808 гг., то Английский банк должен был бы платить даже с добавочным гербовым сбором только 52 500 ф. ст. Таким образом, для государства была бы сбережена сумма в 35 тыс. ф. ст. в год благодаря тому, что парламент принял, наконец, принцип, который следовало принять ещё в 1799 г.; пренебрежение к этому принципу причинило государству убыток, а следовательно, доставило банку прибыль на сумму, вероятно, не меньшую чем в 500 тыс. ф. ст. Г-н Гренфелл думает, вероятно, и если это так, то я от души соглашаюсь с ним, что прибыль в 382 тыс. ф. ст. в год (сумма, в какой исчисляются доходы Английского банка от правительственных вкладов за десятилетие, как это указано нами выше) значительно превышает справедливое вознаграждение, которое государство должно платить банку за выполнение им простых обязанностей банкира. Это особенно верно, если принять во внимание, что в добавление к этой сумме Английскому банку выплачивается теперь ещё 300 тыс. ф. ст. в год за управление делами национального долга, займов и т. д., и сверх всего он пользовался со времени возобновления своей хартии огромной дополнительной прибылью от замещения находившихся в обращении частью металлических и частью бумажных денег полностью бумажными. Эта добавочная прибыль не принималась во внимание в 1800 г., когда было заключено соглашение, ни парламентом, даровавшим эту хартию, ни Английским банком, получившим её. Последний может быть при этом лишён значительной части этой добавочной прибыли в случае отмены закона, освободившего Английский банк от оплаты звонкой монетой своих банкнот. При таких условиях следует, по моему мнению, признать, что г-н Персиваль отнюдь не получил в 1808 г. для государства всё, на что оно имело право рассчитывать; принимая же во внимание всем известные взгляды канцлера казначейства на право государства участвовать в добавочной прибыли Английского банка, получаемой им от правительственных вкладов, можно надеяться, что теперь мы будем отстаивать условия соглашения, более соответствующие интересам государства. Отдел седьмой. Прибыль и сбережения Английского банка. - Их ненадлежащее использование. - Предлагаемое средство для исправления
Простой текст простой текст простой текст ТОМ 3. Статьи по аграрному вопросу и критические примечания к книге Мальтуса
Давид Рикардо Редактор: Е. Ровинская Предисловие (М. Смит)
В III том сочинений классика английской буржуазной политической экономии Давида Рикардо вошли две статьи о ценах на хлеб и хлебных пошлинах и критические примечания к «Началам политической экономии» Мальтуса. Эти работы относятся к первой четверти XIX в. Вопрос о земельной ренте, о ценах на хлеб и ввозных пошлинах на хлеб был тогда в Англии далеко не теоретическим, а острейшим практическим вопросом борьбы между лендлордами и промышленной буржуазией. Маркс отмечает в «Теориях прибавочной стоимости»: «Рикардо с полным для своего времени правом рассматривает капиталистический способ производства как самый выгодный для производства вообще, как самый выгодный для создания богатства» <К. Маркс, Теории прибавочной стоимости, т. II, ч. 1,1936, стр. 205>. Это теоретическое представление Рикардо имело в начале XIX в. огромное практическое значение. После окончания войны с Наполеоном страна-победитель — Англия находилась в весьма тяжёлом экономическом положении. Резко вырос государственный долг, народ стонал под тяжестью косвенных налогов, и лишь крупные финансисты и землевладельцы, в особенности последние, использовали войну и послевоенные условия для своего обогащения. В 1815 г. лендлорды провели через парламент так называемые «хлебные законы», т. е. законы об обложении дешёвого ввозного хлеба высокими пошлинами. Тем самым удерживалась высокая цена на хлеб, выращенный на землях лендлордов в Англии при гораздо худших климатических и почвенных условиях, чем в странах, откуда он ввозился. От высоких цен на хлеб страдали потребители, т. е. в основном промышленные рабочие. Промышленная буржуазия восставала против высоких цен, так как дорогой хлеб повышал стоимость рабочей силы и тем самым грозил уменьшением прибыли. Отстаивая высокие пошлины на хлеб, землевладельцы вместе с тем восставали и против технических нововведений в земледелии, удешевлявших хлеб. Развитию промышленности препятствовала, таким образом, монопольная собственность на землю и связанная с ней техническая отсталость земледелия. Теоретической базой борьбы с хлебными законами являлась для Рикардо его теория ренты, точнее — дифференциальной ренты, являвшаяся во многих отношениях, хотя далеко не во всех, значительным шагом вперёд по сравнению с господствовавшими тогда теориями. Положительная сторона теории ренты Рикардо состоит прежде всего в том, что она построена на базе его теории трудовой стоимости, вопреки теориям его современников и предшественников (Андерсон, Вест, Мальтус), утверждавших, что земельная рента есть «дар природы», т. е. результат всякого рода природных преимуществ. Эти дары и преимущества Рикардо расшифровывает весьма определённо: они являются результатом большего количества труда, нужного для получения того же количества продукта на менее плодородных землях. «...Рента, — говорит Рикардо, — неизменно происходит от того, что приложение добавочного количества труда даёт пропорционально меньший доход». Когда поступает в обработку «наиболее плодородная и наиболее удобно расположенная земля... меновая стоимость её продукта будет определяться точно так же, как и меновая стоимость всех других товаров, т. е. всем количеством труда, необходимого... от начала до конца процесса производства... Когда поступит в обработку земля низшего качества, меновая стоимость сырых материалов повысится, потому что на производство их потребуется больше труда» <Д. Рикардо, Начала политической экономии и налогового обложения, 1955, т. I, стр. 69>. Но цена хлеба регулируется именно стоимостью его производства на наихудших возделываемых землях — этот момент для Рикардо ясен. Следовательно, владелец лучших земель, требующих для своей обработки меньшего количества труда, кладёт себе в карман большую ренту. Преимущества обработки лучшей земли «переходят, — замечает Рикардо, — от возделывателя или потребителя к землевладельцу» <Там же, стр. 70>. И именно поэтому английские землевладельцы и требуют обложения ввозного хлеба, выращенного при лучших условиях и имеющего меньшую стоимость. Но, несмотря на такой — в основном правильный — подход к проблеме дифференциальной ренты, Рикардо делает в своих теоретических работах о природе земельной ренты и крупнейшие ошибки. Несмотря на свою постоянную полемику c Мальтусом, он всё же находится в одном отношении под влиянием последнего: вместе с Мальтусом и Вестом он предполагает, будто рост населения заставляет человечество обязательно идти от обработки лучших земель к обработке худших, что противоречит действительному ходу развития земледелия. Это же предположение Рикардо было в дальнейшем использовано для обоснования так называемого «закона» убывающего плодородия почвы. В III томе «Капитала» Маркс замечает на основе тщательного исследования большого материала: «Таким образом падает та первая неверная предпосылка дифференциальной ренты, которая еще господствует у Веста [West], Мальтуса, Рикардо, именно, что дифференциальная рента необходимо предполагает переход к худшей и худшей почве...» <К. Маркс, Капитал, т. III, 1953, стр. 673> А из этой неверной предпосылки Рикардо делает и соответственные выводы: переход к обработке худших земель должен привести к росту заработной платы, а следовательно, к снижению прибыли и накопления. «Но если, — пишет он в главе о прибыли, — а это безусловно произойдёт — вместе с повышением цены хлеба повысится и заработная плата, то прибыль необходимо упадёт». <Д. Рикардо, Начала политической экономии и налогового обложения, т. I настоящего издания, стр. 98> А в дальнейшем «...весьма низкая норма прибыли остановит всякое накопление, и почти весь продукт страны, за вычетом платы рабочим, станет собственностью землевладельцев и сборщиков десятины и налогов» <Там же, стр. 106>. Представление Рикардо об обязательном переходе человечества от обработки лучших земель к худшим в то же время служит ему добавочным аргументом в борьбе против пошлин на ввозимый хлеб. «Результаты накопления, — пишет он, — будут различны в разных странах в зависимости главным образом от плодородия земли. Как бы обширна ни была страна, земля которой недостаточно плодородна и куда ввоз жизненных припасов запрещён, самое умеренное накопление капитала будет сопровождаться там значительным понижением нормы прибыли и быстрым повышением ренты. И, наоборот, небольшая, но плодородная страна, особенно если она разрешает свободный ввоз пищевых продуктов, может накоплять капитал в изобилии без значительного уменьшения нормы прибыли или значительного возрастания земельной ренты» <Там же, стр. 110—111>. Такова классовая позиция Рикардо как идеолога промышленного капитала. Всё, что Рикардо писал о природе ренты, относится лишь к единственно существовавшей для него форме ренты — дифференциальной, т. е. разнице между индивидуальной и общественной ценой производства на продукты земледелия, определяющейся притом условиями производства на худших землях. Абсолютную ренту, т. е. ту часть прибавочной стоимости, которая присваивается землевладельцами как монопольными собственниками земли, Рикардо полностью игнорирует. Как говорит Маркс, «...он предполагает, что вообще не существует какой-либо иной ренты, кроме дифференциальной» <К. Маркс, Капитал, т. III, стр. 662>. В этом сказывается классовая ограниченность Рикардо, непонимание им социальных причин возникновения ренты. Таковы в основном положительные и отрицательные стороны теории ренты Рикардо. Заслуга его состоит в том, что он связал теорию ренты с теорией трудовой стоимости, что помогло ему понять природу дифференциальной ренты и было использовано им в борьбе с лендлордами. Но, конечно, игнорирование абсолютной ренты мешало ему довести свои теоретические построения и свою борьбу до логического конца. Тем не менее то новое и положительное, что имелось в теории ренты Рикардо, послужило ему весьма ценным оружием в борьбе против хлебных законов и их апологетов во главе с Мальтусом. Ярый защитник интересов имущих классов, и прежде всего землевладельцев, Мальтус всячески отстаивал их монополию на владение землёй как источник высоких цен на хлеб и высокой земельной ренты. Рикардо же беспощадно изобличал подлинную природу этой монополии. Так, Мальтус упрекал своего французского собрата Сэя за недостаточное уважение к монопольным правам землевладельцев, выразившееся в его замечании: «К счастью, никто не мог сказать: ветер и солнце принадлежат мне, и услуги, которые они оказывают, должны быть мне оплачены». Но Рикардо идёт дальше Сэя и делает такое примечание: «Может ли кто-либо сомневаться в том, что, если бы кому-нибудь удалось присвоить ветер и солнце, он смог бы обеспечить себе получение ренты за пользование ими?» <Д. Рикардо, Примечания к книге Мальтуса> В этом коротком примечании резко выражается антагонизм интересов двух классов — отживающего и пришедшего ему на смену. Ещё резче выражается этот антагонизм в борьбе Рикардо против хлебных пошлин. Так, например, его статья «О покровительстве земледелию» отнюдь не является только теоретической статьёй — она вся состоит из ряда его выступлений в парламенте или в каких-либо общественных собраниях против требований землевладельцев. В статьях «Опыт о влиянии низкой цены хлеба на прибыль с капитала» и «О покровительстве земледелию» Рикардо длинным и иногда извилистым путём доказывает экономическую невыгодность хлебных пошлин и приходит к одному и тому же выводу. «Я буду очень сожалеть, — пишет он в конце первой статьи, — если внимание к интересам какого-нибудь отдельного класса приведёт к задержке роста богатства и населения страны. Если интересы землевладельцев окажутся достаточно влиятельными, чтобы заставить нас отказаться от всех выгод, связанных с ввозом хлеба по дешёвой цене, то они должны будут также повлиять на нас и в смысле отказа от введения каких-либо усовершенствований в земледелии и улучшения орудий обработки земли. ...Чтобы быть последовательными, мы должны одним ударом приостановить все усовершенствования и запретить ввоз хлеба» <Д. Рикардо, Опыт о влиянии низкой цены хлеба на прибыль с капитала> Решительная классовая постановка вопроса. Хищнические интересы землевладельцев делают их врагами технического прогресса, развития производительных сил. Они получают высокую ренту при отсталых способах производства, более прогрессивные грозят её уменьшить. Свою статью «О покровительстве земледелию» Рикардо заканчивает чисто практическими соображениями: «Мы должны как можно скорее, с должным учётом интересов настоящего момента установить то, что может быть названо по существу свободной торговлей хлебом. Такая мера была бы полезна с точки зрения интересов фермера, потребителя, капиталиста» <Д. Рикардо, О покровительстве земледелию>. Практическая позиция Рикардо вполне ясна: на первом плане у него интересы капиталиста вообще и капиталистического фермера в частности, причём интересы потребителя в широком смысле слова в данном случае близки к их интересам. Что же касается лендлорда, то, пишет Рикардо, «устойчивые цены и регулярное получение ренты» тоже выгоднее для него, чем «колеблющиеся цены и нерегулярное получение ренты» <Там жe>. Такова подачка, которую бросает Рикардо лендлордам, возможно, из политических соображений. Такой же определённый характер носят примечания Рикардо к теории ренты Мальтуса, изложенной последним в его «Началах политической экономии». Выше мы уже приводили ироническое примечание, относящееся к возможности захвата получателями ренты даже солнца и ветра, если бы такой захват приносил ренту. Но, конечно, этим дело не ограничивается. Мальтуса чрезвычайно возмутили взгляды на ренту, изложенные Рикардо в «Началах политической экономии и налогового обложения». В особенности ненавистными показались ему утверждения Рикардо о противоположности интересов землевладельцев — получателей ренты — и потребителей. Мальтус негодует по поводу того, что, по мнению Рикардо, на цену хлеба влияет монопольная собственность на землю и что она «выгодна только для земельных собственников и в той же степени убыточна для потребителей»<Д. Рикардо, Примечания к книге Мальтуса>. На это Рикардо отвечает: «Хлеб, производимый при более благоприятных условиях и на более плодородной земле, будет доставлять ренту пропорционально разнице в издержках его производства». Но «эта рента не есть чистый выигрыш (очевидно, выигрыш для общества. — М. С.), — если землевладельцы получают больше, то и покупатели хлеба платят больше, и поэтому... я могу сказать, что это есть перенесение богатства, выгодное для землевладельцев и соответственно убыточное для потребителей» <Там же>. Здесь достаточно чётко выражены представления Рикардо о противоположности интересов землевладельцев и потребителей хлеба. Не менее чётко отмечает Рикардо и противоположность интересов землевладельцев и промышленных капиталистов. В ответ на замечание Мальтуса: «Невозможно, чтобы рента постоянно оставалась частью прибыли на капитал или заработной платы рабочих», Рикардо отвечает: «Часть того, что в будущем станет рентой, образует теперь прибыль на капитал. Неправильно, я полагаю, говорить, будто рента, когда бы то ни было, составляет часть прибыли на капитал: рента образуется из прибыли на капитал; когда она была прибылью, она не была рентой» <Там же>. Рикардо неоднократно возражает против стремления Мальтуса отождествить ренту с прибавочным продуктом, в частности, когда речь идёт о налогах. «Прибыли получаются из прибавочного продукта; если бы прибыли облагались налогом, последний изымался бы из прибавочного продукта, но именно поэтому он не изымался бы из ренты. Г-н Мальтус отождествляет здесь прибавочный продукт с рентой» <Там же>. В ряде примечаний Рикардо говорит о влиянии уровня ренты на взаимоотношения труда и капитала. В особенности чётко формулирует он свою позицию в следующем месте: «Общество заинтересовано в получении с земли большого чистого прибавочного продукта; оно заинтересовано также в том, чтобы этот большой чистый прибавочный продукт продавался по низкой цене... Благосостояние людей... повышается потому, что они могут покупать то же количество продукта по более дешёвой цене — иначе говоря, с затратой меньшего количества труда или за продукт меньшего количества своего труда. Благосостояние капиталистов повышается потому, что с удешевлением продуктов питания снизится и заработная плата. Низкая заработная плата — только другое название для высоких прибылей» <Д. Рикардо, Примечания к книге Мальтуса>. Таким образом, для Рикардо — идеолога промышленного капитализма — высокие прибыли являются выгодой не только для владельца промышленного капитала, но и для всего общества. Эту же точку зрения он выражает и в другом примечании: «Если бы ввоз (хлеба. — М. С.) был разрешён и вы допустили бы, чтобы хлеб был дёшев, то, владея денежным капиталом того же размера, я мог бы дать работу гораздо большему числу рабочих... поэтому, не допуская свободного ввоза, вы лишили нас тех товаров, которые могло бы потребить это добавочное число рабочих» <Там же>. Ясно, что отсутствие этого добавочного количества товаров лишает соответственно и прибыли владельцев тех капиталов, которые были бы затрачены на производство этих товаров. Но позиция Рикардо ещё более ясна из другого примечания: «Подлинная дешевизна хлеба, его низкая трудовая цена, является действенной причиной высоких прибылей, независимо от того, получается ли она непосредственно от обработки земли или благодаря ввозу. Без дешевизны хлеба, т. е. без большого прибавочного продукта, получаемого в обмен на труд, прибыли не могут быть высоки. Но и при дешевизне хлеба они могут не быть высоки, потому что положение рабочего может случайно оказаться таким, при котором он сможет взять себе большую долю прибавочного продукта, иначе говоря, он сможет получать высокую заработную плату» <Там же>. Здесь с полной ясностью отражено мировоззрение Рикардо. Прибавочный продукт не должен быть распределён так, чтобы основная часть его шла землевладельцу, как того требует Мальтус. Но и рабочим не должна идти слишком большая часть этого продукта; он должен идти главным образом на прибыль промышленного капитала. Ведь это путь к развитию производительных сил. Как замечает Маркс, для Рикардо «...было безразлично, поражает ли насмерть развитие производительных сил земельную собственность или рабочих» <К. Маркс, Теории прибавочной стоимости, т. II, ч. I, 1936, стр. 206>. Маркс показывает на ряде примеров научную беспристрастность Рикардо. Что же касается Мальтуса и его апологии интересов землевладельцев, то Маркс даёт ему следующую отповедь: «Единственное применение теории, сделанное Мальтусом, — это защита охранительных пошлин, которых требовали лэнд-лорды в 1815 г., сикофантская услуга аристократии, и новое оправдание нищеты производителя богатств, новая апология эксплоататоров труда» <Там же, стр. 205>. Эти высказывания Маркса проливают свет на всю полемику Рикардо с Мальтусом. Все разделы публикуемых «Примечаний» хорошо иллюстрируют их; наибольшей научной и политической остротой отличается при этом, несомненно, раздел, посвящённый взглядам Мальтуса на ренту. Критические примечания Рикардо, как и его статьи по аграрному вопросу, представляют для советского читателя несомненный интерес, помогут ему глубже и полнее понять борьбу Рикардо и Мальтуса. М. Смит. Опыт о влиянии низкой цены хлеба на прибыль с капитала, показывающий нецелесообразность ограничений ввоза, а также замечания по поводу двух последних сочинений г-на Мальтуса (Лондон 1815 г.)... замечания по поводу двух последних сочинений г-на Мальтуса: "Исследование о природе и развитии ренты" и "Основы взгляда на политикуограничения ввоза иностранного хлеба" Введение При исследовании вопроса о прибыли с капитала необходимо рассмотреть принципы, регулирующие повышение и падение ренты, ибо рента и прибыль, как мы увидим дальше, весьма тесно связаны друг с другом. Принципы, регулирующие ренту, изложены кратко на последующих страницах и лишь в малой степени отличаются от принципов, так исчерпывающе и так основательно изложенных г-ном Мальтусом в его превосходной работе, которой я обязан очень многим. Рассмотрение этих принципов, а также принципов, регулирующих прибыль с капитала, убедило меня в целесообразности освобождения ввоза хлеба от законодательных ограничений. Судя по общим принципам, выдвигаемым г-ном Мальтусом во всех его сочинениях, я убеждён, что он держится того же мнения, поскольку речь идёт о прибыли и богатстве; учитывая, однако, как он это делает, огромную, угрожающую нам опасность зависимости значительной части наших пищевых ресурсов от иностранного снабжения, он считает в общем разумным ограничить ввоз. Не разделяя с ним этих опасений и расценивая, быть может, более высоко выгоды от дешёвой цены на хлеб, я пришёл к совершенно другому заключению. Я старался дать ответ на некоторые из возражений, выдвигаемых им в его последнем сочинении «Основы взгляда и т. д.»; здесь нет, по моему мнению, той политической опасности, о которой он говорит; высказываемые же им соображения противоречат общему учению о выгодах свободной торговли -- учению, утверждению которого он сам так много способствовал в своих сочинениях. Опыт о влиянии низкой цены хлеба на прибыль с капитала Г-н Мальтус весьма правильно считает, что «рента с земли есть та часть стоимости всего продукта, которая остаётся в распоряжении собственника после оплаты всех связанных с обработкой земли расходов какого бы то ни было рода, включая прибыль с применяемого им капитала, определяемую согласно обычной, установившейся норме прибыли с земледельческого капитала в данное время». Следовательно, каждый раз, когда сумма обычной, установившейся прибыли с земледельческого капитала и всех расходов, связанных с обработкой земли, равна стоимости всего продукта, ренты быть не может. Когда же стоимость всего продукта равна только расходам, необходимым для обработки, то не может быть ни ренты, ни прибыли. При первоначальном заселении страны, богатой плодородной землёй, которую может занять всякий, кто пожелает, весь продукт за вычетом лишь расходов, связанных с обработкой, составит прибыль на капитал и будет принадлежать собственнику этого капитала, без какого-либо вычета на ренту. Так, если бы капитал, применяемый на такой земле каким-нибудь лицом, равнялся по стоимости 200 квартерам пшеницы и одна половина его состояла бы из основного капитала -- зданий, орудий и т. д., а другая -- из оборотного и если бы, после возмещения основного и оборотного капитала, стоимость оставшегося продукта составляла 100 квартеров пшеницы или была бы равна по своей стоимости 100 квартерам пшеницы, то чистая прибыль собственника капитала составила бы 50%, или 100 квартеров прибыли на капитал в 200. В продолжение некоторого периода времени прибыль на земледельческий капитал могла бы оставаться на том же уровне, поскольку земля, одинаково плодородная и одинаково хорошо расположенная, имелась бы в изобилии и, следовательно, могла бы обрабатываться на тех же выгодных условиях по мере увеличения капитала первого и последующих поселенцев. Прибыль может даже возрасти, потому что при более быстром росте населения по сравнению с капиталом заработная плата может упасть; вместо 100 квартеров пшеницы для оборотного капитала потребуются тогда только 90, прибыль же с капитала возрастёт, следовательно, с 50 до 57%. Прибыль может также возрасти благодаря введению в земледелии улучшений или более усовершенствованных орудий обработки, которые увеличивают количество продукта при тех же издержках производства. При повышении заработной платы или применении худшей системы обработки земли прибыль снова упала бы. Таковы обстоятельства, которые во все времена оказывают в большей или меньшей степени своё действие (они могут замедлять или ускорять естественный ход роста богатства путём повышения или понижения прибылей), увеличивая или уменьшая предложение пищевых продуктов при применении для обработки земли одного и того же капитала. <Г-н Мальтус полагает, что излишек продукта, получаемый благодаря уменьшению заработной платы или вводимым в земледелии усовершенствованиям, является одной из причин повышения ренты. По моему мнению, эти условия только увеличивают прибыль. «Накопление капитала выше того уровня, при котором он может быть применён на земле, отличающейся наибольшим естественным плодородием и наилучше расположенной, должно необходимо понизить прибыль; в то же время тенденция населения возрастать быстрее, чем средства существования, должна после определённого периода понизить заработную плату». «Издержки производства, таким образом, уменьшатся, но стоимость продукта, т. е. количество труда и других продуктов труда, кроме хлеба, которые можно получить за этот продукт, не уменьшится, а увеличится». «Увеличится число людей, нуждающихся в средствах существования и готовых предложить свои услуги в любой форме, в какой они только могут быть полезны. Поэтому меновая стоимость средств пропитания будет превышать издержки производства, включая в эти издержки и всю прибыль на капитал, приложенный к земле, соответствующую существующей в данное время норме прибыли. Этот излишек и есть рента» («An Inquiry into the Nature and Progress of Rent», p. 18). На стр. 19, говоря о Польше, г-н Мальтус снова приписывает одну из причин ренты дешевизне труда. На стр. 22 он говорит, что падение заработной платы или уменьшение, благодаря введённым улучшениям, числа рабочих, необходимого для получения данного результата, повысит ренту.> Предположим, однако, что в области земледелия не введено никаких усовершенствований и что капитал и население возрастают в соответственной пропорции, так что реальная заработная плата продолжает всё время оставаться на том же уровне; мы сможем, таким образом, установить, какие именно результаты должны быть приписаны росту капитала, какие -- увеличению населения и какие -- распространению обработки на более отдалённую и менее плодородную землю. Предположим, что при определённом уровне развития общества прибыль на земледельческий капитал составляет 50%; тогда прибыль на всякий другой капитал, применяемый либо в простейших производствах, соответствующих такой стадии развития общества, либо во внешней торговле, ведущейся с целью обмена сырых материалов на товары, на которые имеется спрос, будет также составлять 50%. <Я не хочу этим сказать, что нормы прибыли в земледелии и в обрабатывающей промышленности будут строго одинаковы -- между ними установится лишь определённое отношение. Адам Смит объяснил, почему в некоторых отраслях применения капитала норма прибыли несколько ниже, чем в других, в зависимости от их надёжности, чистоты, респектабельности и т. д. и т. д. Каково именно это отношение -- это для моей аргументации не имеет значения, так как я хочу только доказать, что прибыль на земледельческий капитал не может изменяться значительно, не вызывая такого же изменения в прибыли на капитал, вложенный в обрабатывающую промышленность и в торговлю>. Если бы прибыль на капитал, применяемый в промышленности, была выше 50%, то капитал был бы извлечён из земли для применения его в промышленности. Если бы она была ниже 50%, то капитал переместился бы из промышленности в земледелие. После того как вся плодородная земля, находящаяся в непосредственном соседстве с первыми поселенцами, обработана, капитал же и население продолжают расти, потребуется больше предметов пропитания, а они могут быть получены только с земли, расположенной не столь выгодно. Предполагая даже, что эта земля одинаково плодородна, необходимость иметь больше рабочих, лошадей и т. д. для перевозки продукта из того места, где он произрастает, в то, где его будут потреблять, повлечёт за собой, даже если заработная плата рабочих не изменится, необходимость постоянно затрачивать больший капитал для получения того же продукта. Предположим, что это увеличение капитала равно по стоимости 10 квартерам пшеницы; тогда весь капитал, вложенный в новую землю, равнялся бы 210 квартерам, хотя получаемый продукт был бы такой же, как и на старой земле; следовательно, прибыль на капитал упала бы с 50 до 43%, или до 90 на 210 <Прибыль на капитал падает, потому что нет больше столь же плодородной земли, а в течение всей истории общества прибыль регулируется трудностью или лёгкостью добывания пищи. Этот принцип имеет огромное значение, но он был почти совершенно оставлен без внимания в произведениях политико-экономов. Они, очевидно, думают, что прибыль на капитал может быть повышена при помощи коммерческих факторов независимо от наличия средств пропитания>. На земле, первой поступившей в обработку, прибыль будет прежней, а именно 50%, или 100 квартеров пшеницы; но, так как средняя прибыль <Рикардо употребляет термин general profits, что буквально означает «общая прибыль», но по смыслу соответствует понятию средней прибыли. -- Ред.> на капитал регулируется прибылью, получаемой с наименее прибыльного приложения капитала в земледелии, то произойдёт разделение 100 квартеров пшеницы: 43°/, или 86 квартеров, составят прибыль на капитал, а 7%, или 14 квартеров, -- ренту. А что такое разделение должно произойти, станет очевидно, если мы примем во внимание, что собственник капитала стоимостью в 210 квартеров пшеницы получит совершенно одинаковую прибыль, будет ли он обрабатывать более отдалённую землю или будет платить первому поселенцу 14 квартеров в виде ренты. На этой стадии прибыль на любой капитал, вложенный в производство, упала бы до 43%. Если при дальнейшем росте населения и богатства для получения того же дохода потребовался бы продукт с большей площади земли, то либо из-за большего расстояния, либо из-за худшего качества земли могло бы оказаться необходимым вложить капитал стоимостью в 220 квартеров пшеницы; прибыль на капитал упала бы тогда до 36%, или до 80 на 220, а рента с первого участка земли поднялась бы до 28 квартеров пшеницы; со второго же поступившего в обработку участка земли тоже начала бы теперь поступать рента, достигающая 14 квартеров. Прибыль на любой капитал, занятый в производстве, также упала бы до 36%. Таким образом, по мере поступления в обработку земли худшего качества или менее благоприятно расположенной, рента повышалась бы с земли, поступившей в обработку раньше, а прибыль падала бы в такой же точно степени; если же незначительный размер прибыли не мешает накоплению, то вряд ли есть какой-нибудь предел повышению ренты и падению прибыли. Если бы вместо вложения капитала в обработку более отдалённой новой земли дополнительный капитал стоимостью в 210 квартеров пшеницы был бы вложен в землю, поступившую в обработку первой, и прибыль на этот капитал тоже составила бы 43%, или 90 на 210, то полученная с первого капитала прибыль в 50% была бы разделена таким же образом, как и прежде, -- 43%, или 86 квартеров, составили бы прибыль, а 14 квартеров -- ренту. Если бы новый капитал в 220 квартеров был затрачен дополнительно с таким же результатом, как и прежде, то первый капитал дал бы ренту в 28 квартеров, а второй -- в 14 квартеров, тогда как прибыль на весь капитал в 630 квартеров была бы одинаковой и равнялась 36%. Предположим, что природа человека изменилась так, что ему требуется количество пищи вдвое большее, чем требуется для его существования теперь, и что, следовательно, издержки по обработке земли сильно увеличились. При таких условиях знания и капитал старого общества, применённые к свежей и плодородной земле в новой стране, дали бы гораздо меньший прибавочный продукт, и прибыль на капитал отнюдь не могла бы быть, следовательно, так высока. Но накопление могло бы продолжаться дальше, хотя и более медленным темпом, и при поступлении в обработку более отдалённой или менее плодородной земли опять-таки возникла бы рента. Естественный предел роста населения, конечно, наступил бы гораздо раньше, и рента никогда не могла бы подняться до той высоты, какой она может достичь теперь; по самой природе вещей, земля такого же плохого качества отнюдь не могла бы поступить в обработку; нельзя было бы также затратить на лучшую землю такой же капитал и получить с него адэкватную прибыль <Всё, что я сказал о происхождении и развитии ренты, представляет краткое повторение и попытку разъяснения тех принципов, которые так хорошо изложил г-н Мальтус, рассматривая те же проблемы в своём «Исследовании о природе и развитии ренты»; этот труд изобилует оригинальными идеями, применимыми не только к теории ренты, но и к проблеме налогов, являющейся, быть может, наиболее трудной и запутанной из всех вопросов, которыми занимается политическая экономия>. Следующая таблица построена на предположении, что первый участок земли даёт 100 квартеров прибыли на капитал в 200 квартеров, второй участок -- 90 квартеров на 210, в соответствии с предыдущими вычислениями <Едва ли необходимо указать, что данные, на которых построена эта таблица, предположительны и что они, вероятно, далеки от действительности. Мы остановились на них, поскольку они пригодны для иллюстрации принципа, остающегося в силе независимо от того, составляла ли первая прибыль 50 или 5% и требуется ли для получения того же продукта на новой земле дополнительный капитал в 10 или в 100 квартеров. В соответствии с тем, что капитал, вложенный в землю, будет состоять в большей степени из основного и в меньшей степени из оборотного капитала, рента будет расти медленнее и собственность будет уменьшаться также менее быстро>. Таблица показывает, что по мере развития страны будет увеличиваться весь продукт, получаемый с её земли, а в течение известного времени будет увеличиваться и та часть продукта, которая идёт на прибыль с капитала, равно как и та часть продукта, которая идёт на ренту; но в более поздний период всякое накопление капитала будет сопровождаться абсолютным и притом пропорциональным уменьшением прибыли, хотя рента будет неизменно расти. Мы увидим, что при затрате на земли различного качества капитала в 1 350 квартеров собственник капитала будет пользоваться меньшим доходом, чем при затрате 1 100 квартеров. В первом случае вся прибыль составит только 270, а в последнем — 275, при затрате же 1 610 квартеров прибыль упадёт до 241 1/2. <Таково было бы действие непрерывно накопляющегося капитала в стране, которая отказалась бы ввозить иностранный и более дешёвый хлеб. Но после значительного понижения прибыли накопление приостановится, и капитал будет вывозиться для применения его в тех странах, где средства пропитания дёшевы, а прибыль высока. Все европейские колонии были основаны с помощью капитала метрополий, благодаря чему накопление в метрополии приостанавливалось. К тому же та часть населения, которая занята во внешнеторговых перевозках, кормится иностранным хлебом. Нельзя сомневаться, что низкая прибыль, которая является неизбежным последствием действительно высокой цены хлеба, имеет тенденцию гнать капитал за границу. Это соображение должно было бы служить поэтому могучим доводом против установления нами ограничений ввоза.> Эта картина последствий накопления в высшей степени любопытна, и до сих пор никто ещё, мне кажется, не обращал на неё внимания. Из таблицы будет видно, что в развивающейся стране рента не только растёт абсолютно, но что она растёт также по отношению к капиталу, вложенному в землю. Так, когда весь вложенный капитал составлял 410, землевладелец получал 3 1/2%, при капитале в 1100 он получал 3 1/2 °/о <У Рикардо ошибка: надо 11 1/2, как и указано в таблице. -- Ред.>, а при капитале в 1880 -- 16 1/2%). Землевладелец получает не только более значительное количество продукта, но и более значительную долю его. Итак, рента <Под рентой я всегда разумею вознаграждение, получаемое землевладельцем за пользование первоначальными и неотъемлемыми силами земли. Затрачивает ли сам землевладелец капитал на свою собственную землю или же в ней остаётся по истечении срока аренды капитал, вложенный прежним арендатором, владелец может получить то, что обычно называют повышенной рентой; но часть её, очевидно, уплачивается за пользование капиталом. Другая часть уплачивается только за пользование первоначальными силами земли> является при всяких условиях частью прибыли, получавшейся прежде с земли. Она никогда не бывает вновь созданным доходом, а всегда частью уже созданного дохода. Прибыль на капитал падает только потому, что нельзя больше приобрести землю, столь же пригодную для производства продовольствия; степень же падения прибыли и роста ренты зависит всецело от увеличения издержек производства. Если бы поэтому, по мере роста богатства и населения страны, к ней могли бы быть присоединены при каждом увеличении капитала новые участки плодородной земли, прибыль никогда не падала бы, а рента никогда не поднималась бы <За исключением того случая, когда, как уже было замечено, реальная заработная плата повысилась бы, или при применении худшей системы земледелия>.
Если по мере роста богатства и населения страны денежная пена хлеба и заработная плата не изменяются ни в малейшей степени, прибыль будет всё же падать, а рента — подниматься ибо для получения того же количества сырых материалов на более отдалённых или менее плодородных землях будет работать большее число рабочих. Издержки производства возрастут, следовательно, тогда как стоимость продукта останется прежней. Но как это неизменно наблюдается, цена хлеба и всех других сырых материалов неизменно растёт, по мере того как нация становится богаче и вынуждена прибегать к обработке более бедных участков земли для производства части своих средств пропитания; нетрудно убедиться, что при этих условиях естественный результат будет именно таков. Меновая стоимость всех товаров растёт по мере того как возрастает трудность их производства. Если, таким образом, при необходимости затраты большего количества труда в производстве хлеба возникают новые трудности, тогда как для производства золота, серебра, сукна, холста и т. и. не требуется большего количества труда, меновая стоимость хлеба неизбежно повысится по сравнению со всеми этими предметами. Напротив, большая лёгкость в производстве хлеба или любого товара, каков бы он ни был, дающая возможность производить тот же самый продукт с помощью меньшего количества труда, понизит его меновую стоимость <Низкая цена хлеба, обусловленная усовершенствованиями в земледелии, дала бы стимул для роста населения, увеличивая прибыль и поощряя накопление, а это привело бы опять-таки к повышению цены хлеба и понижению прибыли. Но при той же цене хлеба и при той же прибыли и той же ренте можно было бы содержать более значительное население. Таким образом, можно сказать, что усовершенствования в земледелии повышают прибыль и понижают на время ренту>. Мы видим, таким образом, что усовершенствование методов в земледелии или орудий обработки земли понижает меновую стоимость хлеба <Причины, которые делают более трудным приобретение дополнительного количества хлеба в развивающихся странах, действуют постоянно, тогда как заметные улучшения в земледелии или в орудиях обработки земли встречаются менее часто. Если бы эти противоположные факторы действовали с одинаковой силой, цена хлеба подвергалась бы только случайным изменениям, вызываемым неурожаями, увеличением или уменьшением реальной заработной платы или изменениями в стоимости драгоценных металлов в силу их изобилия или редкости>; усовершенствование машин, применяемых при обработке хлопка, понижает стоимость хлопчатобумажных изделий, а усовершенствования в горном деле или открытие новых и более богатых рудников драгоценных металлов понижают стоимость золота и серебра или, что то же самое, повышают цену всех других товаров. Во всех тех случаях, когда конкуренция может дать полный эффект, а производство товаров не ограничивается естественными условиями, как это имеет место по отношению к некоторым винам, трудность или лёгкость производства товаров регулируют в конечном счёте их меновую стоимость <Хотя цена всех товаров регулируется в конечном счёте издержками их производства, включающими и среднюю прибыль с капитала, и всегда тяготеет к ним, все они, а хлеб, пожалуй, даже скорее, чем большинство других, подвержены случайным изменениям в цене, вызываемым временными причинами>. Таким образом, единственное воздействие роста богатства, на цены независимо от всех усовершенствований в земледелии или в обрабатывающей промышленности заключается, повидимому, в повышении цен сырых материалов и цены труда, при сохранении первоначальных цен всех остальных товаров, а также в понижении средней прибыли вследствие общего повышения заработной платы. Факт этот имеет гораздо большее значение, чем это кажется с первого взгляда, ибо он затрагивает интересы как землевладельцев, так и других членов общества. Положение землевладельца улучшается (в силу возросшей трудности получения средств пропитания, являющейся результатом накопления) не только потому, что он получает большее количество продуктов земли, но также и потому, что увеличивается меновая стоимость этого количества. Если рента поднимается с 14 до 28 квартеров, то она больше чем удвоится, потому что теперь землевладелец получит в обмен на 28 квартеров более чем двойное количество товаров. Так как размер ренты определяется и оплачивается в деньгах, то при предположенных условиях он получит более чем двойную денежную ренту по сравнению с прежней. Подобным же образом, если бы рента понизилась, землевладелец понёс бы двойную потерю: он потерял бы ту часть сырого продукта, которая составляла его добавочную ренту, и имел бы кроме того убыток вследствие обесценения действительной или меновой стоимости сырого продукта, в котором или в стоимости которого оплачивалась бы остающаяся часть его ренты <Было высказано мнение, что цена хлеба регулирует цены всех других предметов. Мне оно кажется ошибочным. Если на цену хлеба оказывает влияние рост или падение стоимости самих драгоценных металлов, то в этом случае будет действительно затронута и цена других товаров, но цены их изменяются потому, что изменяется стоимость денег, а не потому, что изменяется стоимость хлеба. По моему мнению, цена товаров не может значительно подняться или упасть до тех пор, пока сохраняется прежнее отношение между стоимостью денег и товаров или, вернее, до тех пор, пока выраженные в хлебе издержки производства тех и других остаются без изменения. При обложении товара налогом часть его цены уплачивается за право пользования им и не входит в состав его действительной цены>. Так как доход фермера реализуется в сырых материалах или в стоимости сырых материалов, то он, так же как и землевладелец, заинтересован в высокой меновой стоимости их; компенсацией же за низкую цену сырых материалов может служить для него увеличение их добавочного количества. Отсюда следует, что интерес землевладельца всегда противоположен интересу всякого другого класса в обществе. Его дела никогда так не процветают, как при недостатке и дороговизне средств пропитания, тогда как для всех других людей возможность получать средства пропитания по дешёвой цене очень выгодна. Высокая рента и низкая прибыль -- а они неизменно сопровождают друг друга -- никогда не должны были бы вызывать жалоб, если бы они были следствием естественного хода вещей. Они являются самыми несомненными доказательствами богатства и процветания, а также большого, сравнительно с плодородием почвы, населения. Средняя прибыль на капитал зависит целиком от прибыли, получаемой с последней доли капитала, вложенного в землю. Если бы поэтому землевладельцы отказались от. всей своей ренты, то этим они не повысили бы средней прибыли на капитал и не понизили бы цен хлеба для потребителя. Как замечает г-н Мальтус, это не имело бы никакого иного результата, кроме возможности для фермера, арендующего теперь земли, с которых платится рента, жить подобно джентльмену и расходовать ту часть общего дохода, которая падает в настоящее время на долю землевладельца. Богатство нации зависит не от изобилия денег и не от высокой денежной стоимости её товаров в обращении, но от изобилия товаров, доставляющих ей предметы комфорта и удовольствия. Хотя мало кто будет оспаривать это положение, многие смотрят всё же с величайшей тревогой на перспективу уменьшения своего денежного дохода, если даже меновая стоимость этого уменьшенного дохода увеличится настолько, что сможет доставить значительно больше предметов первой необходимости и роскоши. Если, таким образом, установленные здесь принципы, управляющие движением ренты и прибыли, правильны, то средняя прибыль на капитал может повыситься только в результате падения меновой стоимости предметов пропитания, а это падение может быть вызвано только тремя причинами:
Первая из этих причин действует более или менее постоянно, по мере того как цена, с которой начинается падение заработной платы, более или менее приближается к такому вознаграждению за труд, какое фактически необходимо в данное время для существования рабочего. Повышение или понижение заработной платы представляет явление, общее всем состояниям общества, будь это состояние неизменным, прогрессирующим или регрессирующим. При неизменном состоянии общества заработная плата всецело регулируется увеличением или уменьшением населения. При прогрессирующем состоянии общества заработная плата изменяется в зависимости от того, что растёт более быстрым темпом — капитал или население. При регрессирующем состоянии она изменяется в зависимости от того, что уменьшается более быстрым темпом — капитал или население. Как показывает опыт, капитал и население поочерёдно обгоняют друг друга, благодаря чему заработная плата становится то щедрой, то скудной; мы не можем поэтому сказать ничего определённого о прибыли, поскольку она зависит от заработной платы. По-моему, можно, однако, доказать самым удовлетворительным образом, что в каждом обществе, богатство и население которого растут, независимо от влияния щедрой или скудной заработной платы средняя прибыль должна падать, если только в земледелии не будут вводиться усовершенствования или если хлеб не будет ввозиться по более дешёвой цене. Таково, повидимому, необходимое следствие принципов, которые, как мы установили, регулируют движение ренты. С этим положением вряд ли согласятся сразу те, кто приписывает рост прибыли расширению торговли и открытию новых рынков, где наши товары могут быть проданы дороже, а иностранные товары куплены дешевле, и кто отнюдь не считается при этом ни с состоянием земли, ни с нормой прибыли с последних частей капитала, вложенного в неё. Ничего не приходится слышать так часто, как утверждение, согласно которому прибыль от земледелия регулирует прибыль от продажи товаров не в большей мере, чем прибыль от продажи товаров регулирует прибыль от земледелия. Утверждают, что они поочерёдно занимают ведущее положение; если же прибыль от продажи товаров повышается, что, как говорят, имеет место при открытии новых рынков, то повышается и прибыль от земледелия; ведь защитники этого утверждения признают, что если бы последняя не повышалась, то капитал был бы изъят из земледелия и применён в более прибыльной отрасли. Но если принципы, регулирующие движение ренты, правильны, то, очевидно, что при том же населении и том же капитале прибыль от земледелия не может подняться, а рента -- упасть до тех пор, пока ни одна часть земледельческого капитала не извлекается из обработки земли. Итак, приходится либо допустить -- а это противоречит всем началам политической экономии, -- что прибыль на торговый капитал <имеется в виду прибыль от продажи промышленных товаров. -- Ред.> может значительно повыситься без каких-либо изменений прибыли на земледельческий капитал, либо допустить, что при этих условиях прибыль от продажи товаров не повысится. <Я нашёл у г-на Мальтуса удачную иллюстрацию: он правильно сравнил «почву с большим числом машин, из которых каждая поддаётся непрерывным усовершенствованиям с помощью приложения к ней капитала и в то же время каждая отличается совершенно различными качествами и мощностью». Как, спрашиваю я, может повыситься прибыль, пока мы вынуждены пользоваться машиной, обладающей самыми худшими первоначальными качествами и наиболее низкой мощностью? Мы не можем отказаться от пользования ею, так как оно является условием получения пищи, необходимой для нашего населения, а спрос на пищу согласно нашему предположению не уменьшился; но кто согласился бы пользоваться ею, если бы мог получить более значительную прибыль иным путём?> Именно последнее мнение я считаю единственно правильным. Я не отрицаю, что первый, кто открыл новый и лучший рынок, может в течение известного времени, пока не сказывается действие конкуренции, получать прибыль необычных размеров. Он может продавать вывозимые им товары по более высокой цене, чем те, кому неизвестен новый рынок, или же купить ввозимые товары по более дешёвой цене. Пока этой отраслью занимаются только он или ещё немногие, прибыль их будет выше уровня средней прибыли. Но мы говорим о средней норме прибыли, а не о прибыли немногих отдельных лиц. Нельзя сомневаться в следующем: по мере того как эта отрасль станет широко известна и ею займутся многие, в ввозящей стране благодаря увеличившемуся изобилию иностранного товара и большей лёгкости, с какой он может быть получен, произойдёт такое падение цены его, что продажа его будет давать только среднюю норму прибыли; полученная прибыль будет не только далека от высокой прибыли, которую получали немногие лица, первыми занявшиеся новой отраслью, повысившей сначала среднюю норму прибыли, но и упадёт до обычного уровня. Результаты будут вполне сходны с результатами введения усовершенствованных машин внутри страны. Пока круг лиц, пользующихся машинами, ограничивается одним или немногими фабрикантами, последние могут получать прибыль необычных размеров, потому что они могут продавать свои товары по цене, значительно превышающей издержки производства; но как только пользование этими машинами становится общим для всей отрасли промышленности, цена товаров упадёт до фактических издержек производства, и останется только обычная, установившаяся прибыль. В продолжение периода передвижения капитала из одной отрасли в другую прибыль будет относительно высока в отрасли, к которой притекает капитал; она останется, однако, на этом уровне лишь до тех пор, пока не будет получен требующийся капитал. Есть два пути увеличения благосостояния страны: один путь -- это увеличение средней нормы прибыли, могущее, по моему мнению, иметь место только благодаря удешевлению пищи; но это приносит выгоду лишь тем, кто извлекает доход из применения своего капитала -- в качестве ли фермеров, фабрикантов, торговцев или капиталистов, ссужающих свои деньги под проценты; другой путь -- это изобилие товаров и падение их меновой стоимости, от чего выигрывает всё общество. В первом случае увеличивается доход страны; во втором -- тот же доход даёт новый эффект: страна будет иметь возможность получать большее количество предметов жизненной необходимости и роскоши. Расширение торговли, разделение труда в обрабатывающей промышленности и изобретение машин могут увеличить благосостояние наций только последним путём <за исключением лишь случая, когда расширение торговли позволяет нам получать пищу по действительно более дешёвым ценам>; все эти факторы увеличивают количество продуктов и в весьма значительной степени содействуют благосостоянию и счастью человечества, но они не имеют никакого влияния на норму прибыли, потому что не увеличивают количества продукта в сравнении с издержками производства в земледелии; а пока прибыль в земледелии остаётся неподвижной или уменьшается, прибыли в других отраслях не могут увеличиваться. Итак, прибыль зависит от цены или, скорее, от стоимости пищи. Всё, что облегчает производство последней, будет повышать норму прибыли, как бы скудны или как бы обильны ни сделались товары; наоборот, всё, что увеличивает издержки производства пищи, не увеличивая её количества <если благодаря внешней торговле или изобретению машин товары, потребляемые рабочими, стали бы значительно дешевле, заработная плата понизилась бы; а это, как мы уже указывали прежде, повысило бы прибыль фермера, а следовательно, и всякую иную прибыль>, будет при всех обстоятельствах понижать среднюю норму прибыли. Лёгкость получения пищи выгодна для собственников капитала в двух отношениях: она одновременно увеличивает их прибыль и увеличивает количество потребляемых товаров. Лёгкость получения всех других предметов лишь увеличивает количество товаров. Но если возможность покупать дешёвую пищу имеет такое большое значение и если ввоз хлеба будет иметь тенденцию уменьшать его цену, то, чтобы побудить нас ограничить ввоз, потребовались бы почти неопровержимые доказательства опасности, заключающейся в зависимости части нашего продовольствия от иностранного снабжения; ведь иным путём нельзя доказать необходимость такого ограничения, которое принудительно удерживало бы капитал в тех отраслях, какие он в противном случае покинул бы для более выгодных. Если бы законодательная власть избрала раз навсегда твёрдую политику в вопросах хлебной торговли, если бы разрешила постоянную свободную торговлю, а не поощряла бы или ограничивала ввоз в зависимости от каждого изменения цен, то мы, несомненно, сделались бы страной, регулярно ввозящей хлеб. Мы должны были бы стать таковой вследствие превосходства богатства и населения нашей страны (по сравнению с плодородием нашей почвы) над соседними странами. Для страны может быть выгодно ввозить хлеб либо при условии, что она сравнительно богата, что обработка всей её плодородной земли уже ведётся на высоком уровне и что для получения пищи, необходимой её населению, она вынуждена использовать худшие земли, либо же при условии, что она вообще не имеет плодородной почвы <этот принцип изложен очень обстоятельно г-ном Мальтусом на стр. 42 его «An Inquiry etc.»>. Итак, тем многочисленным выгодам, которые в нашем положении принёс бы нам ввоз хлеба, можно было бы противопоставить только опасности, заключающиеся в зависимости сколько-нибудь значительной части нашего продовольствия от иностранного снабжения. Эти опасности не поддаются очень точной оценке; они до некоторой степени определяются субъективными взглядами на дело, и их нельзя вычислить так же точно, как выгоды, получаемые в противном случае. Обычно указывают, что опасности эти двоякого рода: 1) в случае войны коалиция континентальных держав или же влияние нашего главного врага могут лишить нас нашего обычного снабжения; 2) в случае неурожая за границей вывозящие страны будут иметь возможность -- и используют её на деле -- удержать у себя обычно вывозившуюся часть хлеба для того, чтобы восполнить своё собственное недостаточное снабжение <Именно этот последний взгляд и отстаивает главным образом г-н Мальтус в своём последнем сочинении «The Grounds of an Opinion etc.»>. Если мы сделаемся страной, регулярно ввозящей хлеб, и иностранцы смогут с уверенностью полагаться на спрос нашего рынка, то в странах, богатых зерном, будет обрабатываться в расчёте на вывоз более значительная часть земли. Если мы примем во внимание стоимость хлеба, потребляемого в Англии даже в течение немногих недель, то мы поймём, что для стран континента, снабжающих нас сколько-нибудь значительным количеством хлеба, перерыв в их экспортной торговле не мог бы не сопровождаться в высшей степени разорительным коммерческим бедствием -- бедствием, которому никакой государь или коалиция государей не пожелали бы подвергнуть свой народ; а если бы пожелали, то мерам такого рода не подчинился бы, вероятно, никакой народ. Попытка Бонапарта воспрепятствовать вывозу сырья из России вызвала в большей мере, чем какая-либо другая причина, те поразительные усилия, которые народ этой страны направил против, быть может, самой могущественной силы, какая когда-либо была собрана для покорения другой нации. Громадный капитал, вложенный в землю, не мог бы быть внезапно извлечён при подобных условиях без огромных потерь. Кроме того, избыток хлеба на рынках стран, вывозящих зерно, подействовал бы на всё их снабжение и понизил бы цену хлеба ниже поддающихся подсчёту пределов. Непоступление тех статей прихода, которые имеют столь большое значение во всяком торговом предприятии, привело бы страну к ужасному разорению; и если бы даже она терпеливо переносила его, то сделалась бы неспособной вести войну с какой-либо надеждой на успех. Мы все были свидетелями бедствия в нашей собственной стране и все слышали о ещё большем бедствии в Ирландии, причём оба бедствия были результатом падения цены на хлеб; это произошло к тому же в такое время, когда наш собственный урожай был признан недостаточным, ввоз же регулировался ценами, и мы не испытали никаких результатов переполнения рынка. Какой характер приняло бы это бедствие, если бы цена хлеба упала до 1/2 ф. ст. за квартер или до восьмой части нынешней цены? Ведь воздействие изобилия или недостатка хлеба на его цену не прямо пропорционально увеличению или уменьшению его количества, а неизмеримо больше. Таковы, следовательно, трудности, которые пришлось бы испытывать вывозящим странам. Наше положение было бы тоже нелёгким. Надо признать, что большое уменьшение обычного предложения, доходящее, вероятно, до одной восьмой всего нашего потребления, было бы значительным бедствием; но мы получали столько же хлеба даже тогда, когда земледелие в других странах не регулировалось постоянным спросом нашего рынка. Мы все знаем, какой поразительный эффект оказывает повышение цены на предложение. Нельзя, мне кажется, сомневаться, что мы получали бы значительное количество хлеба из тех стран, с которыми мы не находились бы в состоянии войны; это количество при весьма экономном использовании нашего собственного продукта и при имеющихся запасах <так как Лондон является складочным местом для иностранного хлеба, эти запасы могут быть очень велики> дало бы нам возможность просуществовать до тех пор, пока необходимый капитал и труд не были бы вложены в нашу собственную землю ради будущего производства. Я, конечно, признаю, что это было бы весьма прискорбной переменой, но я глубоко убеждён в том, что мы не были бы поставлены пред такой альтернативой и что, несмотря на войну, к нам свободно поступал бы хлеб, выращиваемый в чужих странах специально для нашего потребления. Даже при самом враждебном отношении к нам Бонапарт разрешал вывоз хлеба в Англию по лицензиям, когда цены были у нас высоки вследствие неурожая; это имело место даже в тот период, когда всякая другая торговля была воспрещена. Такое положение не могло бы, конечно, создаться для нас внезапно; опасность этого рода была бы частично предусмотрена, и против неё были бы приняты надлежащие меры. Было ли бы в таком случае мудрой политикой издавать законы с целью предупреждения бедствия, которое, возможно, никогда не наступило бы, и жертвовать ежегодно доходом в несколько миллионов для того, чтобы гарантировать себя от весьма мало вероятной опасности? Г-н Мальтус рисует нам хлебную торговлю, не стесняемую никакими ограничениями ввоза, в результате которой нас снабжают хлебом Франция и другие страны, где хлеб может доставляться на рынок по цене немногим выше половины той, по которой мы сами можем производить его на некоторых из наших более бедных земель. При этом он недостаточно принимает, однако, в расчёт, что за границей возделывалось бы более значительное количество хлеба, если бы ввоз его сделался установившейся политикой нашей страны. Не может быть ни малейшего сомнения, что при уверенности богатых зерном стран в регулярном спросе на английском рынке, при полной уверенности их в том, что наши законы о хлебной торговле не будут постоянно колебаться между премиями, ограничениями и запрещениями, они возделывали бы значительно большее количество хлеба; опасность значительного уменьшения вывоза вследствие плохих урожаев сделалась бы тогда менее вероятной. Страны, которые никогда ещё не снабжали нас хлебом, могли бы давать нам значительное количество его, если бы мы держались в этом вопросе твёрдой политики. Именно в трудные периоды другие страны были бы особенно заинтересованы в том, чтобы удовлетворять наши потребности, так как меновая стоимость хлеба повышается не прямо пропорционально недостатку предложения, но в два, в три, в четыре раза больше, смотря по размерам этого недостатка. Предположим, что потребление Англии составляет 10 млн. квартеров, денежная цена которых в обычный год равна 40 млн.; если предложение оказалось бы недостаточным на одну четверть, 7 500 тыс. квартеров продавались бы в таком случае не за 40 млн., но, вероятно, за 50 или больше. Тогда, при условии плохого урожая, вывозящая страна довольствовалась бы сама наименьшим количеством, необходимым для её собственного потребления, и воспользовалась бы высокой ценой в Англии, чтобы продать всё, что она могла бы сберечь; хлеб стал бы ведь дороже по сравнению не только с деньгами, но и с другими предметами. Если бы производители хлеба следовали какому-либо другому правилу, они, поскольку речь идёт о богатстве, были бы в худшем положении, чем если бы они постоянно ограничивали производство хлеба нуждами своего собственного народа. Если на обработку земли было затрачено 100 млн. ф. ст. для получения хлеба, необходимого для поддержания существования населения, и ещё 20 млн. для возможности вывоза хлеба, то в неурожайный год был бы потерян весь доход от этих 20 млн.; а это не имело бы места, если бы страна не была вывозящей. Каков бы ни был уровень цен, при котором вывоз мог бы подвергнуться ограничениям в других странах, возможность повышения цены хлеба до такого уровня уменьшилась бы благодаря тому, что в результате нашего спроса выращивалось бы более значительное количество хлеба. Что касается предложения хлеба, то по отношению к отдельным странам обычно наблюдается, что если хлеб уродился плохо в одном округе, то, как правило, урожай хорош в других округах, так как если погода не благоприятствует данной почве или данному местоположению, то она милостива к другой почве или другому местоположению; благодаря этой компенсирующей силе провидение щедро предохранило нас от частых повторений неурожая. Если это наблюдение верно по отношению к одной стране, то во сколько раз правильнее будет оно для всех стран, составляющих в совокупности наш мир? Не будет ли недостаток в одной стране восполнен избытком в другой? Пережитый опыт показал нам, как велика сила высоких цен в деле снабжения; могут ли у нас теперь быть какие-нибудь разумные основания предполагать, что мы можем подвергнуться какой-либо особой опасности в результате нашей зависимости от ввоза некоторого количества хлеба, необходимого для нашего потребления в течение нескольких недель? Насколько мне известно, цена хлеба в Голландии, в стране, которая почти целиком зависит от иностранного снабжения, была поразительно устойчива даже в те бурные времена, которые переживала недавно Европа. Это доказывает самым убедительным образом, несмотря на незначительные размеры этой страны, что последствия неурожая не ложатся исключительно на ввозящие страны. Никто не пытается отрицать, что в земледелии сделаны были большие усовершенствования и что значительный капитал был вложен в землю; однако, несмотря на все эти усовершенствования, мы не справились с теми естественными трудностями, которые являются результатом роста нашего богатства и процветания и заставляют нас обрабатывать с невыгодой наши худшие земли при ограничении или запрещении ввоза хлеба. Если бы мы были предоставлены самим себе и не были скованы законодательными постановлениями, мы извлекли бы постепенно наш капитал из обработки таких земель и ввозили бы продукты, которые мы в настоящее время производим на этих землях. Извлечённый капитал был бы употреблён на производство таких товаров, которые вывозились бы в обмен на хлеб <если бы замечание г-на Мальтуса о том, что в Ирландии нет никаких фабрик, в которые можно было бы вложить капитал с прибылью, было верно, то капитал не извлекался бы из земли, и, следовательно, никакой утечки земледельческого капитала не существовало бы. Ирландия имела бы в этом случае столько же добавочной хлебной продукции, хотя последняя имела бы меньшую меновую стоимость. Доход Ирландии мог бы уменьшиться, но, если бы она не хотела или не могла производить промышленные товары и в то же время не хотела бы обрабатывать землю, она не имела бы совершенно никакого дохода>. Такое распределение части капитала страны было бы более выгодно или оно не было бы принято. Это начало является одним из наиболее прочно установленных в науке политической экономии, и никто не признаёт его с большей готовностью, чем г-н Мальтус. Оно лежит в основе всей аргументации, развиваемой им при сравнении выгод и невыгод, сопровождающих неограниченную хлебную торговлю, в его «Замечаниях по поводу хлебных законов». Однако в своём последнем сочинении, в одной его части, он говорит с большой настойчивостью о той потере земледельческого капитала, которую испытала бы страна, разрешив неограниченный ввоз. Он оплакивает потерю капитала, который в ходе событий стал для нас совершенно бесполезен и затрачивая который мы в действительности терпим убытки. При окончательном усовершенствовании паровой машины или бумагопрядильной машины Аркрайта нам могли бы с таким же основанием сказать, что их не следовало бы вводить в употребление, потому что это привело бы к потере стоимости старых нескладных машин. Не подлежит, конечно, сомнению, что фермеры, арендующие худшие земли, оказались бы в убытке, но выигрыш нации был бы во много раз больше, чем сумма их потерь; после же завершения перехода капитала от земледелия к обрабатывающей промышленности сами фермеры увеличили бы свою прибыль весьма значительно, так же как и всякий другой класс общества, за исключением землевладельцев. Можно было бы однако пожелать, чтобы на всё время действия арендных договоров фермеры были защищены против потерь, которые они, несомненно, понесли бы вследствие новой стоимости денег; последняя же при существующих денежных обязательствах фермеров по отношению к землевладельцам была бы результатом более дешёвой цены хлеба. Было бы справедливо установить ограничительные пошлины на ввоз хлеба на три или четыре года, хотя нация пожертвует при этом гораздо большими суммами, чем те, какие смогут прикопить фермеры благодаря даже временному повышению цены хлеба; затем надо объявить, что по истечении этого периода хлебная торговля будет свободна и ввезённый хлеб не будет обложен никакими другими пошлинами, кроме тех, какими мы будем считать целесообразным обложить хлеб нашего собственного производства <я отнюдь не согласен с Адамом Смитом или с г-ном Мальтусом по вопросу о последствиях обложения налогами предметов первой необходимости. Первый не находит достаточно резких слов для характеристики этих налогов. Г-н Мальтус более снисходителен. Оба они думают, что такие налоги имеют тенденцию уменьшать капитал и производство в несравненно большей степени, чем всякие иные. Я не говорю, что это лучшие из налогов, но они, по моему мнению, не подвергают нас ни одному из тех неудобств в отношении внешней торговли, о которых говорил Адам Смит; результаты их вообще не отличаются значительно от последствий всех других налогов. Адам Смит думал, что такие налоги падают исключительно на землевладельца; г-н Мальтус думает, что они падают поровну на землевладельца и на потребителя. Мне же кажется, что они падают целиком на потребителя>. Г-н Мальтус, несомненно, прав, говоря, что «если бы только лучшие способы обработки земли, применяемые теперь в некоторых частях Великобритании, получили всеобщее распространение и если бы путём дальнейшего накопления и более равномерного распределения капитала и мастерства вся страна была доведена до уровня, соответствующего естественным преимуществам ее почвы и её положения, то количество добавочного продукта было бы огромно и доставило бы средства существования для весьма значительного прироста населения» <«Grounds etc.», p. 22>. Соображение это вполне правильно и в высшей степени отрадно; оно показывает, что мы ещё весьма далеки от истощения наших ресурсов и что мы можем рассчитывать на такое увеличение процветания и богатства, благодаря которому мы далеко превзойдём уровень, достигнутый какой-либо из опередивших нас стран. Это может иметь место при любой системе — как при свободном, так и при ограниченном ввозе, — хотя и будет совершаться не одинаково ускоренным темпом и не может служить аргументом против использования нами в полном размере всех представляющихся нам выгод на каждой стадии нашего развития; это отнюдь не может служить основанием к тому, чтобы не использовать наш капитал наилучшим образом с целью обеспечить себе наибольший возможный доход. Как я уже сказал раньше, г-н Мальтус сравнил землю с большим числом машин, каждую из которых можно непрерывно улучшать при применении к ней капитала, причём каждая имеет в то же время совершенно различные основные свойства и мощности. Было ли бы разумно пользоваться некоторыми из этих худших машин с большими затратами, тогда как мы могли бы с меньшими затратами взять самые лучшие напрокат у наших соседей? Г-н Мальтус думает, что низкая денежная цена хлеба была бы невыгодна для низших классов общества потому, что реальная меновая стоимость труда, т. е. возможность для него располагать предметами первой необходимости, комфорта и роскоши, не увеличилась бы, а уменьшилась вследствие этой низкой денежной цены. Некоторые его замечания по этому вопросу имеют, несомненно, большое значение; однако он недостаточно учитывает влияние лучшего распределения национального капитала на положение низших классов. Оно было бы для них благоприятно, потому что тот же самый капитал давал бы занятие большему количеству рук, не говоря уже о том, что более значительная прибыль привела бы к дальнейшему накоплению; таким образом, действительно высокая заработная плата, которая не преминула бы улучшить на продолжительное время положение рабочих классов, стала бы стимулом к увеличению населения. Влияние на положение этого класса было бы в данном случае почти таким же, как и влияние усовершенствованных машин, которые, как это теперь уже более не подвергается сомнению, имеют явную тенденцию повышать реальную заработную плату рабочего <Более поздние высказывания Рикардо о влиянии машин на заработную плату рабочего см. «Начала политической экономии и налогового обложения», гл. XXXI. -- Ред.>. Г-н Мальтус замечает также, что «из торговых и промышленных классов выгодами свободного ввоза будут пользоваться только те, кто непосредственно занят во внешней торговле». Если наша точка зрения на ренту правильна -- если рента поднимается, когда падает средняя прибыль, и падает, когда средняя прибыль поднимается, и если последствием свободного ввоза хлеба является понижение ренты, — точка зрения, принятая и отлично проиллюстрированная самим г-ном Мальтусом, -- то все, кто заинтересован в торговле, т. е. капиталисты всякого рода, будь то фермеры, фабриканты или торговцы, значительно увеличат свою прибыль. Падение цены хлеба, являющееся результатом усовершенствований в земледелии или же свободного ввоза, понизит меновую стоимость одного только хлеба -- цена всех прочих товаров не будет затронута. Если же упадёт цена труда, -- а при падении цены хлеба это должно иметь место, -- то реальная прибыль всех видов должна повыситься; и никто не выиграет от этого так основательно, как промышленная и торговая часть общества. Если спрос на товары внутреннего производства со стороны землевладельцев сократится вследствие падения ренты, то он увеличится в гораздо большей степени благодаря возросшему богатству торговых классов. Я не боюсь, что при введении ограничений ввоза хлеба мы потеряем какую-либо часть нашей внешней торговли; в этом пункте я схожусь с г-ном Мальтусом. При свободной торговле хлебом внешняя торговля значительно расширилась бы, но вопрос заключается не в том, сможем ли мы удержать нашу внешнюю торговлю на прежнем уровне, а в том, будет ли она в обоих случаях одинаково прибыльна. Наши товары не стали бы продаваться за границей по более высокой или более низкой цене благодаря свободе торговли и дешёвой цене хлеба, но издержки производства были бы весьма различны для наших фабрикантов в зависимости от того, стоила ли пшеница 80 или 60 шилл. за квартер; прибыль увеличится, следовательно, на всю сумму издержек, сбережённых в производстве вывозимых товаров. Г-н Мальтус приводит соображение, впервые высказанное Юмом, о том, что повышение цен оказывает магическое действие на промышленность; он констатирует также, что понижение цен оказывает соответственно угнетающее влияние <«Grounds etc.», p. 32>. Мы уже установили, что повышение цен является одним из преимуществ, уравновешивающих многие бедствия, сопровождающие обесценение денег, независимо от того, происходит ли последнее в результате действительного падения стоимости драгоценных металлов, повышения достоинства монеты или чрезмерных эмиссий бумажных денег. Говорят, что повышение цен производит благодетельное действие, ибо улучшает положение торговых классов за счёт получателей постоянного дохода и что именно среди торговых классов производятся большие накопления и поощряется промышленная деятельность. Утверждают также, что, хотя возвращение к лучшей денежной системе в высшей степени желательно, оно всё же имеет тенденцию создать временную задержку накопления и промышленной деятельности, ибо оказывает на торговые элементы общества угнетающее влияние, являющееся результатом падения цен; г-н Мальтус предполагает, что к такому же результату приведёт и падение цены хлеба. Если бы замечание, сделанное Юмом, и было вполне обосновано, оно всё же не было бы применимо к рассматриваемому случаю; ведь каждый предмет, который хотел бы продать фабрикант, будет так же дорог, как и прежде; станет дешёвым лишь то, что фабрикант хотел бы купить, т. е. хлеб и труд, а это увеличит его барыши. Я должен опять заметить, что повышение стоимости денег понижает цены всех предметов, тогда как понижение цены хлеба понижает только заработную плату и, следовательно, повышает прибыль. Итак, если процветание торговых классов совершенно несомненно влечёт за собой накопление капитала и поощряет производительную деятельность, то вернее всего этого можно добиться путём понижения цены хлеба. Я не могу согласиться с г-ном Мальтусом, когда он одобряет мнение Адама Смита, согласно которому «то же количество производительного труда, занятого в обрабатывающей промышленности, никогда не может дать такого большого воспроизводства, как в земледелии». Я полагаю, что г-н Мальтус просмотрел в этой цитате слово «никогда», ибо в противном случае приведённое мнение гораздо больше соответствует учению экономистов <Физиократов. -- Ред.>, чем его собственным взглядам; он сам ведь установил и, по моему мнению, вполне правильно, что при первом заселении страны и на каждой дальнейшей стадии её развития часть её капитала всегда вложена в такую землю, которая даёт только прибыль с капитала и не приносит никакой ренты. Производительный труд, приложенный к такой земле, никогда действительно не даёт такого большого воспроизводства, как тот же самый производительный труд, затраченный в обрабатывающей промышленности. Разница, конечно, невелика и весьма охотно приносится в жертву ввиду той обеспеченности и респектабельности, которые связаны с приложением капитала к земле. Разве в младенческом состоянии общества, когда рента ещё не уплачивается, стоимость, воспроизводимая в простейших производствах и в изготовлении орудий обработки земли, не будет при данном капитале по меньшей мере равна той стоимости, какую дал бы тот же капитал, если бы он был вложен в землю? Это мнение находится на самом деле в противоречии со всеми общими положениями г-на Мальтуса, которые он так хорошо защищал в своём последнем сочинении, как и во всех других. В «Исследовании», говоря о том взгляде Адама Смита, который я считаю сходным с вышеприведённым, г-н Мальтус замечает: «Я не могу, однако, согласиться с ним в том, что вся земля, которая даёт нам пищу, обязательно даёт и ренту. Земля, постепенно поступающая в обработку в развивающихся странах, может оплачивать только прибыль и труд. Надлежащая прибыль на занятый капитал, включающая, конечно, оплату труда, будет всегда достаточным стимулом для обработки». Но те же мотивы будут служить стимулом для других людей производить промышленные товары, и на одних и тех же стадиях общественного развития прибыль тех и других будет почти одинакова. В ходе моего изложения мне нередко приходилось подчёркивать, что рента никогда не падает без соответствующего повышения прибыли на капитал. Если на сегодняшний день мы считаем более удобным ввозить хлеб, чем производить его, то мы исходим при этом исключительно из его более дешёвой цены. Если мы будем ввозить хлеб, то часть капитала, которая была вложена в землю последней и не приносила ренты, будет извлечена. Рента тогда упадёт, а прибыль повысится, и ещё одна часть капитала, вложенного в землю, подойдёт теперь под ту категорию его, которая приносит только обычную прибыль на капитал. Если хлеб можно ввозить по более дешёвой цене, чем его можно вырастить у нас, хотя бы и не на самой плохой земле, то рента опять-таки упадёт, а прибыль поднимется; тогда другая и лучшая категория земли будет обрабатываться только ради прибыли. На каждом этапе нашего развития прибыль на капитал увеличивалась бы, а рента падала, и всё большее количество земли оставалось бы заброшенным. Кроме того, страна сберегла бы всю разницу между ценой, по которой хлеб может быть выращен у нас, и ценой, по которой он может быть ввезён, на всём количестве его, которое мы получаем из-за границы. Г-н Мальтус в высшей степени умело проанализировал значение дешёвой цены хлеба для тех, кто содействует покрытию процентов с нашего колоссального государственного долга. Я всецело соглашаюсь со многими его выводами по этому вопросу. Я убеждён, что богатство Англии значительно увеличилось бы благодаря большому понижению цены хлеба; однако вся денежная стоимость этого богатства уменьшилась бы. Она уменьшилась бы на всю разницу в денежной стоимости потреблённого хлеба и увеличилась бы на всю увеличившуюся меновую стоимость товаров, которые были бы вывезены в обмен на ввезённый хлеб. Однако увеличение денежной стоимости богатства вследствие вывоза отнюдь не покрывало бы уменьшения её от понижения цены на хлеб, потребляемый внутри страны. Но, хотя и верно, что денежная стоимость массы наших товаров уменьшилась бы, из этого отнюдь не следует, что наш ежегодный доход уменьшился бы в той же степени. Защитники свободного ввоза основывают своё мнение о выгодности последнего на убеждении, что доход упал бы не в такой степени. А так как налоги платятся из нашего дохода, то бремя их в действительности не увеличилось бы. Предположим, что доход страны понизился с 10 до 9 млн., в то время как стоимость денег изменилась в отношении 10 : 8; уплатив 1 млн. из меньшей суммы, такая страна получила бы более значительный чистый доход, чем если бы она уплатила 1 млн. из большей суммы. Верно также, что держатель государственных бумаг получил бы в займах последних лет больше реальной стоимости, чем та, на которую он подписался, но, так как держатели государственных бумаг сами несут весьма значительную часть государственного бремени и участвуют, следовательно, в уплате процентов, который они получают, то на них падёт немалая доля налогов; если же мы оценим добавочную прибыль, получаемую торговым классом, по её истинной стоимости, то увидим, что они всё же окажутся в значительном выигрыше, несмотря на подлинное увеличение уплачиваемых ими налогов. Пострадали бы одни только землевладельцы, ибо им действительно пришлось бы платить больше не только без адэкватной компенсации, но и при уменьшившейся ренте. Правда, держатели государственных бумаг и те, кто живёт на постоянный доход, могут утверждать, что они больше всех пострадали во время войны. Стоимость их дохода уменьшилась вследствие повышения цены хлеба и понижения стоимости бумажных денег, и в то же время ввиду падения курса государственных фондов сильно упала стоимость их капиталов. Кроме того, они пострадали от совершённых недавно изъятий из фонда погашения, которые, как предполагают, будут совершаться и дальше, -- мера величайшей несправедливости, нарушающая торжественно принятые обязательства; ведь фонд погашения был так же обусловлен договором, как и дивиденд, и сделать его источником дохода означает нарушение всех здравых принципов. Именно рост этого фонда должен дать нам средства для ведения будущих войн, если мы не хотим вообще отказаться от системы фундированных займов. Затронуть фонд погашения — значит получить ничтожную временную помощь, пожертвовав большой выгодой в будущем. Это равносильно крушению всей системы г-на Питта, положенной в основу создания этого фонда. Он исходил из убеждения, что ценою небольшого обременения в настоящем можно получить огромную выгоду в будущем. Мы были свидетелями тех благодеяний, которые явились результатом его непреклонной решимости сохранить этот фонд неприкосновенным даже тогда, когда его теснила величайшая финансовая нужда и трёхпроцентные бумаги упали до 48 за 100; мы можем поэтому, я полагаю, сказать без всяких колебаний, что, если бы он был жив, он не одобрил бы принятых теперь мер. Возвращаясь, однако, к обсуждаемому мною предмету, я сделаю ещё только одно замечание: я буду очень сожалеть, если внимание к интересам какого-нибудь отдельного класса приведет к задержке роста богатства и населения страны. Если интересы землевладельцев окажутся достаточно влиятельными, чтобы заставить нас отказаться от всех выгод, связанных с ввозом хлеба по дешёвой цене, то они должны будут также повлиять на нас и в смысле отказа от введения каких-либо усовершенствований в земледелии и улучшения орудий обработки земли. Ибо несомненно, что благодаря таким усовершенствованиям хлеб становится настолько же дешевле, рента так же понижается, а способность землевладельца платить налоги уменьшается, хотя бы временно, в такой же мере, как и вследствие ввоза хлеба. Итак, чтобы быть последовательными, мы должны одним ударом приостановить все усовершенствования и запретить ввоз хлеба. О покровительстве земледелию (Лондон 1822 г.)
Введение
Нельзя, я думаю, отрицать, что в течение нескольких последних лет достигнуты большие успехи в деле распространения правильных взглядов на нецелесообразность обложения запретительными пошлинами ввоза иностранного хлеба. К несчастью, однако, по этому вопросу всё ещё существует много предрассудков; следует поэтому опасаться, что заблуждения, свойственные обычно тем, кто страдает от бедственного положения нашего земледелия, могут привести нас скорее к мерам, увеличивающим ограничения, чем к единственному действительному средству против этих бедствий — постепенному приближению к системе свободной торговли. Именно действующему хлебному закону следует приписать значительную часть этих бедствий; я надеюсь доказать, что занятие фермера будет подвергаться постоянным случайностям и находиться в особо невыгодных условиях по сравнению со всеми другими занятиями до тех пор, пока какая-либо система ограничения ввоза иностранного хлеба будет оставаться в силе; ибо благодаря действию такой системы цена хлеба в нашей стране будет постоянно значительно выше цены его в других странах. Однако, прежде чем перейти к рассмотрению этого вопроса, что составляет мою главную задачу, я хочу остановиться на некоторых из господствующих мнений, ежедневно высказываемых по вопросу о причинах настоящего бедствия, а именно: на учении о достаточной цене, на вопросе о налогах, о денежном обращении и т. д. Рассмотрев эти вопросы, мы сможем лучше исследовать столь важный вопрос о характере твёрдой политики, которую наша страна должна принять по отношению к хлебной торговле и дать, таким образом, народу наибольшую уверенность в возможности получать хлеб по дешёвой и стабильной цене при обильном предложении этого столь необходимого товара. Отдел первый. О достаточной цене
Словами «достаточная цена» обычно обозначается цена, по которой хлеб может быть произведён: она включает в себя все расходы, в том числе и ренту, и оставляет производителю справедливую прибыль на его капитал. Из этого определения следует, что по мере того, как страна вынуждена для поддержания возрастающего населения переходить к обработке более бедных земель, цена хлеба, чтобы быть достаточной, должна повышаться. Если даже такие бедные земли и не приносят совсем ренты, то всё же благодаря более высоким расходам по обработке их в сравнении с любой другой землёй, поступавшей в обработку ранее и дающей то же количество продукта, эти расходы могут быть возмещены производителю только путём повышения цены. — «Я знаю округа в нашей стране, — говорит г-н Айвсон <Report, Agricultural Committee, 1821, р. 338>, — в которых земля наилучшего качества производит от четырёх до пяти квартеров с акра. Я знаю, что имеются фермы, которые дают в среднем 4 квартера пшеницы с акра, или 32 бушеля». — «В какой части королевства?» — «В Уилтшире». — «А как вы оцениваете земли второго разряда?» — «Я думаю, что средней землёй или землёй второго разряда — то, что я назвал бы землёй среднего качества, но хорошо обрабатываемой, — может считаться та, которая приносит 2 1/2 квартера». — «А земли низшего качества?» — «От 12 до 15 бушелей с акра». Г-ну Гарвею предложили вопрос: «Как велика, по вашим сведениям, низшая рента, какую уплачивали когда-либо за худшую землю, на которой выращивается хлеб?» — «18 пенсов с акра». Г-н Гарвей заявил далее, что за последние десять лет он получил со своей земли в среднем по 30 бушелей пшеницы с акра. Показания г-на Уэкфилда сводились к тому же, что и показания г-на Айвсона, но, по его словам, разница между количеством пшеницы, получаемым с акра находящейся под обработкой лучшей и с акра худшей земли, составляла не меньше 32 бушелей, ибо, как он сказал, «на морском побережье Норфолка, Суффолка, Эссекса и Кента урожай считается плохим, если он ниже 40 бушелей с акра»; к этому он прибавил: «Я не думаю, чтобы худшие земли давали свыше восьми бушелей с акра». Предположим теперь, что население Англии составляет только половину его теперешних размеров и что нет никакой необходимости переходить к обработке земель, которые дают меньше 32 бушелей пшеницы с акра. Какова была бы в этом случае достаточная цена? Может ли кто-нибудь сомневаться в том, что она держалась бы на таком низком уровне, при котором мы были бы вывозящей страной, а не ввозящей, при условии, что на континенте цены оставались бы в среднем на том же уровне, на каком они были в течение последних пяти или десяти лет? Правда, земля такого качества приносит теперь 32 бушеля и приносила бы не больше при сделанном мною предположении, но разве не верно, что стоимость 32 бушелей, производимых теперь, определяется издержками производства 12 или 15 бушелей на худших землях, о которых говорит г-н Айвсон? Если издержки производства 15 бушелей пшеницы так же велики теперь, как издержки производства 30 бушелей прежде, то для того, чтобы быть достаточной, цена должна удвоиться, ибо отношение, в котором должна повыситься цена, чтобы компенсировать производителя за его расходы, не зависит ни от произведённого количества, ни от потребляемого количества, а только от издержек производства. Разница между стоимостью того количества хлеба, которое получено на хорошей земле, и стоимостью его на плохой, всегда составляет ренту. Таким образом, прибыль арендаторов хорошей и плохой земли будет одинакова, но рента с лучшей земли будет превосходить ренту с худшей на всю разницу в количестве продукта, который земля может дать при тех же расходах. Все признают теперь, что рента является следствием повышения цены хлеба, а не его причиной. Все соглашаются также, что единственной постоянной причиной повышения стоимости хлеба является увеличение издержек его производства, вызываемое необходимостью обрабатывать худшие земли, с которых при затрате того же количества труда нельзя получить то же количество продукта. Разве не верно, что рента с лучшей земли регулируется тем меньшим количеством в 15 бушелей, которым мы должны теперь довольствоваться на наших более бедных землях? Рента, представляющая теперь добавочный расход при обработке земли, дающей 32 бушеля, и равная стоимости 17 бушелей, т, е. разнице между 15 и 32 бушелями, не могла бы существовать, если бы обрабатывалась только земля, дающая 32 бушеля. Итак, если издержки производства 15 бушелей на плодородной земле, включая расход на ренту, и издержки производства того же количества на плохой земле без уплаты ренты составляют теперь столько же, сколько составляли издержки производства 30 бушелей на плодородной земле в прежние времена, когда рента не уплачивалась, то цена хлеба должна удвоиться. Таким образом оказывается, что если по мере прогресса общества ввоз хлеба совершенно не имеет места, то для прокормления увеличивающегося населения мы будем постоянно вынуждены прибегать к обработке худших земель; с каждым дальнейшим шагом нашего прогресса цена хлеба должна будет повышаться, а вместе с этим повышением неизбежно будет увеличиваться и рента с лучшей земли, которая поступила в обработку раньше. Более высокая цена становится необходимой как компенсация за меньшее количество, которое земля даёт теперь; но эта более высокая цена отнюдь не должна рассматриваться как благо; она никогда не существовала бы, если бы тот же урожай получался с помощью меньшего количества труда, — она не существовала бы, если бы благодаря приложению труда к обрабатывающей промышленности мы получали этот хлеб косвенным образом путём вывоза продукции промышленности в обмен на хлеб. Высокая цена, поскольку она является следствием высоких издержек, представляет зло, а не благо; цена высока, потому что на получение хлеба затрачивается большое количество труда. Если бы для получения его затрачивалось лишь немного труда, то большее количество труда, которым располагает страна и который является единственным подлинным источником её богатства, оставалось бы в её распоряжении и могло быть затрачено для получения других желательных ей полезных предметов. Отдел второй. О влиянии повышения заработной платы на цену хлеба
Иные защитники ограничений хлебной торговли признают, вероятно, правильность многих положений, высказанных в предыдущем отделе. Они, однако, прибавят: легко, конечно, доказать, что покровительственные пошлины на ввозимый хлеб нельзя оправдать на том только основании, что для производства в нашей стране данного количества хлеба нужно затратить больше труда; такие пошлины необходимы всё же, чтобы защитить фермера от тех повышений заработной платы в нашей стране, которые вызываются налогами, падающими на рабочие классы; последние должны получить компенсацию от предпринимателей путём повышения заработной платы. Этот аргумент исходит из предположения, что высокая заработная плата имеет тенденцию повышать цену товаров, на которые затрачивается труд. Если, говорят они, до введения налогов и повышения заработной платы, являющегося их следствием, фермер мог конкурировать с иностранными производителями хлеба, то он не может делать это, будучи вынужден нести бремя, от которого свободен его конкурент. Этот аргумент полностью ошибочен: фермер отнюдь не поставлен в невыгодное положение по сравнению со своим конкурентом вследствие повышения заработной платы. Если бы, благодаря налогам, которые уплачиваются рабочими классами, заработная плата увеличилась, а это, по всей вероятности, имело бы место, то это в одинаковой степени затронуло бы все категории производителей. Если будет признано необходимым, чтобы для вознаграждения фермеров повысилась цена хлеба, то повышение цен одежды, шляп, обуви и всех других товаров сделается также необходимым, чтобы вознаградить производителей этих предметов. Либо, следовательно, цена хлеба не должна повышаться, либо цены всех других товаров должны повыситься вместе с ней. Если ни хлеб, ни какой-либо другой товар не повышается в цене, то их относительная стоимость будет такая же, как и прежде; если все они повысятся в цене, то и тогда положение будет прежним. Либо покровительственные пошлины нужны для всех товаров, либо не нужны ни для одного. Наложить покровительственные пошлины на все товары было бы нелепо, потому что никто не выиграл бы от этого, — это ничуть не изменило бы относительной стоимости товаров; а ведь только путём изменения относительной стоимости товаров, а не одним лишь изменением цены, можно оказать покровительство какой-нибудь отрасли промышленности. Если бы Англия давала Германии ярд самого тонкого сукна за квартер пшеницы, то стремление её вести эту торговлю не увеличилось бы и не уменьшилось оттого, что цена как хлеба, так и сукна повысилась бы на 20%. Всякая внешняя торговля в конечном счёте сводится к обмену товаров; деньги представляют только меру, с помощью которой устанавливаются относительные количества товаров. Ни один товар не может быть ввезён, если не вывозится какой-либо другой товар; вывозимый же товар должен также повыситься в цене вследствие повышения заработной платы. Весьма существенно, чтобы допускался возврат пошлины на вывозимый товар, если на ввозимый товар уплачивается покровительственная пошлина. Но если не допускается ни возврат пошлины в одном случае, ни покровительственная пошлина в другом, то результат получается тот же, потому что и в том и в другом случае за данное количество товара, производимого внутри страны, будет получаться одно и то же количество иностранного товара. Если цена квартера хлеба повышается благодаря повышению заработной платы с 60 шилл. до 75 шилл., или на 25%, а цена некоторого количества шляп или сукна повышается в силу той же самой причины в том же отношении, то импортёр хлеба в Англию потерял бы ровно столько же на товаре, который он вывозит, сколько выиграл бы на хлебе, который он ввозит. Если бы торговля была свободной, то цена хлеба не повысилась бы с 60 до 75 шилл., несмотря на повышение заработной платы. Не повысилась бы также в силу этой причины ни цена сукна, ни цена шляп или обуви. Но если бы я даже допустил, что цены их повысятся, то для хода моей аргументации это не составило бы никакого различия; мы тогда вывозили бы деньги в обмен на хлеб, потому что никакой другой товар не мог бы быть так выгодно использован в уплату за хлеб, — ведь, по нашему предположению, цены всех других товаров повысились. Вывоз денег постепенно уменьшил бы их количество и, следовательно, повысил бы их стоимость в нашей стране, в то время как ввоз их в другие страны произвёл бы в последних противоположное действие: он увеличил бы количество денег и понизил бы их стоимость, и, таким образом, цена хлеба, сукна, шляп и всех других предметов в Англии оставалась бы в том же отношении к ценам тех же товаров в других странах, в каком она находилась до повышения заработной платы. Повышение заработной платы, если оно становится общим, приводит при всех условиях к понижению прибыли и не повышает товарных цен. Если же повышаются цены всех товаров, то ни один производитель от этого не выигрывает. Какое значение имеет для него то обстоятельство, что он может продавать свой товар на 25% дороже, если он в свою очередь будет вынужден давать на 25% больше за каждый товар, который он покупает? Его положение будет совершенно одинаковым, когда он продаёт свой хлеб на 25% дороже и платит на 25% больше за шляпы, обувь, одежду и т. д. и т. д. или когда он продаёт свой хлеб по обычной цене и покупает все товары, которые он потребляет, по той же цене, по которой он покупал их прежде. Итак, ни один класс производителей не имеет права на покровительство на основании повышения заработной платы, потому что повышение заработной платы затрагивает в одинаковой степени всех производителей; оно не повышает цен товаров, ибо понижает прибыль; а если бы оно повысило цену товаров, то повысило бы их в одном и том же отношении и потому не изменило бы их меновой стоимости. Только в том случае, когда в силу вмешательства правительства изменяется относительная стоимость товаров, можно оправдать любой налог, действие которого защищало бы нас против ввоза иностранного товара. Многие предполагают, что повышение цены хлеба повлечёт за собой повышение цены всех других предметов; этот взгляд основан на ошибочном мнении об эффекте общего повышения заработной платы. Цена хлеба повышается потому, что увеличивается трудность его производства и повышаются издержки последнего; она ничуть не повысилась бы, если бы одновременно повысились цены всех других предметов. Для шляпочника и суконщика повышение цен действительно происходит, если они вынуждены отдавать в обмен за хлеб один больше шляп, а другой больше сукна; они совершенно не почувствовали бы повышения, и было бы невозможно определить, кто уплатил за возросшие издержки производства, если бы цены их товаров также повысились и товары обменивались бы на то же количество хлеба. Можно установить как принцип, что всякая причина, влияющая одинаково на все товары в данной стране, не изменяет их относительной стоимости и не приносит никакой выгоды иностранным конкурентам; но любая причина, оказывающая воздействие только на один товар, изменяет его стоимость по отношению к другим, если не уравновешивается адэкватной пошлиной; это предоставит выгоду иностранному конкуренту и создаст тенденцию к лишению нас выгодной отрасли торговли. Отдел третий. О влиянии налогов, которыми облагаются отдельные товары
В силу тех же причин, по которым покровительственные пошлины вообще нельзя оправдать повышением заработной платы, чем бы последнее ни было вызвано, их, очевидно, нельзя защищать при всеобщем налоговом обложении, затрагивающем одинаково все классы производителей. К числу таких налогов принадлежит подоходный налог; он затрагивает одинаково всех, кто употребляет капитал; и даже те, кто наиболее благосклонно относится к покровительственным пошлинам, никогда ещё не высказывались в пользу какой-нибудь покровительственной пошлины в связи с подоходным налогом. Но налог, одинаково затрагивающий все отрасли, принадлежит к той же категории, что и подоходный налог, потому что после уплаты налога стоимость продукции всех отраслей по отношению друг к другу сохраняется в том же размере, как и до обложения. Повышение заработной платы, подоходный налог или пропорциональный налог на все товары — все они действуют одинаковым образом: не меняют относительной стоимости товаров и потому не ставят нас в сколько-нибудь невыгодное положение в нашей торговле с другими странами. Мы действительно страдаем от неудобств, связанных с уплатой налога, но у нас нет никакой возможности освободиться от этого бремени. Однако налог, падающий исключительно на производителей отдельного товара, имеет тенденцию повышать цену этого товара, и если он не повысит её, то производитель его окажется в невыгодном положении в сравнении со всеми другими производителями; он уже не будет получать обычную среднюю прибыль от своего промысла. Благодаря повышению цены стоимость этого товара изменяется в сравнении с другими товарами. Если на ввоз такого же товара из других стран не налагается никакая покровительственная пошлина, это несправедливо по отношению к производителю внутри страны, и не только по отношению к производителю, но и по отношению к стране, к которой он принадлежит. В интересах общества производитель не должен быть вытеснен из той отрасли промышленности, которую он выбрал бы при системе свободной конкуренции и которой он стал бы придерживаться, если бы всякий другой товар облагался одинаково с его товаром. Налог, падающий исключительно на этого производителя, в действительности представляет премию в таком же размере на ввоз того же товара из-за границы; и, чтобы восстановить конкуренцию на справедливом уровне, было бы необходимо не только обложить ввозимый товар таким же налогом, но и позволить возврат пошлины в таком же размере при вывозе товара, произведённого внутри страны. Производители хлеба подвергаются обложению некоторыми из таких особенных налогов, как десятина, часть налога на бедных и, быть может, один или два других налога; все эти налоги имеют тенденцию повышать цену хлеба и других сырых материалов в размере, равном этим особенным тяготам. Итак, пошлина должна была бы быть наложена на ввоз хлеба в таком же размере, в каком эти налоги повышают цену хлеба. Если в силу этих причин цена хлеба повышается на 10 шилл. с квартера, следовало бы наложить пошлину в 10 шилл. на ввоз иностранного хлеба и допустить возврат пошлины в этом же размере при вывозе хлеба. При помощи такой пошлины и возврата пошлины эта отрасль была бы поставлена в такое же положение, как если бы она никогда не подвергалась обложению, и мы были бы совершенно уверены, что капитал никогда не привлекался бы в эту отрасль и не изымался бы из неё с невыгодой для интересов страны. Величайшее благо для страны, если её правительство воздерживается от влияния на собственника в деле того или иного распоряжения капиталом, какое собственник может считать для себя наиболее выгодным, т. е. не поощряет его и не ставит ему препятствий. Обложение десятиной и т. д. исключительно фермера не создаёт для него ещё никакого препятствия, если нет иностранной конкуренции, потому что он будет в состоянии повысить цену своего продукта, а если бы он не мог сделать это, он покинул бы отрасль, которая перестала доставлять ему обычную прибыль, установившуюся во всех других отраслях. Однако, при разрешении ввоза, ввозу иностранного хлеба оказывалось бы излишнее поощрение, если только иностранный товар не был бы обложен пошлиной, равной десятине или всякому другому исключительному налогу, который налагается на производителя внутри страны. Но у отечественного производителя были бы всё же основания жаловаться, если бы ему отказали в возврате пошлины при вывозе хлеба, потому что он мог бы тогда сказать: «До того, как вы наложили пошлину, и до того, как цена моего продукта повысилась благодаря этой пошлине, я мог конкурировать с иностранным производителем на иностранных рынках; повысив цену моего хлеба, вы лишили меня этой выгоды; верните мне поэтому сумму, равную этой пошлине, и тогда вы восстановите для меня прежнее положение во всех отношениях, как относительно моих соотечественников в качестве производителей других товаров, так и относительно иностранных производителей сырых материалов». И его требование пришлось бы удовлетворить в согласии как со всеми принципами справедливости, так и с важнейшими интересами страны. Отдел четвертый. О влиянии богатого урожая на цену хлеба
В одном из предыдущих отделов я старался показать, что цена хлеба, чтобы быть достаточной, должна оплатить все расходы по его производству, включая в эти расходы установившуюся прибыль на занятый капитал. Действительно, только при соблюдении этих условий предложение хлеба регулируется в среднем за ряд лет. Если полученная цена будет меньше достаточной, то прибыль понизится или исчезнет совершенно. Если цена будет больше достаточной, то прибыль будет высока. В первом случае капитал будет извлечён из земледелия, и предложение постепенно приспособится к спросу. Во втором случае капитал будет привлечён в земледелие, и предложение возрастёт. Но, несмотря на то, что в предложении хлеба проявляется тенденция приспособляться к спросу по достаточным ценам, нет никакой возможности в точности исчислить влияние времён года. Иногда в течение нескольких лет подряд урожаи будут богаты; в другое время в течение такого же периода урожаи будут скудны и недостаточны. Если на рынке в силу ряда хороших урожаев будет изобилие хлеба, он упадёт в цене не в той пропорции, в какой количество превышает обычный спрос, а в значительно большей степени. Спрос на хлеб при данном количестве населения необходимо должен быть ограничен; и хотя, может быть, верно, и несомненно верно, что, когда хлеб в изобилии и дёшев, количество потребляемого хлеба возрастёт, всё же столь же несомненно, что его общая стоимость уменьшится. Предположим, что обычный спрос Англии равен 14 млн. квартеров пшеницы и что в результате богатого урожая произведён 21 млн. квартеров. Если достаточная цена составляла 3 ф. ст. за квартер, а стоимость 14 млн. квартеров — 42 млн. ф. ст., то не может быть ни малейшего сомнения, что 21 млн. квартеров имел бы значительно меньшую стоимость, чем 42 млн. ф. ст. Ни для какого принципа нельзя найти лучшего доказательства, чем для того, что незначительное увеличение количества весьма сильно влияет на цену. Это верно для всех товаров, но ни об одном из них нельзя этого утверждать с такой уверенностью, как о хлебе, главной статье питания народа. Этот принцип, мне кажется, никогда не отрицали те, кто обращал внимание на этот предмет. Действительно, некоторые пытались определить то падение цены, какое имело бы место, если исходить из различных пропорций излишка по отношению к среднему количеству. Однако такие расчёты должны быть очень обманчивы, так как нельзя установить общее правило для изменений цены пропорционально количеству. Это правило было бы различно в различных странах; оно должно зависеть в основном от богатства или бедности страны, от её возможности сохранить излишек для будущего сезона. Кроме того, это правило должно зависеть от представления о вероятном соответствии или несоответствии будущего предложения будущему спросу. Однако я считаю всё же несомненным, что общая стоимость богатого урожая будет всегда меньше, чем общая стоимость среднего урожая, и что общая стоимость ограниченного урожая будет значительно больше, чем общая стоимость среднего урожая. Если бы в Лондоне ежедневно продавались 100 тыс. хлебов и предложение хлеба сразу сократилось бы до 50 тыс. хлебов в день, то может ли кто-либо сомневаться, что цена каждого хлеба повысилась бы значительно больше чем вдвое? Богатый будет потреблять точно такое же число хлебов, хотя бы цена их увеличилась втрое или вчетверо. Если бы, с другой стороны, ежедневно вместо 100 тыс. хлебов поступали в продажу 200 тыс., можно ли было бы сбыть их без понижения цены, значительно превосходящего увеличение количества? Почему вода не имеет никакой стоимости, если не вследствие её изобилия? Если бы хлеб был столь же изобилен, он имел бы не большую стоимость, независимо от того, какое количество труда могло быть затрачено на его производство. В доказательство правильности этого взгляда я могу сослаться на цены пшеницы в нашей стране при различных урожаях. Как увидим, несмотря на то, что до известной степени положение облегчалось вывозом, всё же благодаря богатым урожаям цена хлеба, как известно, понизилась за три года на 50%. Так вот, чему можно это приписать, как не излишку количества? Следующий документ взят из показаний г-на Тука, данных Комитету 1821 г. <Agricultural Report, p. 229>
Поскольку было сказано, что изобилие может быть убыточно для производителей, на это возражали, что новое учение об этом предмете заключается в том, будто благодеяние провидения может стать для страны проклятием; но ведь это значит изменить выдвинутое положение по существу. Никто не говорил, что изобилие убыточно для страны; сказано только, что оно часто бывает убыточно для производителей этого избыточного товара. Если бы всё, что они произвели, предназначалось для их собственного потребления, изобилие никогда не было бы для них вредным; но, если вследствие изобилия хлеба количество его, выносимое ими на рынок с целью запастись другими предметами, весьма сильно понизилось в стоимости, они лишаются средств для приобретения своих обычных удовольствий; действительно, у них оказывается изобилие товара, обладающего незначительной меновой стоимостью. Если бы мы жили в одном из параллелограммов Оуэна и пользовались всеми нашими продуктами сообща, то никто не пострадал бы в результате изобилия; но, пока общество устроено так, как в настоящее время, изобилие часто будет убыточно для производителей, а недостаток будет для них выгоден. Отдел пятый. О влиянии, какое оказал на цену хлеба билль г-на Пиля о восстановлении старого денежного масштаба
Взгляды на влияние, оказанное на цену хлеба биллем г-на Пиля о восстановлении старого денежного масштаба, сильно различаются между собою. По этому предмету у одной из спорящих сторон замечается большая непоследовательность, и, я полагаю, со мною согласятся, что многие из тех, кто настойчиво доказывал во время войны, будто наши деньги вовсе не обесценены, в настоящее время стараются доказать, что обесценение тогда достигало колоссальных размеров и что все испытываемые нами теперь бедствия вызваны тем, что наше денежное обращение из состояния обесценения восстановлено до паритета. Забыто уже также, что с 1797 до 1819 г. у нас не было никакого масштаба, которым мы могли бы руководствоваться при регулировании количества или стоимости наших денег. Количество их и стоимость зависели целиком от Английского банка; директора этого учреждения при всём их желании действовать по отношению к обществу честно и справедливо признавали, однако, что в своей эмиссионной деятельности они руководствовались принципами, которые, как этого теперь никто не отрицает, ввергали страну в величайшие затруднения. Соответственно этому мы находим, что стоимость средств обращения значительно изменилась в течение двадцатидвухлетнего периода, когда не существовало никакого иного правила для регулирования количества и стоимости денег, кроме произвола Английского банка. В 1813 и 1814 гг. обесценение наших средств обращения достигло, вероятно, высшего пункта; золото стоило тогда 5 ф. ст. 10 шилл. и 5 ф. ст. 8 шилл. за унцию, но в 1819 г. стоимость бумажных денег была только на 5% ниже их старого масштаба, так как золото тогда стоило 4 ф. ст. 2 шилл. или 4 ф. ст. 3 шилл. за унцию. Именно с 1819 г. билль г-на Пиля стал законом. Во время прохождения этого билля через парламент последнему пришлось разбирать вопрос в том виде, как он тогда представлялся. Было признано целесообразным положить конец такому состоянию вещей, которое позволяло компании купцов по произволу регулировать стоимость денег; единственный пункт, который мог подлежать тогда рассмотрению, заключался в том, должен ли масштаб быть фиксирован на уровне 4 ф. ст. 2 шилл. -- такова была цена золота не только в то время, когда происходила законодательная сессия парламента, но и в течение почти всего предшествовавшего четырёхлетнего периода -- или же должен быть восстановлен старый масштаб в 3 ф. ст. 17 шилл. 10 1/2 пенсов. Парламент вынужден был выбирать между двумя этими ценами, и, выбрав возвращение к старому масштабу, по моему мнению, он пошёл по мудрому пути. Но когда теперь говорят, что стоимость денег была принудительно повышена, по мнению одних, на 25%, по мнению других, на 50% и даже на 60%, они относят это не к 1819 г., не к периоду, когда прошёл билль, а к периоду величайшей депрессии и возлагают вину за всё возрастание стоимости средств обращения на билль г-на Пиля. А между тем билль г-на Пиля положил конец системе, которая допускала такие изменения в стоимости денег. Если бы действительно в 1819 г. или непосредственно перед 1819 г. золото стоило 5 ф. ст. 10 шилл. за унцию, то не могло бы быть более нецелесообразной меры, чем такое насильственное изменение во всех существующих обязательствах в результате восстановления старого масштаба; но цена золота, как я уже сказал, составляла тогда и в течение предшествовавших четырёх лет около 4 ф. ст. 2 шилл.; она никогда не бывала выше, а часто бывала скорее ниже этой цены. И никакая мера не могла бы быть столь чудовищной, как та, непринятие которой ставится кое-кем в вину Палате общин, а именно установление масштаба в 5 ф. ст. 10 шилл., другими словами, новое снижение стоимости средств обращения на 30% ниже стоимости золота, после того как при действии плохой системы эта стоимость была восстановлена до уровня только на 5% ниже стоимости золота. Следует вспомнить, что мною предложен был стране план восстановления постоянного масштаба, который сделал бы совершенно излишним употребление более значительного количества золота, чем то, которым обладал тогда Английский банк. План этот заключался в том, чтобы обязать Английский банк оплачивать известную значительную и постоянную сумму своих банкнот золотыми слитками по монетной цене в 3 ф. ст. 17 шилл. 10 1/2 пенсов за унцию вместо платежа золотой монетой. Если бы этот план был принят, ни одна частичка золота не употреблялась бы в обращении -- все наши деньги состояли бы из бумажных, за исключением серебряной монеты, необходимой для платежей ниже стоимости 1 ф. ст. В этом случае может быть доказано, что стоимость денег при возвращении к постоянному старому масштабу могла бы быть увеличена только на 5%, потому что такова была вся разница между стоимостью золота и бумажных денег. В плане не было ничего такого, что могло бы вызвать повышение стоимости золота, потому что не потребовалось бы дополнительного количества золота, и поэтому стоимость денег повысилась бы только на 5% <На 4 ф. ст. 2 шилл. в банкнотах всякий мог бы купить такое же точно количество товаров, как и на 3 ф. ст. 17 шилл. 10 1/2 пенсов в золоте; задача плана заключалась в том, чтобы 3 ф. ст. 17 шилл. 10 1/2 пенсов в банкнотах стоили столько же, сколько и 3 ф. ст. 17 шилл. 10 1/2 пенсов в золоте. Чтобы достигнуть этой цели, было ли необходимо, было ли в действительности возможно понизить стоимость товаров более чем на 5%, если бы стоимость золота не была повышена?>. Билль г-на Пиля принимал этот план на четыре года, по истечении которых должны были быть установлены платежи монетой. Если бы в течение времени, указанного биллем, директора Английского банка управляли делами банка с тем искусством, которого требовали интересы общества, то после принятия билля г-на Пиля они удовлетворились бы таким регулированием выпуска банкнот, чтобы вексельный курс продолжал держаться на уровне паритета и, следовательно, не было бы никакого ввоза золота; но Английский банк, всегда выражавший решительную антипатию к плану платежей слитками, немедленно начал приготовления к платежам звонкой монетой. Выпуск его банкнот регулировался таким образом, чтобы вексельный курс стал в высшей степени благоприятным для нашей страны; золото потекло в неё непрерывным потоком, и банк жадно скупал всё поступавшее золото по 3 ф. ст. 17 шилл. 10 1/2 пенсов за унцию. Такой спрос на золото не преминул повысить его стоимость по сравнению со стоимостью всех товаров. Нам пришлось, таким образом, не только повысить стоимость наших средств обращения на 5%, т. е. на сумму разности между стоимостью бумажных денег и золота до начала этих операций, но и повышать её дальше до новой стоимости, которой достигло золото в результате неразумных покупок этого металла Английским банком. Не может быть, по моему мнению, никакого сомнения, что если бы платежи слитками были честно испробованы в течение трёх из четырёх лет между 1819 и 1823 гг. и если бы найдено было, что такой план вполне отвечает всем задачам денежного обращения, регулируемого золотом по постоянной стоимости, то эта система продолжала бы функционировать и дальше, и мы избежали бы дальнейшего давления, которому, несомненно, подверглась страна в результате большого спроса на золото, навязанного нам благодаря платежам звонкой монетой. В защиту принятых ими мер директора Английского банка ссылаются на жалобы, которые раздавались по их адресу в связи с тем, что за подделку банкнот преступников часто приговаривали к смертной казни; это сделало безусловно необходимым изъятие из обращения однофунтовых банкнот с целью заменить их монетой. Если бы вместо выпускаемых до сих пор банкнот они не могли выпустить банкноту, лучше рассчитанную на предупреждение подделки, то это оправдание было бы основательно, ибо нельзя считать отказ от незначительной денежной выгоды слишком большой жертвой, если бы благодаря этому устранялся соблазн к совершению такого преступления, как подделка банкнот, за которое ежегодно много человек подвергалось смертной казни. Но такое извинение со стороны Английского банка, который до 1821 г. не понимал важности предупреждения подделки путём выпуска монеты, звучит весьма странно, после того как он совершил настолько большие закупки золота, что вынужден был обратиться к парламенту с просьбой предоставить ему право выпускать монету для оплаты своих банкнот, чего в силу билля г-на Пиля он не мог делать до 1823 г. Чем объяснить, что банк не сделал этого открытия в 1819 г., когда Комитеты Палаты лордов и Палаты общин обсуждали вопрос о банковых платежах? Вместо того, чтобы стремиться в этот период начать платежи звонкой монетой, директора банка возражали в таких выражениях, которые многие считали неподобающими, против всякого плана платежей металлом, не оставляющего в их руках бесконтрольной власти в деле увеличения или уменьшения количества средств обращения. Наверное ещё не забыто, как на запрос Комитета Палаты лордов от 24 марта 1819 г.: «имеет ли Английский банк возражения и какие именно против принятия закона, который обязывал бы его оплачивать свои банкноты слитками по предъявлению, но суммами не меньше чем в 100 ф. ст., 200 ф. ст. или 300 ф. ст., по 3 ф. ст. 17 шилл. 10 1/2 пенсов, и покупать золотые слитки по 3 ф. ст. 17 шилл. 6 пенсов путём выпуска банкнот, с тем чтобы указанный план вступил в действие после назначенного для этой цели периода времени», директора Английского банка ответили: «Английский банк рассмотрел запрос, посланный Комитетом Палаты лордов от 24 марта, и не видит никаких затруднений в обмене определённого количества банкнот на золотые слитки известного веса при условии, что они будут расплавлены, опробованы и помечены монетным двором его величества». «Получение банком слитков по 3 ф. ст. 17 шилл. 6 пенсов, по мнению дирекции, настолько не обеспечено, что директора во исполнение своих обязанностей по отношению к владельцам банка не считают себя компетентными брать на себя обязательство выпускать слитки по цене в 3 ф. ст. 17 шилл. 10 1/2 пенсов; однако дирекция просит позволения порекомендовать в качестве альтернативы следующее: в обмен на свои банкноты банк будет доставлять слитки определённого веса в указанном размере по рыночной цене, взятой за предшествующий день поступления заграничной почты, при условии, что банку будет предоставлено достаточно времени, чтобы подготовить проведение такой меры». Если бы это предложение было принято, банк мог бы сам определять цену, по которой он стал бы время от времени продавать золото публике, потому что путём расширения или сокращения выпуска банкнот он имел бы возможность определять цену золота, как ему угодно, по 4 или 10 ф. ст. за унцию, и он любезно предлагает продавать золото по цене, до которой он мог бы по произволу поднимать цену золота, «при условии, что ему будет предоставлено достаточно времени, чтобы подготовить проведение такой меры». - После этого предложения, после представления, сделанного канцлеру казначейства директорами Английского банка 20 мая 1819 г. <cм. Приложение А>, никто не скажет, что вопрос о подделке банкнот казался директорам столь неотложным, чтобы они выказали сильное желание заменить монетой свои мелкие банкноты в 1819 г., какое бы значение ни получил этот вопрос, по их мнению, в 1820 г. В высшей степени трудно определить, какое влияние оказали на стоимость золота, а следовательно, и на стоимость денег покупки слитков, произведённые банком. Когда изменяется стоимость двух товаров, нет возможности установить с достоверностью, повысилась ли стоимость одного из них или упала стоимость другого. Нет никаких способов даже приблизительно установить этот факт, кроме тщательного сравнения стоимости обоих товаров в течение периода её колебаний со стоимостью многих других товаров. Даже это сравнение не даёт верного критерия, потому что стоимость одной половины товаров, с которыми сравнивают два товара, может измениться в одном направлении, а стоимость другой -- в другом; которая же из этих половин должна служить для проверки изменения стоимости золота? Если сравнивать с одной половиной товаров, то стоимость золота кажется возросшей, а если с другой, -- она кажется упавшей. Однако один из наиболее знающих свидетелей, допрошенных Комитетом о земледелии, г-н Тук, основываясь на своих наблюдениях над ценою серебра и разных других товаров и учтя должным образом особые причины, которые могли специально повлиять на стоимость каждого, пришёл к заключению, что усиленный спрос на золото, предъявленный банком с целью заменить свои мелкие банкноты звонкой монетой, повысил стоимость средств обращения приблизительно на 5% <Согласно протоколу свидетельских показаний Комитету о земледелии 1821 г. (стр. 296) Тук фактически сказал: «приблизительно на 6%». -- Прим. англ. ред.>. С этим заключением г-на Тука я совершенно согласен. Если оно обосновано, то всё повышение стоимости нашего денежного обращения со времени принятия билля г-на Пиля в 1819 г. может быть определено приблизительно в 10%. На такую величину возросло податное обложение в результате восстановления платежей звонкой монетой; на такую величину понизилась цена хлеба, а вместе с нею и цена всех других товаров, поскольку эта причина одна лишь действовала на них; но всё, что превышает эту величину, всё дальнейшее понижение, которому подверглась цена хлеба, должно быть приписано тому, что предложение превысило спрос; это понижение наступило бы и в том случае, если бы не произошло никакого изменения в стоимости денежного обращения. Действительно, многие представители земельных интересов утверждают, что все бедствия земледелия объясняются только одной причиной. Они заходят ещё дальше и говорят, будто в настоящее время земледелие не приносит никакого прибавочного продукта, кроме того, который уплачивается правительству в виде налогов; что на долю ренты или прибыли ничего не остаётся; что, поскольку рента платится, она платится из капитала фермера; и все эти результаты они приписывают изменению в стоимости денежного обращения. Очевидно, те, кто выдвигает такое экстравагантное утверждение, не знают, каким образом изменение в стоимости денежного обращения влияет на различные интересы страны. Если оно приносит убыток должнику, то в такой же степени оно выгодно для кредитора; если давление его чувствует арендатор, оно должно быть выгодно для землевладельца и для сборщиков налогов. Итак, те, кто придерживается этого учения, должны быть готовы утверждать, что весь тот фонд, который прежде составлял ренту землевладельца и прибыль фермера, в результате изменения стоимости денег перешёл в руки государства и выплачивается теперь сборщикам налогов и -- через них -- держателям государственных бумаг. Нет никакого сомнения, что положение держателя государственных бумаг улучшилось благодаря тому, что дивиденды выплачиваются ему в деньгах, стоимость которых повысилась, но где доказательство того, будто положение его улучшилось настолько, что в настоящее время в его распоряжении, вдобавок к прежним средствам потребления, находятся также и все те, которые прежде находились в распоряжении всех арендаторов и всех землевладельцев страны? Такое дикое утверждение нельзя защищать ни минуты. Мы ничего не слышали о великолепных экипажах и роскошных домах, которые были якобы построены держателями государственных бумаг со времени принятия билля 1819 г. и в результате его. Кроме того, если бы это было верно, то как объяснить, что прибыли купца и фабриканта ускользнули от держателя государственных бумаг, от этого, как его назвали, всепожирающего чудовища? Разве их прибыль не управляется тем же принципом и тем же законом, что и прибыль фермера? Каким образом им удалось спастись от этой опустошающей бури? Ответ ясен: в этом утверждении нет истины. Земледелие переживало депрессию в силу причин, среди которых денежное обращение представляет только малую часть. Особые затруднения, испытываемые представителями земельных интересов, носят временный характер и будут продолжаться только до тех пор, пока предложение продукта превышает спрос на него. Достаточная цена невозможна, пока продолжает существовать эта причина низкой стоимости, но положение вещей, свидетелями которого мы являемся, не может быть постоянным. Разве не вполне достоверно, что, если давление на фермеров вследствие изменения стоимости средств обращения и последовавшего за этим роста податного обложения было настолько велико, что лишило их всей прибыли на капитал, оно должно было также отнять прибыль и у всех прочих лиц, вкладывающих капитал? Ибо совершенно невозможно, чтобы одна группа капиталистов оставалась постоянно без всякой прибыли, в то время как другие получают достаточную прибыль. Что касается землевладельцев, можно сказать, что их имения отягощены постоянными платежами, как, например, приданое, выдел в пользу дочерей и младших детей, ипотеки и т. д. Нельзя отрицать, что изменение в стоимости средств обращения должно в значительной степени повлиять на все такие обязательства и быть очень обременительным для землевладельцев, но последние должны помнить, что они или их отцы выиграли от обесценения средств обращения. Все их твёрдые обязательства, включая налоги, в течение многих лет оплачивались в обесцененных деньгах. Если они теперь страдают от несправедливости, то сами они извлекали выгоды из несправедливости в течение предшествовавшего периода; и если подвести добросовестный баланс, то, по моему мнению, оказалось бы, что, поскольку речь идёт об изменении стоимости средств обращения, у землевладельцев очень мало оснований для жалоб. А разве торговцы не имеют повода жаловаться, поскольку возросшая стоимость средств обращения затронула и их денежные обязательства? Разве они не являются должниками на такие же крупные суммы, как и землевладельцы? Сколько удалилось от дел людей, чьи капиталы, непосредственно или косвенно, продолжают употребляться их преемниками? Какие огромные суммы затрачиваются банкирами и другими на учёт векселей? На всю сумму этой стоимости должны существовать должники, и возросшая стоимость денег, конечно, не преминула в очень сильной степени усилить бремя их задолженности. Я упоминаю обо всех этих обстоятельствах, чтобы показать, что если действительно решающей причиной бедствий землевладельцев была возросшая стоимость денег, то последняя должна была бы вызвать подобные бедствия и в других отраслях. А между тем этого нет, и поэтому я имею право сделать вывод, что причина бедствия была неверно установлена. Прибыль фермеров должна находиться в некотором единообразном соотношении с прибылью других классов капиталистов; она подвержена временным колебаниям, быть может, в большей степени, чем прибыль других; но обстоятельства, на которые они жалуются, хотя и весьма суровые и в настоящее время осложнённые другими причинами, всё же отнюдь не новы или необычны. В своём показании Комитету о земледелии (стр. 230 и 231) г-н Тук привёл цитаты из сочинений прошлого столетия, в которых разорение землевладельцев предсказано было в выражениях, мало чем отличающихся от тех, которые употребляются в настоящее время. Те трудности миновали, и при помощи нескольких хороших законов нынешние трудности станут скоро достоянием истории. На последнем собрании владельцев капитала Английского банка директора заявили, что они не только не уменьшили сумму средств обращения с 1819 г., а даже значительно увеличили её и что в текущем году эта сумма была на 3 млн. ф. ст. больше, чем сумма средств обращения в тот же период в прошлом или позапрошлом году. Если бы даже это утверждение директоров было совершенно правильно, то оно ещё не отвечает на обвинение в том, что они держали денежное обращение на слишком низком уровне и таким образом вызвали большой приток золота. Мой вопрос к ним заключается в следующем: «Было ли денежное обращение столь велико, чтобы поддерживать вексельный курс на уровне паритета?» На этот вопрос они должны ответить отрицательно, и поэтому я заявляю, что если вследствие ввоза золота этот металл повышается в стоимости и таким образом увеличивается давление на страну, то только потому, что Английский банк не выпустил достаточного количества банкнот, чтобы держать вексельный курс на уровне паритета. Это обвинение сохраняет свою силу независимо от того, оставалось ли в действительности количество банкнот стабильным, увеличивалось или уменьшалось. Но я оспариваю самый факт, будто сумма обращения была в 1822 г. даже на полмиллиона выше, чем в 1821 и 1820 гг. Принятый банком метод доказательства неудовлетворителен. Директора банка говорят, что в 1821 г. у нас было 23 800 тыс. ф. ст. в обращении, а в настоящее время банкноты в обращении вместе с выпущенными с тех пор соверенами составляют сумму на 3 млн ф. ст. больше. Но поскольку соверены обращаются в Ирландии и в других округах Соединённого королевства, те каким образом директора банка могут утверждать, что в настоящее время 26800 тыс. ф. ст. в банкнотах и соверенах обращаются в тех же каналах, в которых в 1821 г. обращались 23 800 тыс. ф. ст. в банкнотах? Я считаю, что в действительности дело обстоит наоборот, ибо нахожу, что сумма банкнот достоинством в 5 ф. ст. и выше, находившихся в обращении в течение нескольких лет, в феврале составляла:
А так как выпуск банкнот достоинством в 5 ф. ст. и выше не увеличился с 1820 г. на 400 тыс. ф. ст., то я считаю невозможным поверить, будто обращение банкнот меньшего достоинства могло увеличиться в сколько-нибудь более значительной пропорции. Прежде чем закончить этот отдел, я должен заметить, что жалобы на Английский банк, вызванные его отказом ссужать деньги под учёт векселей из 4%, лишены всякого основания. Причина этих жалоб в том, что, ссужая деньги из 4%, банк этим снизил бы вообще норму процента, и землевладельцы выиграли бы от этого, так как у них создалась бы возможность получать под ипотеки деньги на более выгодных условиях, чем в настоящее время. Я думаю, однако, что как бы ни была велика сумма займов, которую может предоставить банк, и как бы ни был низок процент, по которому он предпочитает их предоставлять, постоянная норма процента на рынке от этого не изменится. Норма процента регулируется главным образом прибылью, которую может принести употребление капитала; она не может контролироваться никаким банком, ни даже целой группой таких банков. Во время последней войны рыночная норма процента в течение ряда лет колебалась между 7 и 10%, и всё же Английский банк никогда не ссужал деньги больше чем из 5%. По уставу Английский банк обязан ссужать деньги в Ирландии не больше чем из 5%, тогда как прочие лица дают взаймы из 6%. Банк выполняет все свои полезные функции, когда ему удаётся заменить золото в обращении бумажными деньгами, когда он даёт нам возможность вести торговлю при помощи дешёвых средств обращения и давать производительное употребление дорогим средствам обращения; если он выполняет эту задачу, то не имеет особенного значения, из какого процента он ссужает деньги. Во время недавней дискуссии по поводу взимаемой банком нормы процента один весьма просвещённый член парламента привёл довольно странный аргумент: он сказал, что Французский банк, а также другие банки на континенте ссужают деньги из низкого процента, а поэтому и Английский банк должен следовать их примеру. Я не вижу никакой связи между его посылками и заключением. Французский банк должен руководствоваться рыночной нормой процента и нормой прибыли во Франции, Английский банк -- рыночной нормой процента и нормой прибыли в Англии. Они могут быть совершенно различными во Франции и в Англии. Из всего содержания его аргумента я сделал бы такой вывод, что он считает низкую норму процента как таковую выгодной для страны. А я представляю себе, что верно как раз противоположное. Низкая норма процента есть признак большого накопления капитала, но это есть также признак низкой нормы прибыли и приближения к застойному состоянию, при котором богатство и ресурсы страны перестают возрастать. Поскольку все сбережения делаются из прибыли, поскольку страна наиболее счастлива, когда она находится в состоянии быстрого прогресса, то прибыль и процент не могут быть слишком высоки. Поистине, для страны было бы весьма жалким утешением иметь низкую прибыль и низкий процент только для того, чтобы дать землевладельцам возможность получать деньги под закладные с меньшими для себя жертвами. Ничто не способствует в такой степени процветанию и счастью страны, как высокая прибыль. Эта жалоба на Английский банк, которую, по моему мнению, странно слышать из уст члена парламента, представляющего интересы общества, могла бы быть выдвинута каким-нибудь владельцем капитала банка на общем собрании этой корпорации, потому что трудно объяснить, исходя из какого принципа выгоды для своего предприятия директора Английского банка могут считать правильным ссужать деньги владельцев банка правительству <Банк авансировал правительству много миллионов под казначейские билеты из 3%, кроме постоянного аванса из своего капитала также из 3%; по уставу банк обязан выдавать ссуды из своего капитала по этой норме процента> из 3%, когда они могли бы получить 4% от других заёмщиков. Но обществу до этого нет никакого дела, и следует предоставить директорам банка и его владельцам решать этот вопрос, как им угодно. Отдел шестой. О влиянии низкой стоимости хлеба на норму прибыли
Когда я употребляю термин — низкая стоимость хлеба, то я хотел бы быть правильно понятым. Я считаю стоимость хлеба низкой, когда большое количество хлеба есть результат умеренного количества труда. Стоимость хлеба будет повышаться в той пропорции, в которой от данного количества труда будет получаться меньшее количество хлеба. В развивающемся обществе существуют две причины, действующие на стоимость хлеба в противоположном направлении: одна — рост населения и необходимость обработки земли низшего качества при возрастающих издержках, что всегда вызывает повышение стоимости хлеба; другая — усовершенствования в земледелии или открытие новых и богатых внешних рынков, что всегда имеет тенденцию понижать стоимость. Иногда преобладает одна из них, иногда другая, и соответственно с этим поднимается или падает стоимость хлеба. Говоря о стоимости хлеба, я имею в виду скорее нечто отличное от его цены; когда его стоимость возрастает, цена его обычно также растёт, и это всегда было бы так, если бы деньги, в которых обыкновенно определяется цена, были неизменны в стоимости. Но стоимость хлеба может не изменяться в сравнении со всеми другими предметами; она может не быть результатом большего или меньшего количества труда, и всё же цена его может подняться или упасть, потому что деньги могли стать более обильными и дешёвыми или более редкими и дорогими. Ничто не имеет для общества в целом так мало значения, как изменение цены хлеба, вызванное изменением только в стоимости денег, и ничто не имеет такого большого значения для его прибылей и богатства, как повышение или понижение цены хлеба, когда стоимость денег остаётся постоянной и неизменной. Чтобы иметь возможность установить следствия повышения или падения стоимости хлеба, мы будем исходить из предположения, что стоимость денег продолжает оставаться постоянной и неизменной; при таком предположении это будет равнозначно повышению или падению цены хлеба. Так как хлеб — один из главных предметов, на которые затрачивается заработная плата, стоимость его в значительной степени регулирует заработную плату. Стоимость самого труда подвергается колебаниям таким же образом, как и стоимость всякой вещи, являющейся предметом спроса и предложения, но в особенной степени на стоимость труда влияют цены предметов первой необходимости для рабочего, а, как я уже заметил, хлеб есть один из главных предметов первой необходимости. В одном из предыдущих отделов я старался показать, что общее повышение заработной платы не повлечёт за собой повышения цен товаров, на которые затрачивается труд. Если заработная плата повышается в одной отрасли, произведённый в этой отрасли товар должен повыситься в цене, чтобы поставить его производителя в равное положение с производителями во всех других отраслях, но если повышение заработной платы касается одинаково всех производителей, то повышение стоимости всех их товаров должно быть для них, как я уже заметил в другом месте, совершенно безразлично, так как, будут ли они продаваться по высокой или низкой цене, их относительная стоимость остаётся без изменения; а только это изменение их относительной стоимости даёт их держателям возможность распоряжаться большим или меньшим количеством товаров. Каждый человек в конце концов обменивает свои товары на другие товары или на труд, и он мало заботится о том, продаёт ли он свои собственные товары по высокой цене, если он вынужден давать высокую цену за покупаемые товары, или продаёт их по низкой цене, если он может в то же время купить нужные ему товары по низкой цене. В обоих случаях полученное им удовлетворение будет одно и то же. При неизменно высокой цене хлеба, вызываемой возрастающим приложением труда к земле, заработная плата была бы высока, а так как цены товаров не поднимутся в силу одного роста заработной платы, то прибыль необходимо упадёт. Если товары, стоящие 1 тыс. ф. ст., требуют в одно время труда на 800 ф. ст., а в другое время цена того же количества труда повышается до 900 ф. ст., то прибыль упадёт с 200 до 100 ф. ст. Прибыль понизится не только в одной отрасли, но и во всех отраслях. Высокая заработная плата, если она становится общим явлением, затрагивает одинаково прибыли фермера, фабриканта и торговца. Нет другого средства повышения прибыли, кроме понижения заработной платы. При таком взгляде на закон прибыли сразу можно увидеть, как важно, чтобы такой существенный предмет первой необходимости, как хлеб, так сильно воздействующий на заработную плату, продавался по низкой цене, и как невыгодно должно быть для общества в целом, чтобы вследствие запрещения ввоза мы вынуждены были переходить к обработке более бедных земель для прокормления нашего увеличивающегося населения. Не говоря уже о том, как нецелесообразно уделять производству пищи более значительную часть нашего труда, чем было бы необходимо при других обстоятельствах, мы уменьшаем тем самым сумму наших благ и способность к сбережению и создаём для капиталистов непреодолимое искушение покинуть нашу страну, чтобы переместить капиталы в такие страны, где заработная плата низка и прибыль высока. Если бы землевладельцы могли быть уверены, что цены на хлеб будут всё время высоки, чего, к счастью, быть не может, то их интересы были бы противоположны интересам всякого другого класса в обществе, так как высокая цена, проистекающая из трудности производства, есть главная причина роста ренты. Дело не в том, что рост ренты, выгода землевладельца эквивалентны невыгоде всех других классов общества, в том смысле, что последние лишены возможности ввозить дешёвый хлеб; у нас нет даже этого утешения, так как, чтобы предоставить умеренную выгоду одному классу, нужно возложить гнетущее бремя на все другие классы. И для самих землевладельцев эта выгода была бы не столько реальной, сколько кажущейся, так как, чтобы в полной степени использовать эту выгоду, они должны были бы всегда иметь возможность рассчитывать на постоянные и высокие цены. Ничто не убыточно для арендаторов в такой степени, как постоянно колеблющиеся цены, а при системе покровительства землевладельцу и запрещения ввоза иностранного хлеба прибыли арендатора должны колебаться самым невыгодным образом, как я попытаюсь показать в следующем отделе. Когда прибыль фермера высока, у него возникает побуждение жить более расточительно и вести свои дела так, как будто фортуна будет всегда ему благоприятствовать; но неизбежно наступает плохая пора, и тогда ему приходится страдать от прежней непредусмотрительности, и он запутывается в лишних издержках, что делает его совершенно неспособным выполнить свои обязательства по отношению к землевладельцу. Рента землевладельца, действительно, номинально высока, но он часто попадает в такое положение, что неспособен реализовать её, и едва ли можно сомневаться, что более умеренная и постоянная цена хлеба с регулярной прибылью для арендатора давала бы землевладельцу лучшую гарантию благосостояния и комфорта, если не получения наибольшей суммы ренты. Итак, оказывается, что высокая, но постоянная цена хлеба более всего выгодна для землевладельца, но так как постоянство цены в стране, расположенной подобно нашей, почти несовместимо с высокой ценой в нашей стране по сравнению с другими странами, то в действительности землевладелец заинтересован в более умеренной цене. Совершенно ясно установлено, что низкие цены на хлеб — в интересах фермера и всякого другого класса общества; высокие цены несовместимы с низкой заработной платой, а высокая заработная плата не может существовать рядом с высокой прибылью. Я должен отметить здесь заблуждение, поддержанное одним из тех, чьи таланты придают им большой авторитет в том месте, где было высказано это мнение <Т. е. в парламенте. — Ред.>. Заблуждение состоит в следующем: фабрикант может всегда повысить цену своего товара, когда его облагают налогом, и даже в некоторых случаях выигрывает благодаря тому, что товар облагается налогом, а фермер не может компенсировать себя подобным образом, и, следовательно, по истечении срока аренды, если не раньше, вся тяжесть налога должна пасть на землевладельца. Это — довольно старое заблуждение, ибо его поддерживал такой крупный авторитет, как Адам Смит. Существо ренты и законы, которыми регулируются её падение и рост, были уже объяснены со времени Адама Смита, и все, кто знаком с этим объяснением, уже неспособны впасть в эту ошибку. Я не хочу теперь входить в обсуждение вопроса о ренте; предмет этот был хорошо освещён несколькими талантливыми писателями. Но я спросил бы тех, кто всё ещё держится учения Адама Смита, на кого мог бы пасть земельный налог, когда он был равен 3 шилл. с акра, если обрабатываемая земля принадлежит к категории, упомянутой г-ном Гарвеем в его показании, на которое я уже ссылался, т. е. к земле, приносящей в качестве ренты только 18 пенсов? Фермер должен либо получать меньшую прибыль, чем другие фермеры, платящие более высокую ренту, или должен быть в состоянии переложить это бремя на потребителя. Но почему он должен заниматься такой профессией, в которой его прибыль ниже прибыли всех других капиталистов в обществе? Ему может понадобиться время для того, чтобы оставить невыгодное для него занятие, но он не будет упрямо держаться за него больше, чем всякий другой, кто попал бы в подобное положение в других профессиях. Я взял упомянутый г-ном Гарвеем пример, потому что его сообщениям, как сообщениям практика, будут придавать большее значение, но я и сам вполне убеждён, что в каждой стране производится значительное количество хлеба, за право возделывания которого не платят никакой ренты. Каждый фермер волен вложить добавочный капитал в свою землю после того, как он вложил уже всё, что необходимо для доставления ренты. Хлеб, произведённый при помощи этого капитала, может принести только обычную прибыль, если из него не платится никакой ренты. Обложите налогом его производство, не допуская никакой компенсации при помощи повышения цены, и вы сейчас же дадите повод к извлечению этой части капитала из земледелия и тем самым — к уменьшению предложения. По моему мнению, нет пункта, более удовлетворительно установленного, чем тот, что каждый налог, которым облагается производство сырых материалов, в конечном счёте падает на потребителя, точно так же как налоги па производство товаров в обрабатывающей промышленности падают на потребителей этих товаров. Отдел седьмой. При системе покровительственных пошлин, установленной с целью предоставить отечественному производителю хлеба монополию на внутреннем рынке, цены на хлеб не могут не колебаться
Покровительственные пошлины на ввоз хлеба должны всегда устанавливаться в том предположении, что хлеб в других странах дешевле на всю сумму таких пошлин и что если эти пошлины не будут установлены, то будет ввозиться иностранный хлеб. Если бы иностранный хлеб не был дешевле, то не было бы никакой необходимости в покровительственной пошлине, так как при системе свободы торговли его не стали бы ввозить. Итак, приходится предположить, что установившаяся средняя цена хлеба в стране, вводящей покровительственную пошлину, должна быть выше на всю сумму этой пошлины по сравнению с другими странами, а когда случается обильный урожай, то до того, как хлеб может быть вывезен из страны, находящейся в таких условиях, цена хлеба должна понизиться в сравнении с обычной средней ценой не только на всю сумму пошлины, но также и на добавочную сумму расходов по вывозу хлеба. При системе свободной торговли цена хлеба в двух странах не может по существу различаться больше, чем на сумму расходов по перевозке его из одной страны в другую. Следовательно, если богатый урожай имел место в одной из них, а не в обеих вместе, то, после незначительного понижения цены, выход для излишнего продукта был бы немедленно найден в вывозе. Но при системе покровительственных пошлин или запретительных законов падение цены хлеба вследствие богатого урожая или ряда богатых урожаев должно быть разорительным для производителя хлеба, пока он не сможет облегчить своё положение при помощи вывоза. Если бы мы могли прислушаться к предложению г-на Вебба Холла ввести постоянную пошлину в 40 шилл. на ввоз иностранного хлеба и если бы он был прав в своём предположении, что 40 шилл. составляют разницу между естественной ценой хлеба в Англии и в странах, производящих хлеб, то при всяком богатом урожае цена хлеба должна была бы действительно понизиться на 40 шилл., пока кто-нибудь не найдёт выгодным вывозить его на континент; понижение это настолько велико, что, если бы фермеры столкнулись с ним, они оказались бы совершенно неспособны платить ренту в годы богатых урожаев, не жертвуя значительной частью капитала. То же замечание применимо к существующему хлебному закону, запрещающему ввоз хлеба до тех пор, пока цена его не повысится до 80 шилл. Задача этого закона заключается в том, чтобы значительно повысить цену хлеба в нашей стране по сравнению с другими странами и чтобы это повышение стало постоянным; поэтому в случае богатых урожаев цена хлеба в нашей стране должна упасть ниже цены хлеба во всех других странах, прежде чем положение производителя хлеба сможет быть облегчено путём вывоза. С этой точки зрения действие закона совершенно то же, что и действие высокой твёрдой пошлины, которое мы уже рассмотрели. Но в существующем законе есть ещё другой крупный недостаток, от которого свободна система твёрдых пошлин. В настоящее время, когда средняя цена пшеницы достигает 80 шилл. за квартер, порты открываются на три месяца для неограниченного ввоза иностранной пшеницы без всякой пошлины. При ценах на континенте в средние годы немного выше 40 шилл. за квартер искушение ввозить хлеб в нашу страну в течение трёх месяцев, когда порты открыты, должно приводить к ввозу его в огромном количестве. В течение этих трёх месяцев и очень значительного времени после этого, так как действие закона не может прекратиться сейчас же с закрытием портов, отечественный и иностранный производители ставятся в положение свободного соперничества, что приводит к разорению первого. Запретительные пошлины поощряют его вкладывать свой капитал в более бедные земли нашей страны, требующие больших затрат на малое количество продукта. И тогда, когда урожай необычно мал и производитель крайне нуждается в высокой цене, он внезапно сталкивается с свободной конкуренцией производителя хлеба на континенте, для которого цена в 40 шилл. вполне достаточна, чтобы вознаградить его за все издержки производства. Система твёрдых пошлин защищает фермера против этой опасности, но она подвергает его в такой же степени, как и нынешняя, всем бедствиям, проистекающим от богатых урожаев и неизбежно сопровождающим всякий проект хлебного закона, который должен повысить в стране, где он действует, цену хлеба значительно выше уровня цен в других странах. Не следует, однако, предполагать, что во избежание этой трудности ввоз хлеба должен быть дозволен во все времена без уплаты какой-либо пошлины. При современных условиях я отнюдь не рекомендовал бы этого пути. Я уже показал в третьем отделе, что с точки зрения действительных интересов потребителей, в которые включены, и всегда должны быть включены, интересы всего общества, во всех случаях, когда какой-нибудь особенный налог падает на производителя какого-либо товара, причём все другие производители освобождены от этого налога, будет вполне справедливо установить компенсационную пошлину на ввоз такого товара (на сумму этого налога, но не больше), а затем установить возвратную пошлину на ту же сумму и на вывоз подобного товара. Если до обложения каким-либо налогом достаточная цена пшеницы составляла 60 шилл. за квартер как в Англии, так и на континенте и вследствие обложения налогом, например десятиной, падающей исключительно на фермера, а не на какого-либо другого производителя, цена пшеницы поднялась в Англии до 70 шилл., то должна быть наложена пошлина в 10 шилл. на ввоз иностранного хлеба. Этот налог на иностранный хлеб, а также и на отечественный должен быть возвращён при вывозе. Как бы ни была велика вся сумма возвратной пошлины, выдаваемой экспортёру, это означало бы только возвращение ему уплаченной им раньше суммы налога, которой он должен располагать, чтобы находиться в равных условиях конкуренции на иностранных рынках не только с иностранным производителем, но и с соотечественниками, производящими другие товары. Этот возврат пошлины существенно отличается от премии на вывоз в том смысле, в котором обычно понимается слово «премия», так как под премией подразумевают вообще налог, взимаемый с народа с целью сделать хлеб неестественно дешёвым для иностранного потребителя; между тем то, что я предлагаю, означает лишь, что мы будем продавать свой хлеб по такой цене, по какой мы действительно можем производить его, а не прибавлять к его цене налог, который побудит иностранца скорее купить его в какой-нибудь другой стране и лишит нас такой торговли, какую мы могли бы выбрать при системе свободной конкуренции. Пошлина, которую я здесь предложил, есть единственно законная компенсационная пошлина, не создающая для капитала поводов покидать отрасль производства, где он применяется с наибольшей для нас выгодой, и не вызывающая никакого искушения употреблять чрезмерно большую долю капитала в такой отрасли, для которой он при других условиях не предназначался бы. Экономическое развитие шло бы точно таким же шагом, как если бы мы были страной, совершенно свободной от обложения, причём каждый человек был бы волен употреблять свой капитал и своё мастерство таким способом, какой он считал бы для себя наиболее выгодным. Мы не можем в настоящее время жить иначе, как при системе тяжёлого налогового обложения, но, чтобы сделать нашу промышленность возможно более производительной, мы не должны создавать для капиталистов соблазн употреблять свои фонды и своё уменье иначе, чем они употребили бы их, если бы мы имели счастье быть страной, где нет никаких налогов, и нам была бы дана возможность максимально развивать наши таланты и наше трудолюбие. Доклад Комитета о бедственном положении земледелия в 1821 г. содержит несколько превосходных замечаний и рассуждений на этот счёт. Я с уверенностью могу ссылаться на этот важный документ в подтверждение принципов, которые я стараюсь изложить с целью доказать всю нецелесообразность покровительственных хлебных законов. Приводимые в нём аргументы в защиту свободы торговли кажутся мне неопровержимыми, но следует признать, что в этом же докладе рекомендуются меры, совершенно не соответствующие этим принципам. Осудив ограничения торговли, доклад в то же время рекомендует меры постоянного её ограничения: указав на всё зло, проистекающее от преждевременного перехода к обработке бедных земель, он отстаивает систему, путём всяких жертв сохраняющую эти земли в обработке. В принципе — нет ничего более одиозного, чем монополия и ограничения; на практике — нет ничего более спасительного и желательного. Комитет о земледелии нынешнего года избегает даже упоминания о здравых доктринах, которые защищал предыдущий Комитет. Он основывает весь доклад на ошибочных доктринах и заканчивает свои рекомендации Палате следующими словами: «Если условия нашей страны впоследствии дадут возможность установить постоянную торговлю хлебом на основе взаимоотношений, всегда доступных всему миру, но в то же время будет установлена такая твёрдая и единообразная пошлина, которая могла бы компенсировать британскому производителю разницу в издержках, по каким его хлеб может быть произведён и доставлен на рынок, вместе с надлежащей нормой прибыли на вложенный капитал, по сравнению с издержками производства и другими расходами, падающими на хлеб, производимый за границей и ввозимый оттуда <Курсив Рикардо. — Прим. англ. ред.>, то такая система во многих отношениях была бы предпочтительнее, чем какая-либо модификация постановлений, основанных на средних ценах с восходящей и нисходящей шкалой пошлин; это предупреждало бы действие соглашений и спекуляций, ставящих себе целью повышать или понижать эти средние цены, и лишало бы значения те неточности, которые вследствие всяких манипуляций или небрежности в некоторых случаях оказывали и могут опять оказать такое невыгодное воздействие на наш рынок; но Комитет скорее имеет в виду такую систему, которую стоит сохранить с точки зрения конечной тенденции нашего закона, а не такую, какая оказалась бы пригодною только на какой-либо краткий или ограниченный период». Нам говорят, что система, которую мы должны сохранить с точки зрения конечной тенденции нашего закона, есть система твёрдых пошлин; но по какому принципу должна исчисляться твёрдая пошлина? Не по тому принципу, который, как я старался доказать, является единственно здоровым, а именно, что пошлина должна в точности уравновешивать те особенные тяготы, каким подвергается производитель хлеба, а по совершенно иному, в силу которого твёрдая пошлина должна компенсировать британскому производителю разницу в издержках, по каким его хлеб может быть произведён и доставлен на рынок, по сравнению с издержками производства и другими расходами, падающими на хлеб, производимый за границей и ввозимый оттуда. Вместо того чтобы поддержать у потребителя какую-либо надежду, что в более или менее близком будущем мы введём законодательство, которое даст ему возможность покупать хлеб по такой дешёвой цене, по какой только способна будет получить его британская промышленность; вместо того чтобы дать британскому капиталисту какую-нибудь гарантию, что заработная плата в нашей стране не будет чрезмерно повышена вследствие того, что рабочий будет вынужден покупать хлеб по дорогой, а не по дешёвой цене, — гарантию, столь существенную для поддержания нормы прибыли; вместо того чтобы рекомендовать фермеру рассчитывать на такое время, когда он будет избавлен от колебаний в цене производимого им товара, столь гибельных для его интересов, — вместо всего этого нам говорят, что существующий способ, благодаря которому цена хлеба обычно держится в нашей стране значительно выше, чем в других странах, быть может, не есть лучший способ для достижения этой цели, так как она может быть осуществлена с большим удобством при помощи твёрдой, а не изменяющейся пошлины, но что так или иначе хлеб в нашей стране обычно должен быть значительно дороже, чем в других странах. Пошлина, вычисленная по принципу, рекомендуемому Комитетом, не преминет увековечить разницу между ценой в нашей стране и ценой в других странах, равную разнице между расходами по возделыванию хлеба в нашей стране и расходами по его возделыванию в других странах. Если бы мы не зашли уже слишком далеко в своих стараниях обеспечить себе средства пропитания, если бы наши собственные действия не сделали издержки производства хлеба внутри нашей страны гораздо более высокими, чем в других странах, то подобный закон был бы просто вздорным, потому что не существовало бы никакой разницы в издержках. Разве не в высшей степени нелепо сначала провести закон, под действием которого создаётся необходимость обрабатывать плохие земли, а после того, как мы их обрабатывали с большими издержками, делать из этих добавочных издержек основание для отказа от покупки хлеба у тех, кто может производить его по более дешёвой цене? Я могу производить некоторое количество сукна, доставляющее мне достаточную цену в 60 ф. ст., и могу продать его за границей, если хочу затратить выручку на покупку 30 квартеров пшеницы по 2 ф. ст. за квартер; но мне не разрешают делать это и заставляют в силу закона употреблять капитал, приносивший мне 60 ф. ст. в виде сукна, на возделывание 15 квартеров пшеницы по 4 ф. ст. за квартер. Компенсационная пошлина в 2 ф. ст. с квартера ввозимой пшеницы, заставляющая меня возделывать хлеб и мешающая мне употреблять мой капитал на производство сукна в целях обмена его на пшеницу, целиком препятствует обмену сукна на пшеницу, производству сукна. Конечно, не подлежит сомнению, что в обоих случаях я произвожу товар, стоящий 60 ф. ст., и для тех, кто имеет в виду только деньги, а не то, что можно купить на эти деньги, любое из этих употреблений моего капитала кажется одинаково производительным, но минутное размышление убедит нас, что существует величайшая разница, какую только можно себе представить, между получением (разумеется, при помощи того же количества труда) 30 или 15 квартеров пшеницы, хотя при предположенных нами условиях каждое из этих количеств будет стоить 60 ф. ст. Если последовательно придерживаться принципа, рекомендуемого Комитетом, то в числе тех товаров, какие мы можем производить у себя в стране, нет ни одного, который нам следовало бы когда-либо ввозить извне. Мы должны были бы возделывать свёклу и производить свой собственный сахар и наложить на ввоз сахара пошлину, равную разнице между издержками производства сахара в нашей стране и издержками в Ост- или Вест-Индии. Мы должны были бы строить теплицы и разводить свой собственный виноград с целью производства вина и оказывать покровительство виноделу путём такой же политики. Либо учение это не выдерживает критики по отношению к хлебу, либо оно должно быть применимо во всех других случаях. Разве покупатель товара когда-либо спрашивает об условиях, на которых производитель может возделывать или производить его? Он принимает в соображение только цену, по которой он может его купить. Когда он знает цену, он знает наиболее дешёвый способ получения товара; если он может сам произвести его дешевле, чем можно его купить, он скорее посвятит себя его производству, чем производству товара, при помощи которого он иначе должен был покупать его. Но есть люди, да ещё из числа считающихся авторитетами в таких делах, которые говорят: это рассуждение было бы правильно, если бы мы собирались вкладывать капитал в землю с целью получить больше хлоба; тогда было бы, несомненно, разумно обсудить, не можем ли мы купить его за границей дешевле, чем стоило бы его возделывать у нас дома, и соответственно этому направить нашу деятельность. Совершенно иное дело, когда капитал уже вложен в землю, так как большая часть этого капитала была бы потеряна, если бы мы решили ввозить дешёвый хлеб из-за границы, а не возделывать его по дорогой цене у себя дома. Нельзя отрицать, что некоторое количество капитала было бы потеряно. Но что такое представляет собой владение капиталом или сохранение его — цель или средство? Несомненно, средство. В чём мы нуждаемся, так это в изобилии товаров; если бы могло быть доказано, что, пожертвовав одной частью нашего капитала, мы могли бы увеличить годичное производство тех предметов, которые служат для нашего наслаждения и нашего счастья, тогда, конечно, мы не должны были бы роптать на потерю части нашего капитала. Г-н Лесли изобрёл остроумный аппарат, при помощи которого мы можем готовить лёд для своих ледников. Предположим, что на эти машины был бы затрачен капитал в полмиллиона. Разве не будет, несмотря на это, благоразумно с нашей стороны добывать лёд без всяких издержек из ближайших замёрзших прудов, а не затрачивать труд и расточать кислоту или другие ингредиенты на изготовление льда, хотя, поступая таким образом, мы навсегда пожертвовали бы 500 тыс. ф. ст., затраченными на воздушные насосы? Из того предложения Комитета, последствием которого должно быть увековечение разницы между ценой хлеба у нас и ценой его в других странах, мы, естественно, должны были бы сделать заключение, что Комитет не допускает возможности тех бедствий, которые время от времени неизбежно должны возникать в нашей стране. Наоборот — он допускает их возможность в самом полном объёме и ссылается на заявления, сделанные по этому предмету в предыдущем докладе, чтобы выразить своё одобрение тому рассуждению, которое на них основано. Он говорит: «Чрезвычайное неудобство и несообразность нашей настоящей системы были так обстоятельно изображены и так удовлетворительно анализированы в уже упомянутом нами докладе (стр. 10 и 12), что достаточно лишь сослаться на него, прибавив только, что все события, имевшие место после представления этого доклада, а также наш опыт с 1815 г. всё больше и больше доказывают, как мало можно полагаться на постановление, содержащее абсолютное запрещение ввоза до достижения известной цены и допускающее неограниченную конкуренцию при превышении этой цены. Вместо того чтобы придать нашему рынку устойчивость, это постановление может в один период сбить и без того слишком низкие цены ниже того уровня, на каком они могла бы быть даже при свободе торговли <Курсив Рикардо. — Прим. англ. ред.>, а в другой, без всякой необходимости, повысить и без того высокие цены, что усугубляет бедствия от неурожая и делает более тяжелым, падение прибыли, вследствие изобилия» <Курсив Рикардо. — Прим. англ. ред.>. Здесь очень хорошо описаны два отрицательных следствия нашего хлебного закона; против одного из них, неограниченной конкуренции при цене свыше 80 шилл., рекомендуется средство, хотя и никоим образом не лучшее из тех, которые могли бы быть временно применены; но, вместо того чтобы предложить какие-либо средства для облегчения или устранения другого отрицательного следствия, проистекающего от изобилия и полностью признаваемого, рекомендуются немедленные и временные меры; указаны и другие меры, постоянное применение которых в будущем желательно и которые не могут не увековечить это зло, потому что они не преминут значительно и на продолжительное время поднять цену хлеба в нашей стране по сравнению с другими соседними странами. Одно из соображений, выдвигаемых в пользу высоких пошлин на ввоз хлеба, состоит в том, что фабрикант защищён высокими покровительственными пошлинами от конкуренции иностранного фабриканта и что земледелец должен пользоваться такой же защитой от иностранного производителя хлеба. Невозможно дать на это более удовлетворительный ответ, чем это сделал лорд Гренвиль: «Если меры, которые были приняты прежде для защиты торговли и промышленности, правильны, то пусть они остаются в силе; если неправильны, то пусть они будут отменены, не внезапно, но со всей той осторожностью, с которой должна меняться всякая политика, которая при всей своей ошибочности укоренилась с течением времени в нашем обиходе. Но пусть будет освящён принцип законодательства, состоящий в том, чтобы те, кто рекомендует законодательной власти принять особые покровительственные меры, ни в коем случае не руководствовались соображениями, покоящимися на покровительстве, которое, может быть, оказывалось в какой-либо другой области. Я действительно не могу понять, каким образом благородный граф <граф Ливерпуль> может настаивать на том, что меры, которые, по его же признанию, вредны по отношению к обрабатывающей промышленности, могли бы быть тем не менее правильными по отношению к земледелию. Было бы весьма необычным способом осуществлять справедливость, заявляя, что, так как значительная, наиболее значительная, часть общества уже страдает от льгот, предоставленных одному отдельному классу, то она должна ещё больше страдать от льгот, предоставляемых другому отдельному классу». (Речь 15 марта 1815 г.) Если требуется ещё какой-нибудь аргумент против этой претензии оказывать покровительство земледелию, то его доставляет следующая выдержка из доклада Комитета о земледелии прошлого года: «Он (Комитет) замечает, что один из свидетелей с целью иллюстрировать свои идеи и желания петиционеров представил таблицу пошлин, уплачиваемых с иностранных промышленных товаров, из которых часть облагается внутри нашей страны акцизом. В этих случаях пошлина на ввоз, как, например, на ввоз стеклянных изделий, введена в значительной мере для того, чтобы уравновесить пошлину на эти изделия, производимые внутри страны. Но главное основание, опираясь на которое ваш Комитет склонен думать, что Палата отнесётся с некоторым недоверием к этому принципу, заключается в следующем: во-первых, весьма сомнительно, чтобы какая-нибудь из наших значительных отраслей промышленности (за исключением шёлковой) извлекала выгоды из этого мнимого покровительства на рынках нашей страны, ибо каким образом могут иностранные фабрики хлопчатобумажных, шерстяных, металлических изделий конкурировать с нашими собственными товарами в нашей стране, когда хорошо известно, что мы можем продавать продукты этих крупных отраслей нашей обрабатывающей промышленности по более низким ценам даже на иностранных рынках, несмотря на то, что хлопок и шерсть облагаются непосредственно ввозной пошлиной, не возвращаемой при вывозе их в обработанном виде, и кроме того косвенными налогами, затрагивающими капитал в этих отраслях наряду с капиталом, который употребляется на возделывание продуктов почвы?» За этим следуют ещё другие превосходные места, и все они показывают, что покровительство, которым якобы пользуется обрабатывающая промышленность, в действительности ей не оказывается; хотя, если бы это и было так на деле, аргумент лорда Гренвиля достаточно убедителен, чтобы это нельзя было считать основанием для распространения покровительства на земледелие. Следует надеяться, что ещё в текущую сессию парламента мы избавимся от многих из этих вредных законов. В настоящее время, повидимому, начинает брать верх лучший дух законодательства, и нелепая ревнивая зависть, оказывавшая влияние на наших предков, уступит место отрадному убеждению, что, установив свободу торговли, мы никогда не сможем способствовать благосостоянию других стран, не способствуя тем самым своему собственному благосостоянию. Приведённое нами место из доклада полезно ещё и в другом отношении: оно показывает нам, что автор его прекрасно понимал, что представляет собою компенсационная пошлина и чем она должна быть, ибо он констатирует, что пошлина на ввоз стекла «введена в значительной мере для того, чтобы уравновесить пошлину на эти изделия, производимые внутри страны». Как согласовать это место с существующей в обоих докладах рекомендацией, в силу которой при обложении пошлиной ввоза хлеба «она должна быть исчислена добросовестно, чтобы уравновесить разницу в издержках (включая обычную норму прибыли), по которым хлеб, при настоящем положении нашей страны, может быть возделан и доставлен на рынок <Курсив Рикардо. — Прим. англ. ред.> внутри Соединённого королевства, в сравнении с издержками (также включая обычную норму прибыли), по которым хлеб производится в какой-либо из тех стран, откуда мы обыкновенно получали свои главные запасы иностранного хлеба, с прибавкой обычных расходов на перевозку его из этих стран на наш рынок»? Отдел восьмой. О проекте выдачи спекулянтам хлебом денежных ссуд из низкого процента
Доклад признаёт, что «всеобщее правило, в силу которого следует предоставить всем товарам, в меру возможности, находить свой собственный естественный уровень цен путём приспособления предложения к спросу», помешало Комитету рекомендовать правительству, чтобы оно употребило деньги на закупки хлеба с целью продавать его, когда цена хлеба повышается; но Комитет, повидимому, не заметил, что то всеобщее правило, о котором он говорит с одобрением, должно было также помешать ему рекомендовать правительству, чтобы оно ссужало деньги из низкого процента лицам, которые должны покупать пшеницу и депонировать её в королевских товарных складах, пока цена её ниже 60 шилл. за квартер. Не помешает ли такая ссуда денег из низкой нормы процента да ещё на 12 месяцев, если того пожелают стороны, не помешает ли она товару «находить свой собственный уровень цен» и «будет ли предложению предоставлено приспособляться к спросу»? Если причиной низкой цены хлеба будет излишнее количество его в стране, а не излишнее количество, преждевременно доставленное на рынок вследствие бедственного положения фермеров, то предложенное средство будет действительно пагубным, так как в этом случае мы должны пройти через тяжёлое испытание — низкие цены и возросшее потребление, которое всегда в известной степени следует за низкой ценой, пока предложение приспособится к спросу и цены снова станут достаточными. Поскольку таким образом поощряется накопление запасов хлеба на 12 месяцев, период переполнения рынка может быть отсрочен, но в конце концов он наступит. Что касается другого предположения, а именно, что вследствие паники или нужды на рынок преждевременно будет доставлена более чем надлежащая часть хлеба и что до ближайшей уборки урожая всё предложение хлеба вследствие этого окажется недостаточным и цены повысятся, то я должен заметить, что проницательные люди, побуждаемые собственными интересами, могут, если это случится, установить это с большей уверенностью, чем правительство. Нет недостатка в деньгах для закупки пшеницы, доставленной таким образом без всякой нужды на рынок; требуется только убеждение в вероятном уменьшении предложения или увеличении спроса и вероятном в силу этого повышении цены, чтобы пробудить дух спекуляции. Если бы существовала хорошо обоснованная уверенность в подобном повышении цен, то мы скоро стали бы свидетелями большей, чем обычно, активности среди хлеботорговцев. Когда была перспектива длительной дождливой погоды, как раз перед сбором урожая прошлого года, то не были ли мы свидетелями немедленного скачка в цене хлеба? На чём основывалось это повышение, если не на предвидении того, что урожай, вероятно, будет скуден и цена возрастёт? Если, таким образом, есть основание ожидать вероятной нехватки до того, пока доставлена будет пшеница будущего урожая, то найдутся люди, которые будут спекулировать без всякого поощрения со стороны правительства; разница в норме процента между 3 и 5% должна иметь очень мало значения в сделках подобного рода, и, поскольку речь идёт об интересах общества, эту разницу можно совершенно не принимать во внимание, когда мы рассматриваем выгоды подобной меры. Было сказано, что подобные ссуды неоднократно выдавались представителям торгового класса, почему же в этом случае лишать такой выгоды класс земледельцев? Прежде всего я вообще сомневаюсь, оправдывается ли такая мера в каком бы то ни было случае, но нельзя оспаривать, что торговый класс потребовал для себя этой льготы при совершенно других обстоятельствах, чем земледельческий класс. Торговый класс испытывает затруднения от застоя в делах; рынок, для которого он приготовил свои товары, во время войны (а такие ссуды выдавались только во время войны) может быть для него закрыт. В расчёте на продажу своих товаров торговцы выдали векселя, срок которым наступает, и вся их репутация и состояние зависят от выполнения ими своих обязательств. Всё, в чём они нуждаются, это — время; задержав дальнейшее производство товаров, спрос на которые уменьшился, они уверены, что им удастся продать свои товары, хотя, вероятно, с большим убытком. Похоже ли в каком-нибудь отношении положение фермера на положение торговца? Выдал ли он векселя, которым наступил срок? Зависит ли успех всех его будущих сделок от необходимости поддержать свой кредит в данную минуту? Закрыты ли для него когда-либо полностью все рынки? Нуждается ли он только в деньгах, чтобы платить по векселям? Случаи эти совершенно различны, и аналогия, которую пытаются провести между ними, неудачна во всех отношениях. Отдел девятый. Может ли современное бедственное положение земледелия быть объяснено налоговым обложением
Нынешнее бедствие вызвано недостаточной ценой на продукт земли, и невозможно сколько-нибудь справедливо приписать это налоговому обложению. Последнее бывает двух родов: либо оно падает на производителя товара в его качестве производителя, либо падает на него как на потребителя. Если фермер должен платить сельскохозяйственный налог с лошадей, десятину, поземельный налог, то он облагается налогом как производитель, и он старается вернуть уплаченную сумму, так же как это делают все другие производители, назначая дополнительную цену, равную налогу на производимый им товар. Итак, в конечном счёте налог уплачивается потребителем, а не производителем, так как ничто не может помешать последнему перенести налог на потребителя, кроме производства слишком большого количества товара в сравнении со спросом. Во всех случаях, когда цена товара не оплачивает производителю всех расходов всякого рода, которые он обязан понести, она недостаточна; она ставит его в невыгодное положение в сравнении с производителями других товаров; он перестаёт получать обычную, установившуюся прибыль с капитала, и тогда остаются только два средства, которые могут ему помочь: во-первых, уменьшение количества товара, что не преминет повысить его цену, если в то же время не уменьшится спрос; во-вторых, освобождение его от налогов, которые он платит как производитель. Первое средство — верное и действительное; второе — более сомнительное, потому что если цена товара прежде вознаграждала производителя, то после установления налога она могла понизиться только вследствие возросшего предложения или уменьшившегося спроса. Отмена налога не уменьшит количества, и если она не понизит ещё больше цены, то не увеличит и спроса. Если цена падёт ещё ниже, то отмена налога не принесёт производителю облегчения. Только в том случае, если цена товара не падает ещё ниже, хотя производитель избавлен от одного из расходов на производство, можно сказать, что он выиграл от отмены налога на производство. Можно высказать очень основательное сомнение, не вызовет ли конкуренция продавцов дальнейшего понижения цены товара вследствие отмены налога. Верно, что налоги на производство могут быть причиной излишка предложения над спросом, но лишь в том случае, когда налог только что введён и потребители не желают оплачивать в дополнительной цене дополнительные расходы, возложенные на производителя. Но в настоящее время в нашей стране иное положение: налоги не принадлежат к числу новых; цены сырых материалов настолько высоки, чтобы, несмотря на налоги, доставлять производителю достаточную цену, и не может быть никакого сомнения, что цены сырых материалов были бы значительно ниже, чем в настоящее время, если бы не было подобных налогов. Та самая причина, которая вызвала падение цены пшеницы с 80 шилл. до 60 шилл., или на 25%, вызвала бы падение цены с 60 шилл. до 45 шилл., если бы вследствие меньшего количества налогов с земли обычная средняя цена составляла 60 шилл., а не 80 шилл. Некоторые из издержек производства фактически уменьшились, тогда как есть полное основание думать, что потребляемое народом количество хлеба росло. Вообще предполагалось, что изменение в стоимости денег было благоприятно для рабочих классов, так как их денежная заработная плата, говорят, не понизилась пропорционально возросшей стоимости денег и падению цены предметов первой необходимости. Положение их, таким образом, улучшилось, и способность к потреблению возросла; но цены никогда не могут устоять против большого увеличения количества, и поэтому нет другого рационального объяснения причин падения цен земледельческих продуктов, кроме изобилия последних. Налоги на потребителей затрагивают потребителей вообще и никоим образом не могут быть причиной бедственного положения какого-нибудь отдельного класса или недостаточной цены товара, который этот класс выращивает или изготовляет. Налоги на свечи, мыло, соль и т. д. и т. д. уплачиваются не только фермерами, но и всеми лицами, потребляющими эти товары. Отмена этих налогов принесёт облегчение всем, а не только одному земледельческому классу. Тех, кто утверждает, что нет никаких разумных оснований считать налоговое обложение причиной бедствий земледелия и низкой цены хлеба, иногда изображают как людей, утверждающих, что отмена налогов не принесёт никакого облегчения. Такое заключение свидетельствует о недостатке беспристрастия или понимания, так как можно совершенно последовательно утверждать, что обложение налогами не есть причина какого-нибудь особенного бедствия, и в то же время настаивать, что отмена налогов принесёт облегчение. Если лошадь лорда Джона Рассела падает потому, что споткнулась о камень, и может опять встать на ноги, если с неё снимают сбрую, то несомненно было бы неправильно сказать, что лошадь упала, потому что была обременена сбруей, хотя было бы правильно утверждать, что она упала потому, что споткнулась о камень, а облегчение оттого, что с неё сняли сбрую, помогло ей встать на ноги. Что касается меня, то, держась мнения, что почти все налоги на производство в конечном счёте падают на потребителя, я думаю, что отмена всякого налога имеет следствием облегчение потребителей от части бремени, которое они несут в настоящее время. Хотя я всегда сторонник самой строгой экономии в государственных расходах, всё же я убеждён также, что существуют причины бедственного положения производителей отдельного товара, вызываемые изобилием; никакая отмена налогов не может существенно помочь против этого, в особенности, если этим товаром является земледельческий продукт и если его обычная цена удерживается вследствие ограничения ввоза на более высоком уровне, чем цены в других странах. От такого бедствия не свободна ни одна страна и в особенности страна, имеющая дурную систему хлебных законов. Если бы у нас не было абсолютно никаких налогов; если бы государственные расходы были настолько экономны, насколько это только возможно, и покрывались доходом, получаемым с земель, специально предназначенных для этого; если бы у нас не было никакого национального долга, никакого фонда погашения, то мы всё же были бы подвержены катастрофическому падению цен вследствие случайного изобилия. Невозможно читать компетентные показания г-на Тука перед Комитетом о земледелии 1821 г. и не поражаться при виде неожиданного воздействия, которое излишек предложения оказывает на цену и против которого нет другого действенного средства, кроме уменьшения количества. Если бы существовало какое-нибудь другое средство, то почему же не заявят об этом те, кто жалуется на бедствие и находится при этом в таком выгодном положении, что может заставить себя выслушать? Я не слышал, чтобы предлагали какие-либо средства против этого, кроме уменьшения налогов, введения новых добавочных покровительственных пошлин против конкуренции иностранцев в торговле земледельческими продуктами, всякого рода прямых закупок хлеба правительством или поощрения закупок другими лицами. А что касается действенности названных средств, я должен предоставить решение этого вопроса суждению самого читателя, так как моё собственное мнение о них уже высказано самым определённым образом. Я не считаю необходимым распространяться по поводу причин, вызвавших такую степень изобилия, что я приписываю ей всю ту часть падения цены сырых материалов с 1819 г., которая не может быть надлежащим образом объяснена изменением в стоимости денежного обращения <как видно будет дальше, этой причине я приписываю падение цен на 10%>. По моему мнению, мы вправе приписывать это изобилие ряду хороших урожаев, следовавших один за другим, увеличившемуся ввозу из Ирландии и расширению обработки земли, которое было вызвано высокими ценами и препятствиями, поставленными ввозу во время войны. Многие из джентльменов, дававших показания перед Комитетом, наперебой старались описать урожаи в 1819 и 1820 гг. как необычайно богатые. Г-н Уэкфилд заявил 5 апреля 1821 г.: «Я думаю, что в стране имеется чрезвычайное количество хлеба; по моему мнению, в стране теперь осталось столько хлеба, сколько в обычные годы имеется сразу после сбора урожая». «Я думаю, что если в течение ближайших двух или трёх лет у вас будут хорошие средние урожаи, то у вас останутся на руках большие запасы хлеба». Г-н Айвсон: «Я думаю, что последний урожай был изобилен; урожай 1820 г. был значительно выше среднего» (стр. 338). Г-н Дж. Броди: «Урожай в Шотландии был в прошлом году очень богат». «Урожай позапрошлого года был также выше среднего» (стр. 327). Наряду с этим обильным урожаем внутри страны ввоз из Ирландии был необычайно велик, как мы увидим из следующего отчёта, представленного Комитету о земледелии 1821 г., о ввозе в Великобританию овса, пшеницы и пшеничной муки ирландского производства:
* Английский центнер = 50,8 кг. — Ред.
Из вышеприведённого отчёта видно, в какой степени увеличился ввоз из Ирландии, что в дополнение к большому количеству, полученному от урожаев в 1819 и 1820 гг., по моему мнению, достаточно объясняет понижение цен. В данном случае нет, однако, необходимости проследить это изобилие до его источника. Достаточно показать, что низкая цена не могла быть вызвана иной причиной, кроме возросшего предложения или уменьшившегося спроса, чтобы убедиться, что против этого зла нет никакого другого действенного средства, кроме уменьшения количества или увеличения спроса. Отчёты о продажах в Марк Лэйне <см. Приложение Б> показывают, что в продажу поступило огромное количество хлеба. Кроме того, мы заметим, что в Лондонский порт прибыло необычайно большое количество из портов Великобритании и Ирландии. Действительно, не следует забывать, что падение цены приписывается изобильному количеству хлеба, находящемуся на рынке в настоящее время, и это рассуждение, опирающееся на доктрину, будто изобилие есть причина низкой цены, не будет ни в какой степени опровергнуто, если перед следующей жатвой предложение окажется ниже спроса и вследствие этого произойдёт значительное повышение цены. У нас не может быть никакого иного бесспорного доказательства изобилия, кроме его последствий. Я убеждён в существовании изобильного количества хлеба, но, по моему мнению, моя аргументация отнюдь не будет поколеблена, если цена хлеба перед ближайшей уборкой урожая повысится до 80 шилл. за квартер. Заключение
Рассмотрев большинство тем, тесно связанных с вопросом о политике по отношению к ввозу хлеба, которую было бы разумно принять в нашей стране, я теперь хочу вкратце резюмировать взгляды, изложенные более подробно в различных частях этого исследования. Причина нынешней низкой цены земледельческих продуктов частью заключается в изменении стоимости денег, а главным образом в перевесе предложения над спросом. Биллю г-на Пиля, даже в связи с операциями Английского банка, нельзя приписывать с какой-либо достоверностью большее воздействие на цену хлеба, чем понижение на 10%, и в этом же размере возросла также большая часть налогов. Однако это увеличившееся налоговое обложение затрагивает не только представителей земельных интересов; в такой же степени оно затрагивает держателей фондов и другие заинтересованные группы в стране. Предположим, что половину всех налогов страны платят лица, связанные с земледелием; если вычесть расходы, зависящие от стоимости денег и увеличивающиеся поэтому соответственно понижению стоимости денег, всё увеличение налогов, которые с 1819 г. падали на представителей земельных интересов, считая вместе арендаторов и землевладельцев, не может превосходить 2 млн. Но если предположить, что эта сумма составляет 4 млн. в год <вся сумма налогов, уплачиваемых кредиторам государства и в фонд погашения, составляет 36 млн. Предположим, что все остальные постоянные повинности равняются 4 млн.; тогда общая сумма налогов, на которую оказала воздействие изменившаяся стоимость денег, представляет 40 млн. Я оцениваю рост их в 10%, или в 4 млн., которые падают на все классы — землевладельцев, торговцев, фабрикантов, рабочих и, хотя и в последнюю очередь, но не в меньшей степени, на держателей государственных бумаг>, то разве эти 4 млн. в год равны всей сумме убытков, понесённых землевладельцами и арендаторами вследствие падения цены земледельческих продуктов? Нет, это невозможно, потому что, по утверждениям представителей земельных интересов, вся рента выплачивается теперь из капитала, причём для прибыли не остаётся ровно ничего. Таким образом, если единственная причина бедствия — изменение в стоимости средств обращения, то 4 млн. должны были составить весь чистый доход землевладельцев и арендаторов до этого изменения — предположение, которое никто не решится поддерживать. Тогда какой же иной причине приписать это бедствие? Какой другой причиной можем мы объяснить крайнее понижение цен всех земледельческих продуктов? Ответ, по моему мнению, ясен, понятен и удовлетворителен — общим преобладанием изобилия в результате хороших урожаев и огромного ввоза из Ирландии. Это понижение цен усилилось благодаря действию существующих хлебных законов, следствием которых было вовлечение капитала в обработку бедных земель и повышение цены хлеба в средние годы в нашей стране до уровня, значительно превышающего уровень цен в других странах. При таких условиях цена должна быть высока, но чем выше она поднимается, тем сильнее она подвержена падению, так как в годы богатого урожая всё возросшее количество хлеба переполняет наш собственный рынок, и если оно превышает количество, которое мы можем потребить, то быстро начинает давить на цены; между тем у нас нет никакой возможности вывозить хлеб, пока падение цены не становится разорительным для фермеров; интересы последних никогда не гарантированы в большей степени, чем тогда, когда легко прибегнуть к такому ресурсу, как вывоз. Чтобы избежать, насколько возможно, этого огромного бедствия, нужно постепенно ликвидировать все ненужные покровительственные мероприятия по отношению к земледелию. Политика, которую мы должны принять в настоящий тяжёлый момент, заключается в том, чтобы предоставить британскому производителю монополию на внутреннем рынке до тех пор, пока цена хлеба не достигнет 70 шилл. за квартер. Когда цена достигнет 70 шилл., следует отменить все твёрдые цены и систему средних цен, и тогда можно будет установить пошлину в 20 шилл. с квартера на ввоз пшеницы, а пропорционально и на другое зерно. Такая перемена мало помогла бы нам в смысле защиты от вредных последствий богатых урожаев, но она была бы весьма полезна, так как препятствовала бы неограниченному ввозу хлеба, когда порты открыты. При уплате твёрдой пошлины хлеб ввозился бы только в таких количествах, какие могли бы потребоваться, и так как никто не боялся бы закрытия портов, никто не гнал бы хлеб в нашу страну до тех пор, пока мы действительно не пожелаем его. Мы были бы тогда вполне гарантированы от последствий переполнения рынка, вызванного неограниченным предложением из-за границы. Однако, хотя эта мера и представляет значительное улучшение по сравнению с существующим хлебным законом, этого было бы совершенно недостаточно, если бы мы не пошли дальше. Осуществить меры, которые сразу заставили бы изъять капитал из обработки земли, при настоящих условиях в стране было бы опрометчиво и рискованно, и поэтому я предложил бы, чтобы пошлина в 20 шилл. ежегодно уменьшалась на 1 шилл., пока не достигнет 10 шилл. Мы также должны были бы разрешить возврат пошлины в 7 шилл. с квартера при вывозе пшеницы. Все эти меры следует рассматривать как постоянные. Пошлина на ввоз в 10 шилл. с квартера, к которой я желал бы приблизиться, по моему убеждению, скорее слишком высока как компенсационная пошлина за те особые налоги, которыми обложен производитель хлеба в отличие от других классов производителей в нашей стране; но я предпочитаю ошибиться в сторону щедрости, а не в сторону скупости, и именно по этому соображению я не предлагаю установить возвратную пошлину, равную пошлине на ввоз. Поскольку речь идёт о производителе хлеба, то, когда пошлина упадёт до 10 шилл., торговля будет иметь для него все преимущества свободной торговли, не считая столь ничтожной суммы, как 3 шилл. с квартера. В том случае, когда его урожай будет обильным, его положение могло бы быть облегчено при помощи вывоза после очень умеренного падения цены, если только изобилие и падение цен не станут общими для всех стран; но во всяком случае цена его хлеба была бы на 20 или 25 шилл. ближе к общему уровню цен остального мира, чем это было бы при существующих правилах. Такая перемена была бы для него неоценима. Прежде чем закончить, я считаю нужным отметить ещё одно часто встречающееся возражение против свободной торговли хлебом, а именно, что она поставит нас в зависимость от других стран в деле снабжения столь существенным предметом пропитания. Это возражение основано на предположении, что мы должны ввозить значительную часть того количества хлеба, которое ежегодно потребляем. В первую очередь я не согласен с теми, кто думает, что количество, которое мы должны были бы ввозить, будет огромно; и во-вторых, если бы оно было даже так велико, как настаивают те, кто выдвигает это возражение, я не вижу, какая опасность могла бы произойти от этого. Из всех показаний, данных Комитету о земледелии, следует, что из-за границы нельзя получить очень большое количество хлеба, не вызывая этим значительного повышения достаточной цены хлеба в других странах. По мере того как требуемое количество хлеба начнёт приходить из внутренних частей Польши и Германии, издержки в значительной степени увеличатся вследствие расходов, связанных с сухопутным транспортом. Кроме того, чтобы доставить более значительное количество хлеба, эти страны были бы вынуждены перейти к обработке земель худшего качества, а так как цена хлеба всей страны регулируется издержками производства его на худших из обрабатываемых земель, требующих наиболее тяжёлых затрат, то большое добавочное количество не могло бы быть произведено без повышения цены, необходимого для вознаграждения иностранного производителя. По мере повышения цены за границей становилось бы выгодным переходить к обработке более бедных земель в нашей стране, и, таким образом, по всей вероятности, при наиболее свободном состоянии спроса мы не ввозили бы очень большого количества хлеба. Но предположим, что произошло бы иначе. Какой опасности подверглись бы мы вследствие так называемой зависимости от других стран в значительной части нашего питания? Если бы наш спрос был постоянным и единообразным, а при этой системе он, несомненно, был бы таким, значительное количество хлеба должно было бы возделываться за границей специально для нашего рынка. Страны, производящие хлеб для нашего потребления, заинтересованы в том, чтобы не ставить никаких препятствий его доставке к нам, может быть больше, чем мы заинтересованы в получении его. Посмотрим внимательно на то, что происходит в стране перед нашими глазами. Разве мы не видим, какое влияние оказывает на цену хлеба незначительный излишек количества? Каково было бы переполнение рынка, если бы Англия обычно производила дополнительное количество для потребления других стран? Разве мы пожелали бы ввергнуть наших фермеров и землевладельцев в разорение, которое обрушилось бы на них, если бы мы сознательно лишили их внешнего рынка, хотя бы в случае войны? Я убеждён, что нет. Как бы мы ни считались с чувством вражды и с желанием причинить врагу страдания, лишая его части обычного снабжения хлебом, я уверен, что мы воздержались бы от осуществления возможности причинить врагу страдания такой ценой, как в предположенном мною случае. Если бы такова была наша политика, то такой же была бы политика других стран в таких же условиях; и я вполне убеждён, что мы никогда не будем страдать из-за того, что будем лишены того количества продовольствия, в ввозе которого мы всегда нуждались. Все наши рассуждения по этому предмету приводят к одному и тому же заключению: мы должны как можно скорее, с должным учётом интересов настоящего момента установить то, что может быть названо по существу свободной торговлей хлебом. Такая мера была бы полезна с точки зрения интересов фермера, потребителя, капиталиста; и, поскольку устойчивые цены и регулярное получение ренты более выгодны землевладельцу, чем колеблющиеся цены и нерегулярное получение ренты, я убеждён, что правильно понятый интерес землевладельца приведёт его к тому же выводу, хотя я готов допустить, что средняя денежная рента, на которую он имел бы право, если бы его арендаторы могли выполнять свои обязательства, была бы выше при системе торговли, связанной ограничениями. ПриложенияПриложение А. Заявление, принятое 20 мая 1819 г. директорами Английского банка и переданное канцлеру казначейства Заявление, принятое 20 мая 1819 г. директорами Английского банка и переданное канцлеру казначейства. Назначено к печатанию Палатой общин 21 мая 1819 г. В СОБРАНИИ ДИРЕКТОРОВ АНГЛИЙСКОГО
БАНКА. Директора Английского банка, рассмотрев самым серьёзным образом доклады тайных Комитетов обеих палат парламента, учреждённых для исследования положения Английского банка в связи с вопросом о целесообразности восстановления платежей наличными в течение ныне установленного срока, сочли своим долгом возможно скорее представить министрам его величества свои соображения относительно мер, предлагаемых этими Комитетами на одобрение Парламента. В первую очередь оказывается, что, по мнению Комитетов, мера, предписывающая банку возобновить платежи наличными 5 июля, в срок, указанный существующим законом, «совершенно неосуществима и была бы всецело недействительна, если не разорительна». Во-вторых, оказывается, что оба Комитета пришли к своему заключению в тот период, когда находящиеся в обращении банкноты Английского банка не намного превосходят 25 млн. ф. ст., когда цена золота составляет около 4 ф. ст. 1 шилл. за унцию и когда налицо большое бедствие в результате застоя торговли и понижения цен импортных товаров. Министрам его величества должно быть ясно, что до тех пор, пока будет продолжаться такое или до некоторой степени подобное положение вещей, без какого-либо значительного улучшения, с одной стороны, или ухудшения — с другой, Английский банк, действуя так же, как в настоящее время, и удерживая выпуск банкнот приблизительно на нынешнем уровне, не мог бы рискнуть вернуться к платежам наличными с какой-либо вероятностью доставить государству пользу без опасности для учреждения. Оба Комитета парламента, повидимому, побуждаемые этим соображением, высказались в том смысле, что банк не должен возобновлять платежей монетой раньше, чем через четыре года, но должен быть обязан с 1 мая 1821 г. разменивать свои банкноты на слитки золота стандартной пробы по монетной цене по требованию на сумму не менее 30 унций. А так как Комитетам кажется целесообразным, чтобы возобновление платежей по монетной цене производилось постепенно, то они предлагают, чтобы, начиная с 1 февраля будущего года, банк начал платить по своим банкнотам слитками по требованию на суммы не менее 60 унций по 4 ф. ст. 1 шилл. за унцию, а с 1 октября 1820 г. до 1 мая следующего года — по 3 ф. ст. 19 шилл. 6 пенсов за унцию. Если директора банка имеют правильное представление о взглядах Комитетов при предъявлении этой схемы парламенту, они вынуждены сделать вывод, что цель Комитетов состоит в обеспечении, во всяком случае и при всевозможных изменениях обстоятельств, возвращения к оплате банкнот золотом по монетной цене по истечении двух лет, и что эта мера должна быть осуществлена таким образом, чтобы наименования монетной цены сохранились и на позднейшее время, а банку было предоставлено контролировать рыночную или вексельную цену золота только при помощи выпуска банкнот. Далее, директорам банка кажется, что по отношению к окончательному осуществлению этого плана и к оплате банкнот золотом по монетной цене у банка отнимается всякая власть и что, когда кладовые банка снова будут открыты для оплаты его банкнот, ему останется только регулировать свои выпуски и производить закупки золота, чтобы иметь возможность удовлетворять всевозможным требованиям. Под влиянием таких впечатлений директора банка считают себя вправе заметить министрам его величества, что, поскольку они обязаны платить по своим банкнотам по требованию установленной монетой по монетной цене в 3 ф. ст. 17 шилл. 10 1/2 пенсов за унцию, они были бы последними, кто стал бы возражать против какой-либо меры, рассчитанной на достижение этой цели; но так как на них лежит обязанность рассматривать действие всякой предстоящей меры, поскольку она влияет на выпуск их банкнот, которым регулируется деятельность всех частных банков и из которого составляется всё денежное обращение, за исключением банкнот частных банкиров, то они чувствуют себя обязанными, в связи с новым положением, в какое они были поставлены актом 1797 г. о приостановке размена, твердо помнить и о своих обязанностях по отношению ко всему обществу, интересы которого в денежном и торговом отношении были в большой степени доверены их усмотрению. Будучи, таким образом, обязанными стать на более широкую точку зрения и при своём рассмотрении этой меры принять во внимание интересы всего общества, директора банка не могут не чувствовать нежелания, хотя и невольного, к тому, чтобы взять на себя ответственность за одобрение системы, которая, по их мнению, во всех своих тенденциях и последствиях затрагивает всю страну в общем гораздо больше, чем непосредственные интересы одного только банка. Разумеется, по первоначальному уставу банк формально не обязан входить в рассмотрение общих политических принципов, которыми управляется наша великая империя во всех её торговых и денежных делах и которые входят в компетенцию только исполнительной власти, парламента и всего общества. В сферу деятельности банка не входит также изложение принципов, которыми должна регулироваться эта политика. На него возложена особая и свойственная ему обязанность управлять делами банка, поскольку они связаны с уплатой процентов по государственному долгу, с хранением порученных его заботам вкладов и с обычными ссудами, которые он привык предоставлять правительству. Но, когда в настоящее время в силу нового положения, в которое директора банка поставлены актом о приостановлении размена, они призваны создать фонд для поддержки всего национального денежного обращения, будь то в слитках или в монете, и когда предлагается, чтобы они осуществили эту меру в течение данного периода путём регулирования рыночной цены золота при помощи ограничения выпуска банкнот, какими бедствиями ни сопровождалось бы это ограничение для отдельных лиц или для общества в целом, они считают своим священным и настоятельным долгом откровенно изложить свои взгляды на этот предмет, в первую очередь министрам его величества, чтобы молчаливое согласие и содействие на этой стадии не могли бы когда-либо в будущем быть изображены как предварительная санкция с их стороны такой системы, которую они не могут не считать сопряжённой с полнейшей неуверенностью и риском. Банк не может решить заблаговременно, каков будет ход событий в продолжение ближайших двух, а тем более четырёх лет; он не имеет права рисовать радужные перспективы, для которых у него нет никаких реальных оснований, которые могут привести к разочарованию и за которые на него может быть возложена ответственность. Он не может брать на себя риск рекомендовать неуклонное продолжение того денежного давления на торговый мир, последствия которого он не в состоянии ни предвидеть, ни оценить. Директора банка уже указывали Палате лордов на целесообразность того, чтобы банк платил по своим банкнотам слитками по рыночной цене дня с целью проверить, насколько благоприятный торговый баланс может способствовать восстановлению прежнего порядка вещей, которым они могли бы воспользоваться с выгодой; и в тех же видах они предлагали, чтобы правительство уплатило банку значительную долю сумм, которые были последним авансированы под билеты казначейства. Эти две меры дали бы время для того, чтобы составить правильное суждение о состоянии слиткового рынка и о действительных результатах перемен, вызванных последней войной и всеми её последствиями, а именно: о результатах роста государственного долга, увеличения налогов, повышения цен и изменения условий по отношению к проценту, капиталу и торговым операциям с континентом; также суждение о том, насколько эти изменения временны или постоянны и в каком размере и в какой степени они оказывают действие. Во исполнение только что упомянутых двух мер директора банка имели намерение использовать всякое обстоятельство, которое позволило бы банку расширить свои закупки слитков в той мере, как это могло бы оправдываться законным вниманием к обычной потребности нации в достаточном количестве средств обращения. За исключением этого пункта, они не считают себя вправе действовать согласно только собственному мнению, предположению или соображению. И когда рекомендуется система, видимо, лишающая банк всего, что похоже на самостоятельное понимание потребностей и бед торгового мира, то директора отказываются дать своё предварительное согласие не из недостатка почтения к правительству его величества или к мнениям Комитетов обеих палат парламента, а только в силу серьёзного убеждения, что они не имеют никакого права добровольно возлагать на себя ответственность за поддержку меры, в которой так глубоко заинтересовано всё общество, и, быть может, компрометировать всеобщие интересы империи во всей совокупности отношений в земледелии, обрабатывающей промышленности, торговле и финансах кажущимся согласием или даже открытым одобрением со стороны директоров Английского банка. Рассмотрение этих великих вопросов, а также того, в какой степени предложенной мерой могут быть затронуты все ведущие и доминирующие интересы, остаётся делом законодательной власти, и именно ей, после торжественного обсуждения, а не банку предстоит определять и решать, какое направление должно быть принято. Каковы бы ни были соображения, время от времени высказываемые насчёт банка, каковы бы ни были недоброжелательные нападки на ведение им дел, он усвоил осторожный образ действий, соразмеряя количество средств обращения таким образом, чтобы сделать его соответствующим как нуждам нации, так и нуждам правительства, в то же время удерживая его в разумных пределах по сравнению с тем, что было до войны, как это показано в докладе Комитета Палаты лордов (стр. 10, 11, 12 и 13). Недавняя попытка вернуться к системе платежей наличными, которая началась с наилучшими перспективами (но после была парализована событиями, которые банк не мог ни контролировать, ни предвидеть), сама по себе является достаточным опровержением всех инсинуаций, которые так незаслуженно обрушивались на это учреждение. Повергая эти соображения на рассмотрение министров его величества, директора Английского банка просят, чтобы им было дозволено заверить министров, что они всегда желают, поскольку это от них зависит, всеми средствами помогать проведению в жизнь законодательных мероприятий в целях содействия процветанию империи. Роберт Бест, секретарь. ХЛЕБ, ПРИБЫВШИЙ В ЛОНДОНСКИЙ ПОРТ ИЗ ПОРТОВ ВЕЛИКОБРИТАНИИ И ИРЛАНДИИ
Примечания к книге г-на Мальтуса "Начала политической экономии, рассмотренные с точки знерия их практического приложения" (1820 г.)
От редакции
Настоящая работа представляет собой критические примечания Рикардо к книге Мальтуса «Начала политической экономии, рассмотренные с точки зрения их практического приложения», вышедшей в свет в апреле 1820 г. Поскольку Мальтус в своей книге критиковал взгляды Рикардо, последний счёл необходимым ответить ему и к ноябрю 1820 г. написал к книге Мальтуса свои примечания. Как видно из упоминаний в письмах, Рикардо намеревался опубликовать эту работу либо в форме примечаний к новому изданию книги Мальтуса (причём предполагал сам быть её издателем), либо в форме приложения к новому изданию своей книги «Начала политической экономии и налогового обложения». Однако намерения эти осуществлены не были, работа осталась в черновом виде. Рукопись примечаний считалась утерянной; она была обнаружена лишь в 1919 г. и передана в Британский музей. Рукопись состоит из титульного листа и 222 отдельных листов, исписанных с обеих сторон. Каждому примечанию предшествует указание на ту цитату из книги Мальтуса, к которой оно относится; в первых трёх примечаниях Рикардо указал как начальные, так и конечные слова цитаты, а в остальных привёл только начало её. Работа Рикардо была впервые опубликована в 1928 г. в США <Ricardo D., Notes on Malthus's Principles of Political Economy. Baltimore, The Johns Hopkins Press, 1928>. В 1951 г. она вошла в Собрание сочинений Рикардо, изданное в Англии Кембриджским университетом <The Works and Correspondence of David Ricardo, edited by Piero Sraffa with the collaboration of M.H. Dobb. Vol. II. Notes on Malthus's Principles of Political Economy. Published for the Royal Economic Society, Cambridge, at the University Press, 1951>. Русский перевод был сделан перед Великой Отечественной войной с издания 1928 г. и теперь заново сверен с английским изданием 1951 г. При этом принят следующий порядок расположения материала. Примечания нумерованы; после номера примечания дана ссылка на страницу в книге Мальтуса (по изданию 1820 г.) и приведена соответствующая цитата. В некоторых случаях редакция нашла нужным привести более длинную, в других — более короткую цитату по сравнению с тем, что отмечено в английском издании, стремясь к тому, чтобы приводимая цитата действительно отвечала относящемуся к ней примечанию Рикардо. Примечания расположены по главам и отделам, соответствующим главам и отделам в книге Мальтуса. Цитаты из книги Мальтуса набраны петитом. Кембриджское издание работы Рикардо изобилует примечаниями английской редакции, работавшей непосредственно над рукописью Рикардо. Из числа этих примечаний нами приводятся лишь важнейшие, показывающие последовательные этапы работы Рикардо над текстом. Примечания к Введению
1. Стр. 6. «Поскольку у каждой стороны была собственная теория, объяснявшая неблагоприятное состояние вексельного курса и превышение рыночной цены слитков над их монетной ценой, каждая из сторон держалась той точки зрения, которую привыкла считать правильной; вряд ли можно указать хотя бы одного автора, склонного допустить обе теории, комбинированное действие коих то в одном направлении, то в противоположных направлениях одно лишь могло удовлетворительно объяснить изменчивые и сложные явления, которые можно было наблюдать». Г-н Мальтус, видимо, намекает здесь на спор о том, чем было вызвано изменение в относительной стоимости слитков и банкнот: повышением цены слитков или падением курса банкнот. Решение этого спора не имело никакого значения для действительного вопроса, так как независимо от того, какая сторона была права, это не меняло ни факта обесценения, ни его степени. Это был скорее спор о причинах обесценения, а он не мог быть решён удовлетворительно, потому что не было такого стандарта, которым можно было бы руководствоваться, чтобы установить, повысилась ли стоимость золота или понизился курс банкнот. 2. Стр. 8. «Адам Смит утверждает, что капиталы накопляются посредством сбережения, что всякий бережливый человек является благодетелем общества и что возрастание богатства зависит от перевеса производства над потреблением. Совершенно неоспоримо, что эти положения в большой степени верны. Никакое значительное и прогрессивное возрастание богатства не могло бы происходить без той степени воздержания, которая позволяет превращать ежегодно известную часть дохода в капитал и создаёт перевес производства над потреблением, но совершенно очевидно, что правильность этих положений ограничена и что принцип сбережения, доведённый до крайности, привёл бы в конце концов к уничтожению всякого побуждения к производству». Г-н Мальтус говорит, что эти положения верны в большой степени, но вполне очевидно, прибавляет он, что правильность их ограничена. Но почему? Потому что принцип сбережения, доведённый до крайности, уничтожил бы побуждение к производству. Однако спор идёт не о побуждении к производству; на этот счёт все согласны — накопление капитала может идти гораздо быстрее, чем может увеличиваться число рабочих, так что производство должно перестать расти в такой же пропорции, как капитал, из-за недостатка рабочих рук; а когда оно продолжает расти, рабочие вследствие их сравнительной редкости для капитала могут распоряжаться такой значительной частью продукта, что у капиталиста не останется надлежащего побуждения, чтобы продолжать делать сбережения. Итак, все согласны с тем, что сбережения могут совершаться так быстро, а прибыли будут так низки, что в результате это уменьшит побуждение к накоплению и в конце концов совсем его уничтожит. Остаётся, однако, вопрос, не зависит ли возрастание богатства от перевеса продукта над потреблением? Можно ли ответить на этот вопрос иначе, чем утвердительно? Это верно, говорит г-н Мальтус, но из этого возросшего продукта капиталист получит такую малую долю, что у него не будет никакого побуждения содействовать увеличению количества продукта. Я согласен с г-ном Мальтусом; при распределении действительного продукта капиталист может получить так мало в виде прибыли, а рабочий так много в виде заработной платы, что у капиталиста может исчезнуть всякое побуждение быть бережливым. Так вот, спор о следствиях бережливости — одно, а спор о побуждениях к бережливости — другое <В рукописи последнее предложение вставлено взамен следующей первоначальной редакции текста: «Так вот, спор о возможности увеличить производство путём бережливости — одно, а спор о побуждениях к увеличению производства — другое». — Прим. англ. ред.> Я не отметил бы здесь этого места, если бы не знал, что оно представляет важнейший момент обсуждения в сочинении г-на Мальтуса и часто рассматривается с различных точек зрения. Г-н Мальтус, оказывается, поддерживает не только тот правильный взгляд, что прибыль капиталиста уменьшится вследствие роста производства при предположенных условиях, но также и такой взгляд, который совершенно не согласуется с первым, — что заработная плата рабочего также будет уменьшаться. Количество продуктов в целом возрастёт, можно будет свободно выбрать продукты, и всё же ни капиталист, ни рабочий не выиграют от этого, хотя продукт должен быть предоставлен либо тому, либо другому. Примечания к Главе первой. Об определениях богатства и производительного трудаОтдел первый. Об определениях богатства О Т Д Е Л П Е Р В Ы Й 3. Стр. 28. «Разграничивающая линия, кажущаяся наиболее естественной, это та, которая отделяет материальные предметы от нематериальных, или предметы, поддающиеся накоплению и определённой оценке, от предметов, редко обладающих этими свойствами и никогда не обладающих ими в достаточной степени, чтобы вести к практическим выводам. Адам Смит нигде не дал вполне методического и точного определения богатства; но достаточно ясно, что на протяжении всего своего труда он ограничивает значение этого слова материальными предметами. Можно сказать, что в его работе преобладает следующее определение богатства: «ежегодный продукт земли и труда». Против этого определения можно возразить, что оно упоминает об источниках богатства раньше, чем сказано, что такое богатство, и что оно недостаточно строго, так как охватывает бесполезные продукты земли наряду с теми, которые человек присваивает и которыми он пользуется. Чтобы избежать этого возражения и не придавать этому термину ни слишком узкого, ни слишком широкого смысла, я буду называть богатством материальные предметы, которые необходимы, полезны или приятны человечеству». Г-н Сэй возражает против этого деления, но я думаю, что действительно полезно отделить наше исследование материальных объектов, которые поддаются накоплению и определённой оценке, от исследования тех объектов, которые редко допускают такие процессы. Даваемое г-ном Мальтусом определение богатства не содержит ничего такого, что следовало бы оспаривать; он называет богатством те материальные предметы, которые необходимы, полезны или приятны человечеству. О Т Д Е Л В Т О Р О Й 4. Стр. 31. «Во-вторых, Адам Смит замечает и, нужно признать, замечает правильно, что продукт, который ежегодно сберегается, потребляется так же регулярно, как продукт, затраченный в течение года, но что он потребляется иной группой людей. Если это верно и если допустить, что экономия есть непосредственная причина возрастания капитала, то становится безусловно необходимым во всех спорах, относящихся к росту богатства, обозначать особым наименованием ту группу людей, которая играет столь важную роль в деле ускорения этого роста». Это важное допущение со стороны г-на Мальтуса. Далее будет найдено, что оно противоречит некоторым доктринам, которые он защищает в дальнейшем. 5. Стр. 34. «Если в данные периоды производство страны превосходит её потребление, страна будет иметь средства для увеличения своего капитала, население её скоро возрастёт или же существующее уже население будет наслаждаться большим достатком, а вероятно, и то и другое будет иметь место одновременно. Если в течение этих периодов потребление равно производству, не будет средств для увеличения капитала, и страна окажется почти в застое. Если же потребление превысит производство, то с каждым новым периодом страна будет снабжаться всё хуже, и её благосостояние и население будут, очевидно, приходить в упадок». Это также совершенно верно, и весьма важно это запомнить. 6. Стр. 38. «Согласно этому принципу <по мнению Мальтуса, всякий труд является более или менее производительным. — Ред.> земледельческие работы были бы в общем наиболее производительными, ибо продукт почти всех обрабатываемых в настоящее время земель имеет меновую стоимость, достаточную не только для оплаты рабочих, обрабатывающих эти земли, но и для оплаты прибыли на капитал, авансированный фермерами, и для уплаты землевладельцам ренты за арендованные земли. После земледельческих работ наиболее производительными будут те виды труда, которые больше всего опираются на капитал или на результаты прошлого труда, ибо во всех этих случаях произведённая меновая стоимость намного превысила бы стоимость труда, затраченного на производство, и в форме прибыли она дала бы средства существования максимальному добавочному числу лиц и больше всего способствовала бы накоплению капитала». Неверно говорить о всяком труде, что он произвёл бы наибольшую стоимость в земледелии; неверно потому, что он мог бы быть затрачен на земле, за которую не платилась бы никакая рента; и поэтому он вернул бы только стоимость, равную стоимости затраченного труда и прибыли на вложенный капитал: то же самое, что дал бы всякий другой капитал, в какое бы дело он ни был вложен. Продукт, который прежде получался с земли, может получить большую стоимость вследствие какой-либо новой трудности в производстве хлеба, и результатом этого повышения стоимости было бы иное распределение продукта, причём более значительная часть пошла бы на ренту, а менее значительная — на прибыль. Но эта стоимость ничего не прибавила бы к величию или мощи страны, ибо страна была бы более богатой и великой, если бы не возникла новая трудность в производстве хлеба и, следовательно, цена его не возросла бы <этот абзац и начало следующего до слов «стоимость которого равна не только...» в рукописи вставлены взамен следующего текста: «Неверно, что самую большую стоимость произведут те рабочие, труд которых больше всего опирается на капитал или на результаты прошлого труда; потому, что если я употребляю 100 человек и 10 тыс. ф. ст. капитала, я должен вернуть себе в стоимости произведённых товаров всё, что уничтожили 100 человек, плюс прибыль на 10 тыс. ф. ст. Если я употребляю 2 тыс. человек и 10 тыс. ф. ст. капитала, я должен иметь то, что потребляют 2 тыс. человек, плюс прибыль на 10 тыс. ф. ст. капитала. Г-н Мальтус, повидимому, думает, что стоимость, которая возвращается, будет пропорциональна занятому капиталу: рабочие должны вернуть товар, стоимость которого равна не только...».— Прим. англ. ред.>. Неверно, что самую большую стоимость произведут те рабочие, «труд которых больше всего опирается на капитал или на результаты прошлого труда». Я согласен с г-ном Мальтусом, что они должны дать товар, стоимость которого равна не только стоимости капитала, который даёт им работу, вместе с прибылью, но и прибыли на основной капитал, который помогает их труду. Но я не вижу, почему это обстоятельство должно «больше всего способствовать накоплению капитала». Капитал сберегается из прибыли. Так вот, имеет ли человек 10 тыс. ф. ст. в машинах и тратит только 1 тыс. ф. ст. на содержание рабочих, или имеет 11 тыс. ф. ст., которые употребляет целиком на содержание рабочих, прибыль его будет одинакова; ибо равные капиталы приносят равные прибыли; и я не могу понять, почему доход от одного капитала должен накопляться как капитал легче, чем доход от другого. 7. Стр. 39. «Этот способ рассмотрения предмета представляет, быть может, некоторые преимущества по определённым пунктам в сравнении со способом Адама Смита. Он дал бы возможность установить полезную и достаточно точную шкалу производительности труда, вместо того чтобы делить труд только на два вида и проводить между ними жёсткое разграничение. В самом определении было бы установлено естественное превосходство земледелия, которое Адам Смит вынужден после объяснять, и в то же время были бы указаны многочисленные случаи, когда рост промышленности и торговли становится более производительным, чем рост земледелия, как для государства, так и для частных лиц». Так как предпосылки в отношении земледелия не обоснованы, то так же не обоснован и вывод. Ни г-н Мальтус, ни Адам Смит не показали ещё «естественного превосходства земледелия» «в шкале производительности». 8. Стр. 40. «Труд земледельца должен стоять на первом месте в силу той простой причины, что его валовой продукт достаточен для содержания части трёх главных классов общества: тех, кто живёт на ренту, тех, кто живёт на прибыль, и тех, кто живёт на заработную плату. Труд в промышленности и торговле должен стоять на следующем месте, так как стоимость его продукта будет поддерживать существование части двух из числа этих общественных классов. А непроизводительные рабочие Адама Смита стояли бы на третьем месте по производительности труда, так как их труд не поддерживает непосредственно никаких иных классов, кроме них самих». У меня будут ещё удобные случаи исследовать основательность этой классификации. Теперь я скажу только, что люди счастливы постольку, поскольку у них есть изобилие товаров, в которых они нуждаются. Если бы именно изобилие хлеба и лёгкость его получения давали хлебу то превосходство, о котором идёт речь, я согласился бы с заключением г-на Мальтуса, но в действительности происходит обратное. Почему стоимость хлеба доставляет ренту? И почему рента повышается время от времени? Потому что стоимость хлеба повышается по мере того, как становится труднее производить его. Увеличьте эту трудность, и стоимость хлеба, так же как и рента, возрастёт ещё больше. Так вот, если только эта особенная трудность получения в требуемом изобилии товара, в котором мы нуждаемся, не представляет выгоды, я не вижу никакого основания для принятой классификации. Если бы наши запасы угля для удовлетворения растущего спроса получались при затрате всё большего и большего количества труда, стоимость угля повысилась бы, и многие копи давали бы большой прирост ренты наряду с обычной прибылью с капитала. Даёт ли это углю и связанным с ним профессиям право на какое-либо особое преимущество? Уголь будет иметь более высокую стоимость, но только благодаря его редкости; не лучше ли было бы иметь уголь меньшей стоимости, но в большем изобилии? Итак, я спрашиваю, не будет ли также весьма желательно иметь хлеб меньшей стоимости и в большем изобилии? Если г-н Мальтус ответит — да, рента исчезает, и исчезает то превосходство, на котором он настаивает. Если он ответит — нет, то я хотел бы иметь какие-то лучшие доказательства того превосходства, которое он отстаивает. <Последнее предложение вставлено в рукописи взамен следующего: «Если он ответит — нет, я надеюсь, что вряд ли многие согласятся с ним». — Прим. англ. ред.>. Примечания к Главе второй. О природе и мерах стоимостиОтдел первый. О различных видах стоимости О Т Д Е Л П Е Р В Ы Й 9. Стр. 54. «Каждый товар стал бы, таким образом, мерой меновой стоимости всех других и в свою очередь измерялся бы любым другим товаром. Каждый товар был бы также представителем стоимости. Тот, кто имел бы кварту вина, мог бы считать себя обладателем стоимости, равной четырём фунтам хлеба, фунту сыра, известному количеству кожи и т. д. и т. д., и таким образом каждый товар обладал бы, с большей или меньшей точностью и удобством, двумя существенными свойствами денег: быть как представителем, так и мерой стоимости». Из всего, что г-н Мальтус сказал о меновой стоимости, явствует, что она в большой мере зависит от нужд людей и от относительной оценки, которую они придают товарам. Это было бы верно, если бы люди из различных стран встречались на ярмарке с разнообразными продуктами, причём у каждого был бы особый товар, на который не влияла бы конкуренция какого-либо другого продавца. При таких условиях товары покупались и продавались бы соответственно относительным нуждам тех, кто явился на ярмарку; но, когда нужды общества хорошо известны, когда налицо сотни конкурентов, готовых удовлетворить эти нужды при условии, что они получат известную и обычную прибыль, не может существовать такого правила для регулирования стоимости товаров. На такой ярмарке, какую я предположил, человек мог бы быть расположен дать фунт золота за фунт железа, поскольку он знаком с полезными свойствами последнего, но при свободном действии конкуренции он не смог бы отдать такую стоимость за железо, а почему? — потому, что стоимость железа неизбежно понизилась бы до издержек его производства, так как издержки производства есть стержень, вокруг которого колеблются все рыночные цены. 10. Стр. 58. «Адам Смит совершенно справедливо заметил, что торговца интересует исключительно номинальная стоимость товаров, или их цена. Для него имеет очень мало значения, что сотня фунтов стерлингов или товары, которые он покупает на эту сумму, могут купить в Бенгалии большее или меньшее количество предметов первой необходимости или жизненных удобств, чем в Лондоне. Ему нужно только иметь орудие, с помощью которого он мог бы приобрести товары, являющиеся предметом его торговли, и оценить относительную стоимость своих продаж и покупок». Я не могу согласиться с Адамом Смитом или с г-ном Мальтусом, что торговца интересует только номинальная стоимость товаров, или их цена. Ему, конечно, нет дела до стоимости предметов первой необходимости и жизненных удобств в Бенгалии, когда он покупает там муслин, чтобы продать его в Англии; но, так как он должен платить за свои товары либо деньгами, либо товарами и надеется продать их с прибылью в деньгах или товарах, он не может быть равнодушен к действительной стоимости мерила, в котором должны быть реализованы как его прибыль, так и стоимость товаров. 11. Стр. 60. «Но хотя драгоценные металлы прекрасно выполняют весьма важные функции меры стоимости благодаря стимулу, который они дают распределению и производству богатства, ясно, однако, что они не являются надёжной мерой меновой стоимости товаров в различных странах или в одной и той же стране в различные эпохи. Если мы узнаём, что рабочий день в настоящее время в какой-либо стране стоит четыре пенса или что ежегодный доход такого-то монарха составлял 700 или 800 лет тому назад 400 тыс. ф. ст. в год, то эти высказывания о номинальной стоимости не дают нам никаких сведений ни о положении низших классов в первом случае, ни о средствах монарха — во втором. Если бы мы не имели других данных по этому вопросу, то не могли бы ничего сказать о том, живут ли рабочие в данной стране в нищете или в большом изобилии, можно ли считать данного короля имеющим недостаточный доход или же названная выше сумма должна считаться чрезмерной и невероятной <Юм справедливо сомневается, что Вильгельм Завоеватель мог иметь 400 тыс. ф. ст. ежегодного дохода, как говорит один древний историк, на которого ссылались все позднейшие авторы. — Прим. Мальтуса.>. Вполне очевидно, что в подобных постоянно встречающихся случаях сведения о стоимости заработной платы, доходов и товаров, оцениваемой в драгоценных металлах, будут для нас мало полезны. Что нам нужнее, так это какая-либо оценка, которую можно было бы назвать реальной меновой стоимостью, указывающая количество предметов первой необходимости и жизненных удобств, которым мог бы распоряжаться владелец заработной платы, доходов или товаров. Без этого знания указанные выше номинальные стоимости могут нас привести к самым ошибочным заключениям; и именно в отличие от этих стоимостей, часто указывающих только на чисто номинальное увеличение или уменьшение богатства, термин реальная меновая стоимость кажется точным и подходящим, потому что означает увеличение или уменьшение способности приобретать реальное богатство или важнейшие жизненные блага... Мы действительно вправе произвольно назвать реальной стоимостью товара труд, затраченный на его производство, но, поступая так, мы употребляем слова в ином значении, чем то, в котором они обычно употребляются... Право создавать определения должно быть, очевидно, ограничено их соответствием и их употреблением в науке, к которой они применяются». Несомненно верно, что, если нам сказано только, что доход такого-то короля когда-то составлял 400 тыс. ф. ст. в год, мы ещё вовсе не знаем, умирали ли рабочие в той стране с голоду или жили в большом изобилии. Чтобы определить действительное могущество этого монарха, было бы весьма целесообразно выяснить, каковы были цены на хлеб и труд в стране в то время. Но даже после этого было бы ошибкой сказать, что мы установили реальную величину дохода этого короля. Гумбольдт рассказывает, и г-н Мальтус очень настаивает на этом факте, что в Южной Америке на участке земли данного размера при помощи данного количества труда можно получить в [ ] <пропуск в оригинале. На стр. 382 Мальтус приводит цитату из работы Гумбольдта, из которой явствует, что в Южной Америке участок земли данной площади под бананами может прокормить в 25 раз больше людей, чем такой же участок под пшеницей в Европе. Однако Гумбольдт ничего не говорит о количестве вложенного труда. — Прим. англ. ред.> раз большее количество средств существования, чем с такого же участка земли и при помощи того же количества труда в Европе. Итак, король в той стране мог бы, вероятно, при помощи труда 1 тыс. человек, занятых в земледелии, содержать армию в 10 раз большую <конец этого предложения вставлен взамен следующей первоначальной редакции: «чем при той же численности людей в Англии». — Прим. англ. ред.>, чем король в нашей стране, имевший в своём распоряжении то же число людей для добывания средств существования. Можно ли было бы сказать поэтому, что его доход в 10 раз больше? Г-н Мальтус ответил бы утвердительно, потому что он оценивает реальную величину дохода по числу рабочих, трудом которых вы можете распоряжаться. По денежной стоимости доходы королей могут быть почти равны; они могли бы быть почти равны, если оценивать их в железе, сукне, чае, сахаре и всяком другом товаре, но по власти над трудом американский монарх мог бы иметь весьма решительное превосходство. А чем это вызывается? Очень низкой стоимостью труда в Америке. Доходы обоих королей, по моему мнению, были бы почти равны, но при расходовании этих равных доходов один получил бы большее количество труда, так как последний дёшев, а другой — меньшее количество труда, так как он дорог. Г-н Мальтус справедливо жалуется, что золото и серебро — товары, стоимость которых изменчива, а потому они не пригодны как мера действительной стоимости для периодов, относящихся к разным эпохам. Мы нуждаемся в стандартном мериле стоимости, которое было бы само неизменным и поэтому точно измеряло бы изменения стоимости <вместо «изменения стоимости» первоначально было написано «стоимость». — Прим. англ. ред.> других предметов. А на чём хочет остановиться г-н Мальтус, как на приближении к этому масштабу? На стоимости труда. По его мнению, о товаре можно сказать, что стоимость его повышается или понижается соответственно тому, можно ли на него купить большее или меньшее количество труда. Итак, г-н Мальтус претендует на неизменность своего стандартного мерила! Ничего подобного; он признаёт, что его стандарт подвержен тем же случайностям и изменениям, как и все другие предметы. Зачем же тогда останавливаться на таком стандарте? Последний может быть очень полезен, чтобы устанавливать время от времени способность данного дохода покупать труд, но зачем в качестве стандартного мерила стоимости выбирать товар, который заведомо изменчив? Я не вижу, чтобы приводилось какое-либо другое основание, кроме того, что «он уже принят как наиболее обычный и наиболее полезный». Если бы даже это было верно, мы всё же вправе отвергнуть его, если он не отвечает цели, для которой предложен. Какой бы товар ни выбрал кто-либо в качестве мерила реальной стоимости, этот товар может быть принят в качестве такового только потому, что представляет менее изменчивый товар, чем какой-либо другой; поэтому, если бы по истечении известного времени был открыт другой товар, обладающий этим качеством в более высокой степени, он должен был бы быть принят за стандарт. Итак всякий, кто предлагает мерило реальной стоимости, обязан показать, что выбранный им товар наименее изменчив из всех нам известных. Выполняет ли г-н Мальтус это условие? Ничуть не бывало. Он не признаёт даже, что неизменность есть существенное качество мерила реальной стоимости, ибо говорит, что мерило реальной стоимости включает известное количество предметов первой необходимости и жизненных удобств, признавая, что эти предметы первой необходимости и жизненные удобства так же изменчивы, как любой товар, стоимость которого они призваны измерять. Штука шёлка стоит квартер зерна, а спустя известное время она стоит два квартера зерна. Г-н Мальтус говорит, что реальная стоимость шёлка удвоилась, но разве не могло зерно понизиться до половины своей прежней стоимости — или его стоимость неизменна? Она не неизменна, отвечает г-н Мальтус, и могла понизиться вдвое. Но если это было так в упомянутом примере, то стоимость шёлка не повысилась; на каком же основании вы могли бы утверждать, будто она повысилась? Эти два мнения несовместимы; вы должны настаивать на неизменности вашего стандарта или отказаться от него как мерила реальной стоимости. Два товара обмениваются друг на друга — один приобретает на рынке известное количество другого. Внезапно стоимость обоих изменяется в сравнении со стоимостью всех других товаров и в сравнении друг с другом. На один из них я могу приобрести меньшее, чем прежде, количество железа, чая, сахара; на другой я могу получить большее количество этих товаров. Поэтому, будучи оценены в одном из этих товаров, все другие покажутся понизившимися в стоимости; будучи оценены в другом — повысившимися в стоимости. Если бы мы были уверены, что ничто не изменилось кроме этих двух товаров, если бы мы знали, что для производства их требуется в точности одинаковое количество труда, то каждый из упомянутых товаров — чай, сахар, железо, сукно — был бы точным мерилом изменений в стоимости двух других. Не думаю, чтобы г-н Мальтус отрицал это. Предположим, что один товар обменивался на количество сукна, которое на 20% больше прежнего, — в таком случае я был бы почти уверен, что он обменивался бы на железо или чай в количестве, также на 20% больше прежнего, а если бы стоимость труда не изменилась, то и на количество труда, больше прежнего на 20%. Я имел бы тогда основание сказать, что реальная стоимость этого товара повысилась на 20%. Предположим теперь, что на другой товар, напротив, можно купить количество каждого из этих товаров, на 20% меньшее, чем прежде. Я тогда также имел бы основание сказать, что действительная стоимость его понизилась на 20%. Если бы мы оценивали каждый из товаров в другом товаре, то стоимость одного из них казалась бы возросшей на 40%, а стоимость другого — понизившейся пропорционально. Так вот, меня как раз обвиняют в том, что я даю произвольное определение. Я стараюсь измерить изменения в реальной стоимости товаров, сравнивая их стоимость в различные периоды со стоимостью другого товара, которая, как я имею все основания думать, не изменилась, и г-н Мальтус не возражает против этого, пока я ограничиваюсь широкой группой товаров. Если бы стоимость золота менялась в сравнении со всеми другими предметами и золото обменивалось на большее количество их, он назвал бы это увеличением стоимости золота. Если бы так же менялась стоимость железа, сахара, свинца и т. д. и т. д., он продолжал бы утверждать то же самое, но если бы повысилась стоимость хлеба или труда в сравнении со стоимостью всех других товаров, он сказал бы, что увеличилась стоимость не хлеба или труда: я ведь беру их за стандарт, и вы должны говорить, что стоимость хлеба и труда осталась неизменной, а упала стоимость всех других товаров. Напрасно было бы доказывать, что возникли новые трудности в деле производства хлеба, что он привозится из более отдалённых местностей или что в связи с переходом к обработке более бедных земель большее количество труда было затрачено на производство данного количества хлеба. Этот факт он признал бы — он признал бы, что это даёт достаточное основание говорить, что всякий другой товар при аналогичных обстоятельствах повысился бы в стоимости, но не допустил бы этого вывода для хлеба, потому что выбрал его в качестве стандарта, несмотря на признанную его изменчивость. Мы можем с успехом отнести к нему его же собственное замечание: «Мы действительно вправе произвольно назвать хлеб мерилом реальной стоимости, но, поступая так, мы употребляем слова в ином значении, чем то, в котором они обычно употребляются». «Право создавать определения должно быть, очевидно, ограничено их соответствием и их употреблением в науке, к которой они применяются». Длина может быть измерена только длиной, ёмкость — ёмкостью и стоимость — стоимостью. Г-н Мальтус думает, что «термин реальная меновая стоимость кажется точным и подходящим, потому что означает увеличение или уменьшение способности приобретать реальное богатство или важнейшие жизненные блага». Он не говорит «способность приобретать реальную стоимость», но «реальное богатство»; он измеряет стоимость её способностью приобретать богатство. Но, быть может, г-н Мальтус считает богатство синонимом стоимости! Нет, он не делает этого, он видит между ними явное различие. Смотри стр. 339, где он говорит: «Однако следует признать, что богатство не всегда увеличивается пропорционально возрастанию стоимости, потому что возрастание стоимости может иногда иметь место при фактическом уменьшении количества предметов первой необходимости, удобств и предметов роскоши». Данное количество богатства не может быть мерилом действительной стоимости, если оно само не обладает всегда одной и той же стоимостью. Нет богатства, которое не могло бы изменяться по стоимости. Машина может произвести две пары чулок, стоимость которых будет равна стоимости одной пары. Усовершенствования в земледелии могут доставить два квартера пшеницы, стоимость которых равна стоимости одного квартера, но квартер пшеницы и пара чулок будут всегда представлять одну и ту же долю богатства. Богатство оценивается по его полезности в деле доставления человеку наслаждения; стоимость определяется лёгкостью или трудностью производства; различие вполне отчётливо, и, когда мы говорим о них, как об одном и том же, возникает величайшая путаница <Первоначально примечание здесь заканчивалось; остальная часть вставлена Рикардо позже. — Прим. англ. ред.>. Г-н Мальтус обвиняет меня в том, что я смешиваю весьма важные различия между издержками и стоимостью. Если под издержками г-н Мальтус подразумевает заработную плату, уплачиваемую за труд, то я не смешиваю издержек и стоимости, потому что не говорю, что товар, на который затрачен труд стоимостью в 1 тыс. ф. ст., будет поэтому продан за 1 тыс. ф. ст., он может быть продан за 1 100, 1 200 или 1 500 ф. ст., но я говорю, что он будет продан за такую же сумму, как и другой товар, на который также затрачен труд стоимостью в 1 тыс. ф. ст., т. е. что товары будут иметь стоимость пропорционально количеству труда, затраченному на них. Если под издержками г-н Мальтус подразумевает издержки производства, то он должен включить в понятие издержек прибыль, так же как и труд. Он должен подразумевать то, что Адам Смит называет естественной ценой, представляющей синоним стоимости <На полях рукописи рукой Рикардо написано карандашом, а затем стёрто, но всё же поддаётся прочтению следующее замечание: «Я не говорю, что товар будет стоить издержек на труд, но пропорционально издержкам на труд». — Прим. англ. ред.>. Товар продаётся по естественной <В рукописи слово «естественной» написано над словом «справедливой», но последнее не вычеркнуто. — Прим. англ. ред.> стоимости, когда его цена оплачивает все затраченные на него издержки, начиная с производства и кончая доставкой на рынок. Итак, если мой термин имеет то же значение, что выражение «издержки производства», то это приблизительно то, что я хочу им выразить. Реальная стоимость товара, по моему мнению, означает то же самое, что издержки его производства, а относительные издержки производства двух товаров приблизительно пропорциональны количеству труда, затраченному соответственно на каждый из них с начала до конца. В этих выражениях нет ничего произвольного; может быть, я ошибаюсь, усматривая связь, где её нет, и это хороший аргумент против принятия моего мерила стоимости, но тогда возражение касается принципиальной, а не терминологической ошибки. 12. Стр. 61. «Нельзя оспаривать правильность и полезность различия между способностью товара приобретать драгоценные металлы и его способностью приобретать предметы первой необходимости и жизненные удобства, включая труд. Это различие безусловно необходимо во всех случаях, когда мы сравниваем богатство двух наций или оцениваем стоимость драгоценных металлов в различных государствах и в различные периоды». Я согласен с г-ном Мальтусом, но у нас есть возможность сделать это, установив стоимость денег в деле покупки труда в любые периоды, которые мы хотим сравнить. Нет никакой нужды для этой цели делать из предметов первой необходимости, удобств или труда меру реальной стоимости. О Т Д Е Л В Т О Р О Й 13. Стр. 64. «Мы уже сказали, что всякая меновая стоимость зависит от способности и желания обменять один предмет на другой, и как только вследствие введения общей меры стоимости и средства обращения общество оказалось разделённым, как принято говорить, на покупателей и продавцов, спрос стало возможным определить как желание, соединённое с покупательной способностью, а предложение — как производство товаров, соединённое с намерением продать их». Следует запомнить это определение спроса, потому что в последующей части своего труда г-н Мальтус, повидимому, забывает о нём. В последней главе, где он говорит о гибельных последствиях, возникающих из недостатка спроса, он, как мне кажется, забывает, что для покупки требуется как покупательная способность, так и желание купить. Он говорит, что люди не предъявляют спроса, потому что предпочитают лень труду; но они не могут производить, если не будут работать; а если они не производят, то могут иметь желание купить, но у них отсутствует другой существенный элемент спроса — у них отсутствует покупательная способность. 14. Стр. 66. «Чем больше это желание и эта способность купить какой-нибудь определённый товар, тем больше и интенсивнее, можно сказать, будет спрос на него; но как бы ни были велики это желание и эта способность среди покупателей известного товара, никто из них не захочет дать за него высокую цену, если можно получить его по низкой цене; и до тех пор, пока личные свойства продавцов и конкуренция между ними будут побуждать их доставлять желаемое количество на рынок по низким ценам, действительная интенсивность спроса не будет проявляться». Я согласен с г-ном Мальтусом (смотри стр. 54) <см. примечание 9. — Ред.>; как бы ни был велик спрос на товар, цена его в конечном счёте регулируется конкуренцией продавцов — она установится на уровне естественной цены или около неё. Эта цена, как замечает Адам Смит, необходима, чтобы доставить общепринятую норму заработной платы рабочему и общепринятую норму прибыли капиталисту. При сравнении полезных свойств железа и золота покупатели могли бы и желали бы дать за железо больше, чем за золото; но они не могут сделать это; конкуренция продавцов мешает этому и снижает стоимость обоих металлов до их издержек производства, до их естественной цены. Рыночная цена товара может в силу необычного спроса или недостаточного предложения подняться выше его естественной цены, но это не опровергает той доктрины, что самым важным регулятором цены являются издержки производства. 15. Стр. 69. «Если бы вместо временного изобилия предложения по сравнению со спросом сильно понизились издержки производства какого-нибудь товара, понижение цены было бы точно так же вызвано действительным или ожидаемым увеличением предложения. Во всех почти случаях на практике увеличение было бы действительным и постоянным, потому что конкуренция между продавцами понизила бы цену, а очень редко случается, чтобы понижение цены не вызвало роста потребления». Г-н Мальтус допускает здесь по существу, что цены товаров регулируются в конечном счёте и постоянно не отношением спроса к предложению, а издержками производства товаров. С другой стороны, я не отрицаю, что в процессе роста или падения цен может происходить то, что обычно называется ростом спроса или ростом предложения. О Т Д Е Л Т Р Е Т И Й 16. Стр. 72. «Можно сказать, быть может, что даже согласно взгляду на спрос и предложение, высказанному в предыдущем отделе, постоянные цены значительной массы товаров будут определяться издержками их производства. Это верно, если мы включаем все составные части цены, установленные Адамом Смитом, хотя и неверно, если мы принимаем во внимание только те её части, которые установлены г-ном Рикардо». Под издержками производства я неизменно подразумеваю заработную плату и прибыль. Адам Смит включает в них ренту. На моём столе могут лежать два хлеба: один, полученный с очень плодородной земли, другой — с наихудшей; в последнем не будет содержаться никакой ренты, так как всей его стоимости будет достаточно только для уплаты заработной платы и прибыли. Именно этот хлеб будет регулировать стоимость всего хлеба, и, хотя будет верно, что рента, которую доставляет другой хлеб, будет равна всей разнице между издержками по возделыванию пшеницы, из которой он сделан <последующая часть этого предложения в рукописи вставлена взамен следующего первоначального текста: «всё же рента уплачивается именно вследствие разницы между плодородием земли, на которой выращивается эта пшеница, и плодородием той земли, где выращивается пшеница для второго хлеба, причём эта разница регулирует стоимость всей пшеницы». — Прим. англ. ред.>, и издержками по возделыванию пшеницы, из которой сделан хлеб, служащий стандартом, всё же только вследствие этой разницы в издержках выплачивается рента. Двадцать различных хлебов, продающихся по одной цене, могут доставлять различные доли ренты, но только тот из них, который не даёт никакой ренты, регулирует стоимость остальных и должен рассматриваться как стандарт. Итак, в действительности в издержках производства всех земледельческих продуктов не заключается рента, так как стоимость продукта, произведённого при помощи капитала, вложенного в последнюю очередь, даёт средства для компенсации за заработную плату и прибыль, но никакой компенсации за ренту. Только в этом смысле я расхожусь во мнении с Адамом Смитом. 17. Стр. 74. «Никогда не было сомнения в том, что принцип предложения и спроса определяет исключительно, очень точно и регулярно цены монопольных товаров безотносительно к издержкам производства; повседневный и постоянный опыт учит нас, что цены сырья, особенно сырья, больше всего подверженного влиянию времени года, всегда определяются в момент продажи, при торге между продавцом и покупателем, и сильно разнятся в разные годы и в различные сезоны, хотя на них могло быть затрачено почти одно и то же количество труда и капитала... Поэтому по отношению к наиболее значительной группе товаров признано, что в момент, когда рыночные цены устанавливаются, они определяются согласно принципу, совершенно отличному от издержек производства, и что цены эти в действительности почти всегда отличаются от того, чем они были бы, если бы регулировались этими издержками». Все допускают, что спрос и предложение управляют рыночной ценой, но что именно определяет предложение по индивидуальной цене? Издержки производства. Почему стоимость хлеба у нас неизменно выше, чем во Франции? Не в силу более значительного спроса на него, но в силу более высоких издержек производства его в нашей стране. 18. Стр. 75. «Существует также другая группа продуктов, как, например, продукты обрабатывающей промышленности, в особенности те, сырьё для которых обходится дёшево и существующие рыночные цены которых чаще совпадают с издержками производства, вследствие чего может показаться, что цены их определяются исключительно этими издержками. Однако даже в этом случае каждодневный опыт показывает нам, что всякое изменение в спросе и предложении совершенно перевешивает на некоторое время влияние этих издержек производства... Но, если это верно, из этого следует, что великий принцип спроса и предложения вводится в действие, чтобы установить то, что Адам Смит называет естественными ценами, а также и рыночные цены». Автор забывает данное Адамом Смитом определение естественной цены, иначе он не сказал бы, что спрос и предложение могут определить естественную цену. Естественная цена — только иное название для издержек производства. Когда какой-нибудь товар продаётся за такую цену, которая возместит заработную плату за затраченный на него труд, доставит также ренту и прибыль по существующей норме, Адам Смит сказал бы, что этот товар продаётся по своей естественной цене. Так вот, эти затраты остались бы прежними независимо от большего или меньшего спроса, независимо от высокой или низкой рыночной цены. Шляпочник может производить 10 тыс. шляп при той же норме затрат, при которой он может произвести 1 тыс., — их естественная цена, следовательно, одинакова, независимо от того, производит ли он то или другое количество, но их рыночная цена будет зависеть от предложения и спроса — предложение в конечном счёте будет определяться естественной ценой, т. е. издержками производства. 19. Стр. 76. «Если, например, все товары, потребляемые в Англии, будь то продукты земледелия или обрабатывающей промышленности, могли бы производиться в течение ближайших десяти лет без приложения труда и, несмотря на это, производство их было бы в точности равно производству при естественном ходе вещей, то, если предположить, что желания покупателей и их покупательная способность не меняются, не подлежит никакому сомнению, что цены остались бы прежними». Эти положения, те, которые предшествуют им, и те, которые следуют за ними, насколько мне известно, никем не оспариваются. 20. Стр. 77. «Но наиболее яркий факт, какой можно себе вообразить, чтобы доказать, что издержки производства влияют на цену товаров лишь постольку, поскольку они регулируют предложение последних, постоянно находится перед нами: это та искусственная стоимость, которая придаётся банкнотам путём ограничения их выпуска. Составленный с этой целью прекрасный и действенный план г-на Рикардо основан на том правильном принципе, что, если ограничить выпуск банкнот таким образом, чтобы сумма их не превышала того количества золота, которое обращалось, если бы деньги были металлическими, было бы возможно всегда поддерживать стоимость банкнот на уровне стоимости золота. И если бы это уменьшение выпуска банкнот могло быть осуществлено без того, чтобы банкноты разменивались на золото, я уверен, что г-н Рикардо также признал бы, что в этом случае стоимость банкнот не испытала бы никакого изменения. Однако если стоимость предмета, производство которого сравнительно почти ничего не стоит, хотя он выполняет одну из важнейших функций золота, можно удержать на уровне стоимости золота путём предложения его в том же количестве, то в этом заключается самое ясное доказательство того, что стоимость самого золота зависит от издержек производства его лишь постольку, поскольку эти издержки влияют на предложение этого металла, и что, если бы эти издержки исчезли при условии, что предложение его не увеличилось бы, стоимость золота в нашей стране оставалась бы попрежнему неизменной». Я вполне согласен с замечаниями г-на Мальтуса в этом параграфе <в рукописи здесь вычеркнуты следующие слова: «но они неприменимы ни к какому другому товару, кроме бумажных денег. Деньги не потребляются». — Прим. англ. ред.>. Но он забывает, что те, кто выпускает бумажные деньги, не имеющие никакой стоимости, обладают особой привилегией. Если бы каждый мог выпускать бумажные деньги в любом количестве и не был бы обязан выкупать их, то долго ли они имели бы какую-то стоимость сверх их издержек производства? Г-н Мальтус неверно понимает вопрос. Я не говорю, что при отсутствии добавочного предложения товара стоимость его будет всегда соответствовать его естественной цене, но говорю, что издержки производства регулируют предложение и, следовательно, регулируют цену. И позвольте мне дальше заметить, что я считаю это верным только в тех случаях, когда нет монополии и всякий волен предлагать товары в любых количествах. Все примеры, приводимые г-ном Мальтусом, представляют либо случай замкнутой монополии, либо случаи, когда часть естественной цены выплачивается другими, как в примере с налогами в пользу бедных, понижающими цену труда, или с премиями на производство, понижающими стоимость производимого товара, так как производитель имеет право на премию. 21. Стр. 83. «Цена, которая отвечает этим <Мальтус перечисляет три условия, которые должны быть выполнены, чтобы данный продукт продолжал доставляться на рынок. Первое: труд, затраченный на производство какого-нибудь товара, должен быть эквивалентен стоимости предметов, даваемых рабочему в обмен; такое вознаграждение побудит рабочего к дальнейшему производству. Второе: поскольку рабочий вознаграждается за счёт предшествующего накопления товаров, он должен получать такую оплату, чтобы это вознаграждение продолжало осуществляться и в дальнейшем. Третье: цена товаров должна быть достаточной для обеспечения постоянного предложения продуктов питания и сырых материалов. — Ред.> условиям, есть именно та, которую Адам Смит называет естественной ценой. Я скорее был бы расположен назвать её необходимой ценой, потому что этот термин лучше выражает связь с условиями предложения и в силу этого поддаётся более простому определению». В этом объяснении необходимой, или естественной, цены г-н Мальтус по существу сказал то же, что и Адам Смит, и я со всем этим согласен, но <в рукописи здесь вычеркнуты слова: «я думаю, что она не регулируется спросом и предложением». — Прим. англ. ред.> он непоследователен, поскольку утверждает, что естественная цена регулируется спросом и предложением. Действительно, в последней части стр. 84 он говорит, что стоимость составных частей естественной цены, или издержки производства, сама определяется отношением спроса к предложению этих составных частей. И здесь г-н Мальтус целиком изменяет своё первоначальное положение. Он начал с утверждения, что естественная цена товара зависит от отношения спроса к предложению этого товара — положение, которое я оспариваю; теперь он говорит, что естественная цена товара зависит от спроса и предложения орудий, необходимых для его производства, т. е. что его издержки зависят от изменяющейся стоимости труда, от прибыли и ренты, из которых составляются эти издержки. По этому предмету мне придётся сделать ещё некоторые замечания в другой части настоящего труда. Здесь я довольствуюсь тем, что отмечаю существенное различие между двумя положениями. Действительно, второе положение гласит: «естественная цена товара может повышаться или понижаться, потому что могут повышаться или понижаться издержки его производства». Никто не будет спорить против этого. Это означает только, что издержки производства регулируются законами, определяющими ренту, прибыль и заработную плату. Мы увидим, в какой степени на них влияют спрос и предложение. О Т Д Е Л Ч Е Т В Ё Р Т Ы Й 22. Стр. 86. «Под меновой стоимостью, что ясно из самого термина, следует разуметь стоимость, которая обменивается на какие-либо другие товары; предположим, что на производство одного товара затрачивается большее количество труда; если при этом больше труда затрачивается также на другие товары, на которые первый обменивается, то совершенно ясно, что меновая стоимость первого товара не может быть пропорциональна труду, затраченному на его производство. Если, например, в то время как увеличивается труд, затрачиваемый на производство хлеба, возрастает также количество труда для производства денег и многих других товаров, сразу становится невозможным сказать с уверенностью, что стоимость всех товаров увеличилась или уменьшилась пропорционально тому, больше или меньше труда затрачено на их производство. В этом случае очевидно, что на производство хлеба затрачено больше труда, хотя бушель пшеницы может всё ещё обмениваться на такое же количество денег или труда, как и прежде. Следовательно, меновая стоимость хлеба, несомненно, не изменилась пропорционально добавочному количеству труда, которого стоило его производство». Я не вижу никакой непоследовательности, если сказано, что изменилась меновая стоимость и хлеба, и труда, и денег. Я сравниваю их стоимость со стоимостью сахара, железа, башмаков, сукна, меди и т. д. и т. д. и нахожу, что они будут обмениваться на большее количество всех этих вещей, чем прежде; почему же неправильно говорить, что все три товара возросли в стоимости, хотя они обмениваются на такое же точно количество каждого из этих трёх товаров, как и прежде? Мне абсолютно необходимо сказать это или же сказать, что сахар, железо, башмаки, сукно, медь и тысячи других товаров понизились в стоимости, и если я приму последний термин, то не представится ли во всей своей силе возражение г-на Мальтуса, что в то время, как все эти товары будут обмениваться друг на друга в такой же пропорции, как и прежде, мы утверждаем, что стоимость их понизилась? Предположим, что рудники не будут давать то количество серебра, какое они обычно давали прежде при том же количестве труда, и что поэтому стоимость серебра удвоилась. Если чай продавался прежде по 8 шилл. за фунт, то теперь он стал бы продаваться по 4 шилл. Если хлеб продавался прежде по 80 шилл. за квартер, то он стал бы продаваться теперь по 40 шилл. Но предположим, что чай сделался более редким и стоимость его повысилась до 8 шилл., а хлеб получается при затрате большего труда и стоимость его повысилась до 80 шилл., то разве не будет попрежнему верно, что стоимость хлеба, чая и денег удвоилась? 23. Стр. 87. «Но, если мы даже будем принимать всегда эту меру в относительном смысле, т. е. если скажем, что меновая стоимость товаров определяется сравнительным количеством труда, затраченного на производство каждого, то мы увидим, что нет такой эпохи в развитии общества, когда это положение было бы правильным. В самые ранние периоды, когда не только земля была общей, но почти не было капитала, употребляемого в помощь ручному труду, меновые сделки должны были постоянно совершаться без особенного внимания к количеству труда, которого мог стоить каждый предмет. Наибольшая часть предметов обмена должна была составляться из сырых продуктов различных видов, как дичь, рыба, плоды и т. д., по отношению к которым эффективность труда всегда остаётся неопределённой. Один человек мог затратить пять дней труда, чтобы добыть предмет, который он позже охотно обменял бы на какой-нибудь другой предмет, который мог стоить более счастливому работнику не больше двух дней, а быть может, и одного дня труда». Я вполне соглашаюсь со всеми замечаниями г-на Мальтуса по этому вопросу. Я сам констатировал, что общий принцип стоимости товаров — регулирование её количеством труда, необходимого для производства товара, — изменяется пропорционально тому, употребляется ли основной капитал, долговечен ли этот основной капитал, а также пропорционально тому времени, которое должно пройти, прежде чем товары могут быть доставлены на рынок; но я думал, и теперь ещё держусь того мнения, что в изменении относительной стоимости товаров всякая другая причина, кроме количества труда, требующегося для производства, оказывает сравнительно очень незначительное влияние. Замечание г-на Мальтуса, что эта причина оказывает своё действие на всех ступенях общественного развития, очень справедливо. 24. Стр. 91. «Положение г-на Рикардо, показывающее, что повышение цены труда понижает цену большой группы товаров, имеет, несомненно, чрезвычайно парадоксальный вид, но оно тем не менее верно; и видимость парадокса исчезла бы, если бы это было сказано более естественно». Я рад, что г-н Мальтус признаёт истинность моего положения. Он говорит: «Никто не счёл бы это положение парадоксальным, или даже в малейшей степени невероятным, если бы он заявил, что падение прибыли вызвало бы падение цены тех товаров, в которых, благодаря размеру употреблённого основного капитала, прибыль на этот капитал составляла прежде главную составную часть издержек производства». Так вот признаюсь, я опасался, что г-н Мальтус сам найдёт высказанное мною положение парадоксальным, потому что в некоторых из своих произведений он утверждал, что повышение цены хлеба повлечёт за собой такое же повышение цены труда и такое же повышение цены всех товаров; и только после дальнейшего размышления он счёл нужным уменьшить пропорцию, в которой изменилась бы цена всех товаров в результате изменения цены хлеба, и фиксировать её в размере 25 или 20%, когда цена хлеба изменилась на 33 1/3%; другими словами, когда цена хлеба изменяется на 100%, цены товаров должны измениться на 75—60%. Г-н Мальтус не сделал ни одного исключения. Г-н Мальтус может сказать, что повышение цены хлеба и труда есть нечто совершенно отличное от падения прибыли; это действительно так, если повышение вызвано только падением стоимости средств обращения, в которых определяется цена; в этом случае нет действительного повышения стоимости хлеба и труда, а следовательно, нет и падения прибыли. Г-ну Мальтусу, мне думается, было бы трудно доказать, что может иметь место какое-либо падение нормы прибыли, если не произошло действительного повышения стоимости труда. Только тогда происходит действительное повышение стоимости труда, когда большая доля всего продукта или стоимость большей доли обращается на уплату заработной платы — причём доля продукта не одного только предприятия, а всех. Если суконщик вынужден в силу общего повышения заработной платы отдать более значительную часть сукна на уплату заработной платы, мы можем быть вполне уверены, что шляпочник отдаст более значительную часть своих шляп, сапожник — своих башмаков и литейщик — своего чугуна для той же цели. Всякий другой капиталист будет вынужден поступить так же; даже фермер, хотя цена его товара поднимается, после уплаты ренты будет располагать меньшей долей продукта, и из этой меньшей доли он должен будет выплатить своим работникам более значительную часть, чем прежде <Первоначально примечание оканчивалось этими словами. Остальная часть вставлена Рикардо позже. — Прим. англ. ред.>. Я думаю теперь, что г-н Мальтус согласится со следующим положением. Во всех случаях, когда повышение цены хлеба сопровождается повышением денежной заработной платы и падением прибыли, не только не будет верно, что повысится цена также всех других товаров, но, наоборот, цена значительной группы товаров абсолютно понизится, цены некоторых совершенно не изменятся, а цены другой значительной группы повысятся. Это я считаю правильным взглядом. Цены последней группы товаров вырастут только в ничтожной степени, потому что, хотя они повысятся вследствие повышения цены труда, они понизятся вследствие падения прибыли. Падение в силу последней причины уравновесит в значительной мере повышение в силу предыдущей. Сравни мнение г-на Мальтуса на стр. 95 <см. примечание 27. — Ред.>. «Что станется тогда с учением, что меновая стоимость товаров пропорциональна труду, который был затрачен на них?» и т. д. и т. д. 25. Стр. 92—93. «Несомненно, что если бы в силу какой-либо причины обычная прибыль с капитала уменьшилась, то цена продукта <В машинном производстве. — Ред.> понизилась бы. Это достаточно очевидно. Но г-н Рикардо недостаточно взвесил следствия, которые должны были получиться при обратном предположении и которые также согласуются с фактами, и он совершенно пренебрёг общим результатом. ...Следовательно, как только произойдёт повышение цены труда и понижение прибыли, большое количество продуктов повысится в цене; неправильно поэтому говорить, что «никакие товары не увеличиваются в своей меновой стоимости только потому, что повышается заработная плата»» <См. Д. Рикардо, Начала политической экономии и налогового обложения, т. I, стр. 58 (примечание). — Ред.>. Я по оплошности упустил из виду рассмотреть обратную форму моего первого предположения. Г-н Мальтус вполне прав, утверждая, что многие товары, в стоимость которых входит главным образом труд и которые могут быть быстро доставлены на рынок, повысятся в цене вместе с повышением стоимости труда. Смотри последнее замечание. 26. Стр. 94. «Вполне вероятно, что только потому, что заработная плата повышается, а прибыль падает, повысится в цене вся та (большая) группа товаров, в которой вследствие незначительности вложенного капитала падение прибыли в различной степени более чем перевешивается повышением заработной платы». Любопытно заметить, что г-н Мальтус здесь говорит языком, который сам осуждает. Он говорит о повышении заработной платы, о повышении цены товаров и т. д. и т. д., исходя всегда из предположения, что стоимость денег устойчива, а следовательно, деньги есть мера реальной стоимости других вещей; ибо, если стоимость денег не была устойчивой, если денежная стоимость заработной платы повышалась только потому, что падает стоимость денег, было бы неверно, что прибыли упали; было бы неверно, что стоимость некоторых товаров повысилась, а некоторых других — понизилась, и только стоимость немногих осталась бы без изменений; дело в том, что повысилась бы стоимость всех товаров. Он принимает всё же то определение, которое сам же называет произвольным. <В рукописи здесь вычеркнуты следующие слова: «Если предположить, что он воспользовался бы собственным мерилом стоимости, мог ли бы он объяснить влияние повышения цены на относительную стоимость — на прибыли и т. п.? Пришёл ли бы он к тем же выводам? Конечно, нет, так как если...». — Прим. англ. ред.> Если он говорит, что избранное мною мерило изменчиво, то ни одно из его заключений не является правильным; если он допускает неизменность мерила, то это кладёт конец его возражению против данного мерила (при предположенных мною условиях) как меры реальной стоимости. 27. Стр. 95. «Что станется тогда с учением, что меновая стоимость товаров пропорциональна труду, который был затрачен на них? Товары не только не сохраняют ту же стоимость до тех пор, пока на их производство затрачивают одно и то же количество труда, но в силу влияния общеизвестных причин, действие которых постоянно и всеобще, повидимому, цены всех товаров изменяются, когда изменяется цена труда, за очень немногими исключениями; и едва ли возможно сказать заранее, какие именно товары составляют эти немногие исключения». Г-н Мальтус показывает, что в действительности меновая стоимость товаров не в точности пропорциональна затраченному на них труду; я допускаю это не только в настоящее время, но и никогда не отрицал этого. Затем он доказывает, что количество труда не есть совершенная мера стоимости; но каковы отклонения его от совершенной меры в зависимости от упоминаемых г-ном Мальтусом обстоятельств? Если эти отклонения невелики, как я утверждаю, то мы всё же владеем мерой достаточно точной и, по моему мнению, более приближающейся к истине, чем какая-либо другая из предложенных до сих пор. Предложенная г-ном Мальтусом мера не имеет ни одного из качеств меры стоимости; несовершенства её, связанные с признаваемой им самим изменчивостью, больше, чем какие-либо из тех, которые он приписывает мере, предложенной мною. Денежную цену г-н Мальтус справедливо называет номинальной ценой. Принципы политической экономии не могут быть объяснены изменениями, происходящими в номинальной <В рукописи вместо «номинальной» первоначально было «реальной». — Прим. англ. ред.> цене. Всякий, кто пытался бы объяснить эти принципы, должен был бы принять для этой цели наилучшую меру реальной стоимости, какую может получить. Г-н Мальтус принял ту, которую он считает наилучшей, и ею ему следовало бы ограничиться. 28. Стр. 96—98. «...Ясно, что уплата ренты, или (что сводится к тому же) что цена, достаточная для уплаты ренты, представляет необходимое условие для предложения огромной массы жизненных припасов... Стоимость большей части продуктов может быть разложена на заработную плату, прибыль и ренту. ...Стоимость лишь очень небольшого числа продуктов может быть разложена только на прибыль и заработную плату или даже состоять только из заработной платы. Но, так как известно, что последняя группа продуктов охватывает лишь очень незначительную часть всей массы продуктов в стране, из этого следует, что уплата ренты представляет безусловно необходимое условие, чтобы обеспечить предложение большой массы товаров, и что ренту можно поэтому рассматривать как составную часть цены». Смотри примечание... <Очевидно, примечание 16 к стр. 72. — Прим. англ. ред.> 29. Стр. 98. «Все признают, что меновая стоимость продуктов, подчинённых абсолютной или частичной монополии, не может определяться трудом, затраченным на их производство. На меновую стоимость огромной массы собственности в Англии, составляющейся из жилых домов во всех городах, в высокой степени влияет абсолютная монополия земельной ренты, и необходимость платить эту ренту должна влиять на цены почти всех предметов, производимых в городах». Если товары не обладают более высоким качеством, трудно понять, какое побуждение может заставить покупателя покупать их на более дорогом рынке. 30. Стр. 99. «Со всякого скота платится рента, и, пропорционально его стоимости, эта рента почти одинакова для любого скота. В этом отношении скот существенно отличается от хлеба». Стоимость скота регулируется стоимостью хлеба. Поэтому если бы было показано, что хлеб, регулирующий общую стоимость этого товара, доставляет только заработную плату и прибыль, то скот, полученный при таких же обстоятельствах, не доставит никакой ренты. Я не хочу этим сказать, что хлеб, выращенный на плодородной земле, или скот, разведённый на плодородной земле, не приносят никакой ренты, а хочу сказать только, что известная часть хлеба и известная часть скота не приносят ренты и что этот хлеб и скот регулируют стоимость всего остального хлеба и скота. Если я удобряю поле, неся при этом некоторые издержки, заставляю его приносить больше травы и вскармливаю ею ещё одного быка, то какая часть цены этого быка доставляет ренту? Стоимость быка возмещает только капитал и прибыль. Г-н Мальтус говорит: «если рента была бы значительно уменьшена, не может быть сомнения, что прежнее количество скота могло бы быть доставлено на рынок по гораздо более низкой цене без всякого уменьшения прибыли или заработной платы занятых при этом лиц». Правда, что прежнее количество скота могло бы быть доставлено, но вопрос в том, было бы оно доставлено в действительности? Если, как допускает г-н Мальтус, рента есть следствие, а не причина высокой цены; если верно, что «нет никакого основания полагать, что если бы землевладельцы отдавали всю ренту арендаторам, то хлеб был бы изобильнее и дешевле» <«Inquiry into the Nature and Progress of Rent», p. 57>; если «следствием передачи всей ренты арендаторам было бы только превращение их в джентльменов» <«Inquiry into the Nature and Progress of Rent», p. 57>, то ни хлеб, ни скот не могли бы быть произведены по более низким ценам на землях, обрабатываемых в настоящее время, потому что «последние добавления к нашему отечественному продукту продаются по их издержкам производства» <«Inquiry into the Nature and Progress of Rent», p. 57>. 31. Стр. 101. «Одним из самых обычных явлений во всех странах следует считать усовершенствования в области земледелия, ведущие к увеличению производства и росту населения страны, а через некоторое время к обработке естественно менее производительных земель, причём цены продуктов и труда, как и прибыль, остаются прежними, но в этом случае должна повыситься рента со всех находившихся в обработке земель и вместе с тем, конечно, рента с естественных пастбищ и цена скота, без всякого изменения в цене труда или без всякой добавочной трудности в производстве средств существования». Я могу понять, что вследствие усовершенствований в земледелии при более низкой цене продукта может подвергнуться обработке земля худшего качества по сравнению с тем, какая земля обрабатывалась бы при отсутствии таких усовершенствований, потому что большее количество по более низкой цене может иметь более значительную стоимость, чем меньшее количество по более высокой цене; но при более низкой цене хлеба заработная плата будет низка, а прибыль будет высока, и именно только потому, что прибыль выше, может обрабатываться худшая земля. Предположим, что земли в стране были обработаны в такой высокой степени, в какой это осуществимо, и прибыли были так низки, что не было никакого стимула расширять обработку земли; что труд десяти человек на ещё не обрабатываемых землях не мог бы произвести продукт, стоимость которого была бы достаточна, чтобы одеть и прокормить их, — такая земля не поступила бы в обработку. Предположим теперь, что в земледелии введены усовершенствования и что, следовательно, десять человек на этой плохой земле могут произвести на 30% больше <первоначально в рукописи стояло: «вдвое больше». — Прим. англ. ред.> продуктов, чем они могли вырастить прежде; тогда эта земля поступила бы в обработку, если бы население возросло; но при этих обстоятельствах цена хлеба была бы ниже, цена труда также понизилась бы, а прибыль была бы выше, чем прежде; и ни при каких других условиях эта более бедная земля не могла бы доставить какую-либо прибыль земледельцу. Как велика должна быть тогда ошибка со стороны г-на Мальтуса, если он говорит, что при той же цене продукта, той же цене труда и той же норме прибыли естественно более бедные земли поступили бы в обработку. Во всём этом рассуждении г-н Мальтус забывает следующее: тот факт, что рента не является составной частью цены, не зависит от его доказательства, будто все земли, подвергающиеся теперь обработке, действительно платят ренту <Первоначально в рукописи стояло: «забывает следующее: доказательство того, что рента не уплачивается, зависит не только от того, что в обработку вводятся худшие земли». — Прим. англ. ред.>. Если бы он мог ко всеобщему удовлетворению устроить так, чтобы не было в обработке ни одного участка земли, за который не уплачивалась бы рента, он был бы так же далёк, как и прежде, от решения вопроса, образует ли рента составную часть цены. Если я могу затратить на свою землю больший капитал, не уплачивая за это дополнительной ренты, я могу вырастить некоторое количество хлеба, скота, хмеля и некоторое количество всякого другого земледельческого продукта, в стоимость которого никакая рента не будет входить составной частью. Именно количество, полученное таким образом, и цена, по которой я могу продать его, регулируют стоимость всего остального хлеба, скота и хмеля, и, пока кто-нибудь не станет отрицать этого и не опровергнет моего положения, по моему мнению, установлено, что рента не есть необходимая составная часть цены. Я надеюсь, что сказанное мною может считаться достаточным опровержением утверждения г-на Мальтуса, что «нет ни одной части шерсти, кожи, льна и леса, производимых в нашей стране, которая доставлялась бы с земель описанной категории», т. е. с такой земли, за которую не платится рента. В своём «Исследовании о природе ренты» г-н Мальтус справедливо заметил: «Для всякого фермера, который может распоряжаться капиталом, всегда будет выгодно вложить его в свою землю, если получаемый от этого добавочный продукт целиком оплатит прибыль на его капитал, хотя он ничего не даёт землевладельцу» (стр. 36). На это нельзя ничего возразить. В цену такого добавочного продукта рента не входит. 32. Стр. 103. «...Издержки производства хлеба составляются из всех заработных плат, всех прибылой и всех рент, которые при нынешнем состоянии общества необходимы для того, чтобы хлеб был доставлен на рынок в достаточном количестве, или, другими словами, уплата этих расходов есть необходимое условие предложения. Если бы мы решили употреблять только один термин, то было бы, без сомнения, правильнее говорить о капитале, а не о труде, потому что авансы, называемые капиталом, включают обычно и другие два термина. Естественная, или необходимая, цена товаров зависит от суммы капитала, употреблённого на их производство, плюс прибыль на этот капитал, вычисленная по обычной норме за время, которое он был занят. Но так как сумма авансированного капитала составляется из суммы заработной платы, уплаченной от начала до конца производства, плюс сумма ренты, уплаченной либо непосредственно землевладельцу, либо косвенно в цене сырья, то употребление этих трёх терминов кажется мне решительно предпочтительным, с одной стороны, потому что это более правильно (поскольку рента во многих случаях не представляет авансированного капитала) и, с другой стороны, потому что это даёт больше нужной нам информации». Если бы равные капиталы доставляли товары приблизительно одинаковой стоимости, то могли бы быть некоторые основания для этого аргумента; но так как из капитала, вложенного в дорогостоящий инвентарь и паровые машины <В рукописи здесь вычеркнуты следующие слова: «хотя бы он был по стоимости равен капиталу, оплачивающему только труд». — Прим. англ. ред.>, получается товар совершенно иной стоимости, чем из капитала той же самой величины, употреблённого главным образом на оплату труда, то сразу же становится очевидно, что тот единственный термин, который г-н Мальтус считает более правильным, был бы самым неправильным, какой только можно себе представить. 33. Стр. 103. «Но если рента входит в сырьё для всех почти отраслей промышленности и почти для всего капитала, как основного, так и оборотного, необходимый для её уплаты аванс значительно повлияет на величину вложенного капитала и, в соединении с почти бесконечным разнообразием в сроках этих авансов, весьма существенно затронет ту часть цены, которая превращается в прибыль». Фермер, который платит высокую ренту, нуждается не в большем капитале, чем фермер, платящий низкую ренту. Он платит высокую ренту не потому, что употребляет капитал большей стоимости, а потому, что такой же капитал доставляет ему больший доход. Кроме того, он платит ренту после того, как продал свой продукт. 34. Стр. 106. «Чтобы доказать, что количество труда, которого стоил предмет, есть более точная мера стоимости, чем количество труда, которое можно купить на этот же предмет, г-н Рикардо делает предположение, что производство данного количества хлеба может требовать в один период только половину труда, могущего быть необходимым в другой, более поздний период, и всё же рабочие будут получать в уплату в оба периода одно и то же количество хлеба; в этом случае, говорит г-н Рикардо, это был бы пример товара, меновая стоимость которого повысилась вдвое согласно тому, что г-н Рикардо считает правильным определением стоимости, хотя этот товар обменивался бы не на большее количество труда, чем прежде. Следует признать, что это предположение принадлежит к числу наиболее невероятных. Но если допустить, что такое явление может иметь место, это было бы ярким доказательством неточности определения и сразу показало бы резкое различие, которое должно всегда существовать между издержками производства и стоимостью. Мы встречаем здесь ясный случай увеличения вдвое издержек производства в смысле количества затраченного труда; всё же сделанное предположение допускает, что на товар, издержки производства которого увеличились столь сильно, нельзя будет купить большее количество того товара, который несравненно более распространён и более важен, чем все предлагаемые в обмен товары, именно — труда. Этот пример сразу показывает, что количество труда, которого стоило производство товара, не есть мора его меновой стоимости». Признаюсь, что не понимаю этого места. Исчисляются ли издержки производства количеством труда? Насколько я понимаю, г-н Мальтус говорит — да; тогда издержки производства хлеба удваиваются, потому что он требует двойного количества труда, а г-н Мальтус говорит, что его стоимость не удвоилась, потому что товар будет обмениваться не на большее количество труда. Но как этот товар будет обмениваться на полотно, шляпы, башмаки, железо и всякий другой товар? Он будет покупать двойное количество их; итак, с моей точки зрения, он удвоился в стоимости. Но он не будет обмениваться на двойное количество труда? Конечно, нет, а почему? Потому что стоимость труда повышается вместе со стоимостью хлеба, правда, не в той же пропорции, потому что хлеб не есть единственная вещь, потребляемая рабочим; но стоимость труда повышается, и он будет поэтому покупать большее количество полотна, башмаков, шляп, железа и всякого другого товара. Предлагаемое г-ном Мальтусом доказательство того, что хлеб не удвоился в стоимости, заключается в том, что хлеб не будет покупать такое же, как и раньше, количество товара, который одновременно повысился в стоимости. Но что подразумевается под количеством труда как издержками производства товара? Под издержками всегда подразумеваются затраты на производство <Первоначально в рукописи вместо слов «затраты на производство» стояло слово «стоимость». — Прим. англ. ред.>, оцениваемые в каком-нибудь товаре, обладающем стоимостью, и всегда включающие прибыль на капитал. Издержки производства двух товаров, как я прежде заметил <См. примечание 11. — Ред.>, могут быть пропорциональны затраченному на них количеству труда, но они по существу отличны от самого труда. «Этот пример, — прибавляет г-н Мальтус, — сразу показывает, что количество труда, которого стоило производство товара, не есть мера его меновой стоимости». Конечно, нет, поскольку речь идёт о мальтусовской мере меновой стоимости. О Т Д Е Л П Я Т Ы Й 35. Стр. 110. «Предположим сначала, что для извлечения драгоценных металлов из рудников, не приносящих ренты, требуется приложение известного основного и оборотного капитала в течение определённого времени... Во-вторых, предположим, что производство драгоценных металлов не требует основного капитала, а просто авансов, чтобы оплатить физический труд в течение года... В-третьих, предположим, что одного труда, без каких-либо авансов сверх авансов на пищу в течение одного дня, достаточно, чтобы получить драгоценные металлы, т. е. что поиски на берегу моря в течение одного дня всегда достаточны в среднем, чтобы собрать пол-унции серебра или пятнадцатую часть унции золота». Возражение, сделанное здесь против золота как меры стоимости на основе предположения, что производство его требовало всегда одинакового количества труда, по существу тождественно с тем, которое было сделано в последнем отделе против самого труда как регулятора стоимости. Там было показано, что стоимость товаров меняется не в точной пропорции к количеству труда, требующемуся для их производства; теперь показано, что их стоимость изменяется по отношению к одному особому товару не в точной пропорции к количеству труда, требующемуся для производства этих товаров и особого товара. 36. Стр. 112. «Рыночные цены золота и серебра зависят от количества этих металлов на рынке по сравнению со спросом на них; это количество представляет частично продукт накопления за сотни лет, а годичный продукт рудников влияет на него лишь незначительно. Г-н Рикардо справедливо замечает, что совпадение рыночной и естественной цены всех товаров зависит всегда от лёгкости увеличения или уменьшения их предложения, и он особенно отмечает золото или другие драгоценные металлы среди тех продуктов, в отношении которых влияние годичного производства даёт себя чувствовать только очень медленно. Следовательно, если вследствие крупных и внезапных усовершенствований в машинах, как в промышленности, так и в земледелии, лёгкость производства в общем повысилась бы и потребности населения стали бы удовлетворяться при затрате значительно меньшего труда, стоимость драгоценных металлов по сравнению с другими товарами должна была бы сильно вырасти; однако, поскольку в течение короткого периода количество драгоценных металлов не могло бы соответственно уменьшиться, цены товаров перестали бы представлять затраченное на них количество труда». Я никогда не утверждал, что золото при существующих условиях — хорошая мера стоимости; только гипотетически и с целью иллюстрации принципа я предположил, что все известные причины изменчивости стоимости золота устранены. В случае, который был предположен г-ном Мальтусом, золото не было бы доставлено на рынок в таком количестве, как прежде, если только рыночная цена его не была равной его естественнои цене или не превышала её; уменьшение количества золота постепенно повышало бы его цену. Я сказал: «предположим, что все изменения в стоимости золота устранены, оно было бы тогда хорошей мерой стоимости. Я знаю, что они не могут быть устранены; знаю, что золото есть металл, стоимость которого подвергается таким же изменениям, как стоимость других товаров, и поэтому оно не является хорошей мерой стоимости, но я прошу вас предположить, что все причины изменений устранены, чтобы мы могли говорить об изменениях стоимости других предметов в неизменной мере без путаницы». Есть ли это ответ на мои слова, когда говорят, что золото изменчиво и что я не упомянул о некоторых причинах изменения стоимости? 37. Стр. 114. «Согласно всем полученным нами сведениям о ценах в Бенгалии данное количество серебра будет представлять там количество труда и припасов в шесть или восемь раз большее, чем в Англии. Во всех частях земного шара товары равной денежной цены обмениваются друг на друга. Поэтому в торговле между двумя странами должно случиться, что продукт одного рабочего дня в Англии должен обмениваться на продукт пяти или шести рабочих дней в Индии, если мы примем во внимание разницу в прибыли... ...Когда английские и индийские муслины появятся на германских рынках, их относительные цены будут определяться исключительно их относительным качеством, без малейшего упоминания о самых различных количествах человеческого труда, которого они могли стоить; и то обстоятельство, что на производство индийских муслинов затрачено труда в пять или шесть раз больше, чем на производство английских, не даст первым возможности принести Индии больше денег». Я допускаю самым определённым образом, что золото и серебро могут иметь очень различную стоимость в разных странах, в особенности если их стоимость измеряется количеством хлеба и труда, которыми они смогут распоряжаться. Я действительно старался показать, что эта разница <первоначально в рукописи взамен следующих строк стояло: «...объясняется двумя причинами: во-первых, издержками, связанными с приобретением золота и серебра в обмен на громоздкие товары, если у покупателя нет иных товаров и особенно если эти товары приходится перевозить на большое расстояние. В стране, ввозящей золото, все издержки, стоимость всего этого количества труда на деле должны быть реализованы в золоте». [Последнее предложение позже было заменено следующим: «Издержки по ввозу золота должны повыситься п поэтому должны повысить его стоимость»]. «Во-вторых, различными нормами прибыли в разных странах...». — Прим. англ. ред.> объясняется тремя причинами: во-первых, расходами, связанными с приобретением золота и серебра в обмен на громоздкие товары вследствие расходов по перевозке последних на рынок, где продаются золото и серебро; во-вторых, дальностью путешествия, которая ещё больше повышает эти расходы; в-третьих, различными нормами прибыли в разных странах вследствие неодинакового накопления капитала в соответствии с плодородием почвы. Если труд в Йоркшире дороже, чем в Глостершире, то прибыль будет ниже, и капитал будет постепенно передвигаться из первой местности во вторую, так что во всяком округе будет такая часть общего капитала, которую он может употребить с наибольшей выгодой. Иначе обстоит дело при различии нормы прибыли между независимыми странами. Капитал не перемещается из Англии в Польшу только потому, что в последней труд дешевле; и в силу этого золото будет по стоимости в сравнении с трудом в одном месте ниже, в другом — выше. Я, однако, не согласен с расчётами г-на Мальтуса. Сравнивая день труда в одной стране с днём труда в другой, мы должны принять во внимание <в рукописи после слов «во внимание» первоначально стояли слова «интенсивность труда», и на этом предложение заканчивалось. — Прим. англ. ред.> различные количества труда, которые могут быть понимаемы под общим термином «день труда». Г-н Мальтус подробно остановился на отсутствии склонности к труду и лености рабочих в странах, где раздобыть пищу крайне легко; но он наверное не будет сравнивать день труда южноамериканца или индийца с днём труда англичанина или француза. Полагает ли действительно г-н Мальтус, что на индийские муслины употребляется в пять или шесть раз больше труда, чем на английские? Кроме того, упуская из вида соображение, о котором я только что упомянул, он, несомненно, не принимает в расчёт труд, затраченный на производство машин, например паровых машин и т. д., на уголь и т. д. и т. д. Разве вложенный в них труд не составляет части труда, затраченного на муслины? О Т Д Е Л Ш Е С Т О Й 38. Стр. 119. «В поисках предмета, который был бы пригоден в качестве меры меновой стоимости, наше внимание в первую очередь, естественно, устремляется на тот, который чаще всего является предметом обмена. Не подлежит сомнению, что из всех предметов наибольшая масса стоимости обменивается на труд, как производительный, так и непроизводительный. Во-вторых, стоимость товаров, в обмене на труд, одна может выразить степень их соответствия потребностям и вкусам общества, а также величину их предложения по сравнению с желаниями и численностью будущих потребителей. ...В-третьих, накопление капитала и его производительность в деле увеличения богатства и роста населения зависят почти целиком от его способности ставить рабочих на работу, или, другими словами, от его способности покупать труд». Читатель заметит, что качество, которое, повидимому, больше всего ищет г-н Мальтус в мере реальной стоимости, есть не неизменность её, а то, что «чаще всего является предметом обмена». «Во-вторых, стоимость товаров, в обмене на труд, одна может выразить величину их предложения по сравнению с желаниями и численностью будущих потребителей. В-третьих, накопление капитала зависит от его способности ставить рабочих на работу». Это, конечно, важные вопросы по сравнению с другими, но я спрашиваю, какое отношение они имеют к вопросу о мере реальной стоимости? «Я возражаю против вашей меры стоимости, — говорит г-н Мальтус, — потому что она не так неизменна, как вы её представляете, — существуют причины изменений, затрагивающих её, которые вы не учитываете должным образом». Кто не предположит в таком случае, что, предлагая меру стоимости, г-н Мальтус предложил такую меру, которая не вызывает подобных возражений? Между тем он поступает как раз наоборот; он предлагает меру, которая не только изменчива сама по себе, но особенно изменчива благодаря её связи с другими изменчивыми товарами, и в числе своих соображений в пользу выбора этой меры он приводит несколько доводов, не имеющих никакого отношения к предмету, ибо ничто не должно приниматься во внимание при выборе меры стоимости, кроме её неизменности или почти полного приближения к этому свойству. 39. Стр. 120. «Никакое изобилие товаров не может вызвать действительное и постоянное увеличение капитала, если природа их такова или их стоимость понизилась настолько, что они не могут купить большее количество труда, чем то, которого они стоили». Это верно при любом мериле, выбранном вами для измерения меновой стоимости. При оценке в железе, сахаре или кофе товар стоил мне известное количество одного из этих товаров; я не стану производить его, если он не будет обмениваться на большее количество их. При оценке в труде он обошёлся мне в известную стоимость; я не стану производить его, если он не будет обмениваться на большую стоимость. При оценке в количестве труда я не стану производить товар, если не смогу купить на него большее количество труда, чем было затрачено на его производство. Г-н Мальтус делает примерно те же замечания на следующих двух страницах. 40. Стр. 125. «Но всё же труд, подобно всем другим товарам, изменяется в смысле изобилия или нехватки его в сравнении со спросом, и в различные эпохи и в разных странах он распоряжается совершенно различными количествами главного предмета питания человека; кроме того, в зависимости от умения рабочего и помощи со стороны машин в деле приложения труда продукты труда не пропорциональны количеству вложенного труда. Следовательно, труд, в каком бы смысле мы ни понимали это слово, не может рассматриваться как точная и постоянная мера реальной меновой стоимости. А если труд, который можно приобрести за товар, не может рассматриваться в этом свете, то, несомненно, нигде больше мы не сможем искать такую меру с какой-либо надеждой на успех». Мы обращаем особенное внимание читателя на свойство неизменности, которое г-н Мальтус придаёт предложенной им самим мере действительной стоимости. О Т Д Е Л С Е Д Ь М О Й 41. Стр. 126. «Известное количество хлеба данного качества имеет всегда положительную и неизменную потребительную стоимость, основанную на числе лиц, которых этот хлеб может прокормить». Эта мера также предложена г-ном Мальтусом, и в данном случае он снова указывает на её неизменность, как прежде указывал на неизменность труда. 42. Стр. 128. «Хотя ни один из этих двух предметов, взятых изолированно, не может считаться удовлетворительной мерой стоимости, всё же, комбинируя оба, мы, быть может, могли бы приблизиться к большей точности. Когда хлеб дорог по отношению к труду, последний должен необходимо быть дешёвым по отношению к хлебу. В период, когда данное количество хлеба может купить наибольшее количество предметов первой необходимости, удобств или удовольствий, данное количество труда будет всегда приобретать наименьшее количество этих предметов; и когда хлеб будет в состоянии купить наименьшее количество, труд будет приобретать наибольшее количество этих предметов. Если, следовательно, взять среднее между этими двумя величинами, мы получим, очевидно, меру, прокорректированную одновременными изменениями каждой из них в противоположных направлениях, меру, которая, по всей вероятности, должна представлять с большей точностью, чем какая-либо другая, одинаковое количество предметов первой необходимости, удобств и удовольствий в самые различные периоды и при самых разнообразных обстоятельствах, которым подчинены в своём развитии население и земледелие. С этой целью следует, однако, остановиться на какой-нибудь мере хлеба, которую с точки зрения количества можно было бы рассматривать как эквивалент рабочего дня; в Англии четверть бушеля пшеницы, равняющаяся приблизительно заработной плате хорошего рабочего в хорошие времена, кажется мне достаточно точной мерой для той цели, которую мы себе ставим». Мне кажется, что все эти аргументы основываются на совершенно неправильном умозаключении. Хлеб, говорит г-н Мальтус, обладает изменчивой стоимостью, и столь же изменчивой стоимостью обладает труд, но стоимость их изменяется всегда в различных направлениях; если я поэтому возьму среднюю между обеими, я, вероятно, получу меру, по характеру приближающуюся к неизменности. Так вот, изменяются ли действительно стоимость хлеба и стоимость труда в различных направлениях? Когда относительная стоимость хлеба возрастает по отношению к труду, то относительная стоимость труда падает по отношению к хлебу, и это называется изменением в различных направлениях. Когда повышается цена сукна, она растёт в сравнении с золотом, а цена золота понижается в сравнении с сукном, но это не доказывает, что обе цены изменяются в различных направлениях, потому что в одно и то же время золото может повыситься в стоимости по сравнению с железом, шляпами, кожей и всеми другими товарами, за исключением сукна. Что же будет тогда на деле? А то, что цены изменились в одном и том же направлении — цена золота могла повыситься на 10% по сравнению со всеми предметами, кроме сукна, а цена сукна могла повыситься по сравнению со всеми предметами на 25%, за исключением золота, по отношению к которому она повысилась бы только на 15%. Мы считали бы странным говорить при таких обстоятельствах, что, выбирая меру стоимости, мы взяли бы среднюю между сукном и золотом потому, что цены этих двух товаров изменялись в различных направлениях, когда абсолютно доказуемо, что они изменялись в одном и том же направлении. А именно это сделал г-н Мальтус по отношению к хлебу и труду. Страна наталкивается на возрастающие трудности в получении хлеба для постоянно увеличивающегося населения, и вследствие этого стоимость хлеба повышается в сравнении со всеми другими товарами. Так как цена хлеба, составляющего столь существенный, хотя и не единственный, предмет потребления для рабочего, повышается, то возрастает и цена труда, хотя и не в такой степени, как цена хлеба: если цена хлеба поднимается на 20%, то цена труда, возможно, повысится на 10%. При этих условиях труд, оцениваемый в хлебе, кажется понизившимся в цене, а хлеб, оцениваемый в труде, кажется повысившимся в цене, но очевидно, что цена того и другого повысилась, хотя и в различной степени, так как они оба будут стоить больше при оценке во всех других товарах. Итак, средняя берётся между двумя товарами, стоимость которых заведомо изменчива, и она берётся, исходя из того принципа, что изменения одной исправляют последствия изменения второй. Однако, поскольку я доказал, что они изменяются в одном и том же направлении, надеюсь, что г-н Мальтус увидит целесообразность отказа от столь несовершенного и столь изменчивого стандарта. Из аргументации г-на Мальтуса можно было бы предположить, что стоимость труда понизилась, когда повысилась стоимость хлеба, и что, следовательно, на данное количество железа, кожи, сукна и т. д. можно было бы получить больше труда, — в действительности же наоборот: труд, точно так же как и хлеб, повышается в цене по сравнению с этими товарами. Г-н Мальтус сам говорит это на стр. 125: «В ходе совершенствования и цивилизации обычно случается, что, когда рабочие покупают наименьшее количество пищи, они покупают наибольшее количество других товаров». А ведь это значит утверждать, что при большем количестве других товаров, отдаваемых за пищу, за труд также отдаётся соответственно большее количество других вещей или, другими словами, что когда повышается цена продовольствия, то повышается и цена труда. 43. Стр. 130. «При оценке стоимости можно без особенной ошибки игнорировать удешевление продукции, проистекающее вследствие мастерства рабочих и применения машин». Что это значит, как не то, что при оценке стоимости не имеет значения, какое количество труда может быть приложено к производству товаров? Я думаю, что это недосмотр, так как г-н Мальтус неизменно допускает, что количество труда, затраченное на производство товаров, есть главная причина их стоимости. В самом деле, как можно отрицать это? 44. Стр. 131. «Какую меру предлагает нам г-н Рикардо взамен? Труд и усилия, пожертвованные на производство товара, т. е. издержки производства, или, правильнее выражаясь, часть этих издержек, из-за которой меновая стоимость товара при различных условиях изменяется почти п любой степени». Г-н Мальтус, как я уже сказал прежде, ошибочно понимает меня. Я не говорю, что часть издержек производства товара измеряет его меновую стоимость, но говорю, что вся его стоимость будет пропорциональна части его издержек производства, и при этом делаю скидку на изменения и исключения, хотя и не считаю их большими. Если бы г-н Мальтус не понял меня ошибочно, он никогда не смог бы сделать следующее замечание о моём учении: «Где существует прибыль (а очень редки в действительности случаи, когда её нет), стоимость товара при обмене на труд неизменно больше, чем труд, который был на него затрачен». Если бы я сказал, что стоимость товаров есть то же, что стоимость затраченного на них труда, это замечание было бы обосновано, но я сказал, что относительная стоимость товаров пропорциональна количеству труда, затраченного на их производство. Эта стоимость может быть вдвое больше того, чего стоил труд. Сравнение между мерой, предложенной г-ном Мальтусом, и той, которую предложил я, суммируется следующим образом: «Нам приходится поэтому выбирать между несовершенной мерой меновой стоимости и такой мерой, которая неизбежно ошибочна в своей основе». Примечания к Главе третьей. О земельной рентеОтдел первый. О природе и причинах ренты О Т Д Е Л П Е Р В Ы Й 45. Стр. 136. «В своём превосходном «Трактате о политической экономии», в котором г-н Сэй изложил с большой ясностью многие пункты, недостаточно развитые Адамом Смитом, он исследовал вопрос о ренте не совсем удовлетворительно. Говоря о различных естественных агентах, которые, подобно земле, помогают человеческому труду, он делает следующее замечание: «К счастью, никто не мог сказать: ветер и солнце принадлежат мне, и услуги, которые они оказывают, должны быть мне оплачены». И хотя он признаёт, что, по очевидным причинам, собственность на землю необходима, всё же он, видимо, рассматривает ренту как обязанную своим происхождением исключительно этому присвоению земли и внешнему спросу». Может ли кто-либо сомневаться в том, что, если бы кому-нибудь удалось присвоить ветер и солнце, он смог бы обеспечить себе получение ренты за пользование ими? 46. Стр. 137. «Мне кажется, что среди современных авторов в нашей собственной стране преобладают мнения, склоняющиеся к аналогичной точке зрения на этот предмет; чтобы не умножать цитат, я добавлю только, что во вполне респектабельном издании «Богатства народов», недавно выпущенном г-ном Бьюкененом из Эдинбурга, идея монополии проводится ещё дальше. И хотя более ранние авторы считали, что рента управляется законами монополии, они всё же держались того мнения, что в отношении земли эта монополия необходима и полезна; между тем г-н Бьюкенен иногда говорит о ней, как об учреждении вредном и отнимающем у потребителя то, что она отдаёт землевладельцу». Так как в своей «Политической экономии» я посвятил особую главу рассмотрению этого предмета <Д. Рикардо, Начала политической экономии и налогового обложения, гл. XXXII. Взгляды г-на Мальтуса на ренту, т. I. — Ред.>, не буду снова распространяться о нём и скажу только, что, по моему мнению, г-да Сисмонди и Бьюкенен по существу правы в своих взглядах, изложенных в цитатах, которые г-н Мальтус приводит из их произведений. 47. Стр. 139. «Можно указать на три причины, вызывающие излишек цены сырья над издержками производства. Первая и главная — то свойство земли, в силу которого её можно заставить доставлять более значительное количество предметов первой необходимости, чем требуется на содержание людей, занятых её обработкой». Это значит, что земля возвращает более значительную стоимость, чем стоимость затраченного на неё труда. В этом отношении земледелие схоже со всяким промыслом, которым занимается человек. Если бы продукты всех родов не удовлетворяли этим условиям, они не производились бы. 48. Стр. 139. «Вторая причина — то свойственное предметам первой необходимости качество, в силу которого они, при надлежащем их распределении, сами могут создавать для себя спрос или увеличивать число потребителей пропорционально количеству произведённых предметов первой необходимости». Это кажется мне совершенно ошибочным. Аргументы в пользу моих взглядов я привёл в своей работе по политической экономии. Смотри также примечание к стр. 142 <Примечание 51. — Ред.>. 49. Стр. 140. «Если бы не было никакого прибавочного продукта, то не было бы никакой ренты» <Хотя эти слова заключены в кавычки, это не цитата; они верны лишь по смыслу. — Ред.>. С этим все согласны. 50. Стр. 141. «Или, если бы на этот прибавочный продукт не было спроса, он мог бы не обладать стоимостью, и тогда за него не уплачивалась бы рента» <Это также не цитата, а резюме отдельных положений Мальтуса. — Ред.>. Если население увеличивается, у нас есть средства для его прокормления — таково существенное условие для содержания возрастающего населения, — но остаётся нерешённым вопрос: воспроизводится ли население, потому что вы произвели хлеб, или же хлеб производится, потому что увеличилось население и у вас есть также все средства для его прокормления, а равно и средства удовлетворения других его нужд. 51. Стр. 142. «Если какая-то деятельная и предприимчивая семья владеет известным земельным участком, который она может обработать так, чтобы он дал достаточно жизненных припасов и сырых материалов для одежды, жилища и отопления не только для этой семьи, но и для пяти других, из этого следовало бы согласно принципу народонаселения, что, если семья правильно распределила свой прибавочный продукт, она скоро была бы в состоянии распоряжаться трудом пяти других семей, и её продукт скоро стал бы стоить в пять раз больше, чем труд, затраченный на выращивание этого продукта». Стоимость земельной собственности этой семьи не возросла бы, пока не возник бы спрос на добавочный продукт. Если бы семья арендовала землю и должна была платить денежную ренту, она разорилась бы, увеличив предложение продуктов раньше, чем возник спрос на них. Денежная стоимость всего продукта стала бы меньше, чем тогда, когда количество его было меньше, а ей пришлось бы платить прежнюю денежную ренту. В этом заключалось то особое зло, от которого страдали фермеры по окончании войны, когда были открыты порты. Ни один производитель не может быть заинтересован в доставке товара в большем изобилии, чем предъявляется на него спрос по его естественной цене. Как только цена товара падает на рынке ниже его естественной цены, т. е. как только нужды существующего населения удовлетворены, не может быть никакого побуждения для производства его, и, наоборот, появляется побуждение прекратить его производство. Если бы г-н Мальтус сказал только, что вместе с большей лёгкостью добывания пищи население будет быстро возрастать, потому что пища есть один из наиболее важных предметов потребления, то было бы невозможно не согласиться с ним; но он неизменно настаивает на том, что возрастание населения зависит не от средств, которые имеются в нашем распоряжении, чтобы прокормить его, или скорее не от тех средств, которыми население само располагает, чтобы прокормить своё потомство, но от запаса пищи, который предварительно отложен для него. 52. Стр. 145. «Если бы производительность рудников по добыче драгоценных металлов во всём мире уменьшилась наполовину, следует признать, что, поскольку население и богатство не обязательно зависят от золота и серебра, такое событие могло бы произойти не только без сокращения населения и богатства, но даже при значительном увеличении того и другого... Но если бы уменьшилось наполовину плодородие всех земель мира, то, поскольку население и богатство целиком зависят от количества предметов первой необходимости, даваемых землёй, совершенно очевидно, что большая часть населения и богатства всего мира была бы уничтожена, а вместе с нею и большая часть эффективного спроса на предметы первой необходимости. Обработка наибольшей части земель в большинстве стран была бы совершенно оставлена, и заработная плата, прибыль и рента, в особенности последняя, значительно понизились бы и на всех остальных землях». Я признаю, что большая часть населения и богатства мира была бы уничтожена, но вопрос касается ренты землевладельцев, а не богатства мира — одна треть от 100 млн. больше, чем одна четвёртая часть от 120 млн. Предположение, что плодородие земли уменьшится наполовину, — самое экстравагантное, я сделал его только для иллюстрации принципа. Г-н Мальтус неправильно понял меня — я вполне признаю заинтересованность землевладельцев в повышении плодородия своей земли и в усовершенствовании земледелия, ибо они в конце концов не преминут воспользоваться выгодами того и другого. Я настаиваю только на том, что непосредственные следствия будут для них убыточны, и если бы принцип народонаселения не был так могуществен, эти следствия могли бы наносить им постоянный ущерб. 53. Стр. 146. «Продукт известных виноградников во Франции, которые, в силу особенных качеств почвы и местоположения, одни только доставляют вина особого запаха и вкуса, продаётся, конечно, по цене значительно выше его издержек производства... Но если плодородие этих земель повысилось бы в такой степени, что они будут давать гораздо большее количество продуктов, то стоимость последних понизится настолько, что излишек цены над издержками производства существенно уменьшится. Если бы, напротив, виноградники стали менее производительными, величина этого излишка могла бы увеличиваться почти безгранично». <К этому месту Мальтус делает примечание в сноске, против которого и возражает Рикардо: «Г-н Рикардо отвечает на это, что «при данной высокой цене высота ренты пропорциональна не редкости продукта, а его изобилию», независимо от того, идёт ли речь об особых виноградниках или об обыкновенной земле под зерновыми. Такое решение вопроса совершенно бездоказательно. Цена не может быть данной. В силу внешнего спроса и уменьшения предложения за виноград, собранный с акра земли в Шампани, можно постоянно покупать в пятьдесят раз больше труда, чем потребовалось на обработку этого акра; но никакое увеличение внешнего спроса или никакое уменьшение предложения никогда не смогут привести к тому, чтобы на продукт акра земли под зерновыми культурами постоянно можно было покупать больше труда, чем этот акр земли мог бы содержать». — Ред. > Что иное говорит г-н Мальтус в этом месте как не то, что рента с производящей хлеб земли ограничена её ограниченной способностью прокормить население, но что рента с этих виноградников не ограничена такими узкими пределами. Я согласен с его аргументом, но он не меняет принципа. 54. Стр. 147. «Очевидная причина этих следствий заключается в том, что во всякой обыкновенной монополии спрос чужд производству и независим от него... Напротив, в производстве предметов первой необходимости спрос зависит от самого продукта, и следствия поэтому совершенно различны. В этом случае физически невозможно, чтобы число потребителей увеличивалось, в то время как количество продуктов уменьшается, так как потребители могут существовать только благодаря этим продуктам». Речь идёт не о числе лиц, предъявляющих спрос, а о жертвах, которые они готовы принести, чтобы получить спрашиваемый товар. Стоимость его должна зависеть от этого. 55. Стр. 147. «Во всех обыкновенных монополиях избыток стоимости продукта над стоимостью труда, затраченного на получение его, может быть создан действием внешнего спроса. В частичной же монополии на землю, производящую предметы первой необходимости, такой избыток может быть создан только качествами почвы». Здесь мы имеем необоснованное различие. При частичной монополии на землю, производящую предметы первой необходимости (говорит г-н Мальтус), такой излишек стоимости продукта над стоимостью труда, затраченного на получение его, может быть создан только качествами земли — в другом случае он «создан действием внешнего спроса». Качества земли бессильны без внешнего спроса в каждом из этих случаев. Рента с наших наиболее плодородных земель в настоящее время больше, чем 100 лет назад. Почему? Вследствие роста внешнего спроса по сравнению с лёгкостью удовлетворения его. Качества земли были тогда такие же, как в настоящее время, однако рента не возрастала до тех пор, пока не увеличился внешний спрос. 56. Стр. 148. «В обыкновенных монополиях и в производстве всех предметов, кроме предметов первой необходимости, законы природы очень мало влияют на установление известной пропорции между меновой стоимостью этих предметов и их потребительной стоимостью. Одно и то же количество винограда или хлопка может в различных условиях постоянно стоить три рабочих дня или триста. Только в производстве предметов первой необходимости законы природы постоянно регулируют меновую стоимость этих предметов в соответствии с их потребительной стоимостью; и хотя, в силу большого различия во внешних условиях и в особенности в силу большего или меньшего изобилия или редкости земельных участков, цель эта может быть полностью достигнута лишь в очень редких случаях, а вероятно, и никогда не может быть достигнута, все же меновая стоимость данного количества предметов первой необходимости при покупке труда всегда стремится приблизиться к стоимости того количества труда, который она может прокормить, или, другими словами, к его потребительной стоимости». Почему это? Потому что, как оказывается, население неизменно возрастает вместе со средствами для его пропитания, и поэтому выраженная в хлебе стоимость труда не возрастает, но население и предметы первой необходимости не обязательно связаны так тесно; нетрудно понять, что при лучшем обучении и усовершенствованных навыках рабочего день труда может получить гораздо большую стоимость, даже если её выразить в том, что в настоящее время называют предметами первой необходимости для рабочего. 57. Стр. 148. «Во всех обыкновенных монополиях цена продукта, а следовательно, и избыток цены над издержками производства могут увеличиваться бесконечно. В частичной монополии на землю, производящую предметы первой необходимости, цена продукта не может ни в коем случае превзойти стоимость труда, который он может содержать; и избыток цены этого продукта над издержками его производства ограничен пределом, который невозможно преодолеть. Этот предел представляет тот избыток предметов первой необходимости, который можно извлечь из земли сверх самых ограниченных потребностей рабочего, и он строго зависит от естественного или благоприобретённого плодородия почвы». Я вполне согласен со всем содержанием этого параграфа. 58. Стр. 149. «Удивительно, что г-н Рикардо санкционировал эти заявления г-д Сисмонди и Бьюкенена. По его собственной теории, цена хлеба есть всегда цена естественная, или необходимая. В каком смысле может он, следовательно, согласиться с мнением этих авторов, говоря, что цена хлеба походит на цены всех других товаров, составляющих предметы производства обычной монополии, или что она выгодна только для земельных собственников и в той же степени убыточна для потребителей?». Оба эти взгляда, по моему мнению, вполне совместимы. Как раз издержки производства последних партий хлеба регулируют его стоимость и стоимость всего остального хлеба, доставляемого на рынок. Хлеб, производимый при более благоприятных условиях и на более плодородной земле, будет доставлять ренту пропорционально разнице в издержках его производства. Таким образом, эта рента является условием, на котором вы получаете всё требуемое количество зерна, так как вы можете получить добавочное количество его только с худшей земли; чтобы поощрить производство хлеба, цена его должна повыситься, а следствием повышения цены будет рента с более плодородной земли. Так вот, эта рента не есть чистый выигрыш, — если землевладельцы получают больше, то и покупатели хлеба платят больше, и поэтому без малейшего осуждения землевладельцев, которое в этом случае могло бы быть следствием только глубочайшего невежества, я могу сказать, что это есть перенесение богатства, выгодное для землевладельцев и соответственно убыточное для потребителей. Быть может, ни в одной части своей книги г-н Мальтус не понял меня так неправильно, как в части, трактующей об этом предмете. Он представляет меня защитником доктрины, будто интересы землевладельцев постоянно противоположны интересам всякого другого класса общества, и по высказываниям г-на Мальтуса можно предположить, что я считаю землевладельцев врагами государства. Из только что сказанного будет видно, что я считаю ренту и рост ренты необходимым и неизбежным условием роста предложения хлеба для растущего населения. Всё содержание моего труда по политической экономии показывает то же самое, и едва ли было справедливо выбрать отдельный отрывок, который, повидимому, имел другое значение и мог быть применён только к особым обстоятельствам. В своей книге я отозвался с большим одобрением о том отрывке из прежнего труда г-на Мальтуса, где он говорит, что, если бы землевладельцы отказались от всей своей ренты, это не сделало бы хлеб дешевле; по моему мнению, это не значило придавать землевладельцу враждебное освещение в глазах потребителя. Об интересах землевладельца я хотел только сказать, что для него было бы выгодно, чтобы на имеющуюся в его владении машину для производства зерна был спрос; что в действительности от этого зависит его рента; напротив, в интересах потребителя использовать иностранную машину, если это удешевит продукт. Только в этом случае интересы землевладельца и потребителя, если они правильно поняты, действительно приходят в столкновение; я уверен, что в этом случае они действительно сталкиваются, и во всём сказанном мною об этом предмете нет ничего, что я желал бы взять обратно. Я, в самом деле, отметил, что ближайшие последствия усовершенствований в земледелии убыточны для землевладельца и выгодны для потребителя, но что в конечном счёте, когда население увеличилось, выгоды от усовершенствований перешли к землевладельцу. Я держусь этого взгляда, но, говоря это, я не высказываю никакого порицания землевладельцам; не в их власти остановить развитие усовершенствований и не в их интересах было бы сделать это, даже если бы это было возможно. Первые последствия крупных усовершенствований в любой отрасли производства убыточны для класса, занятого в этой отрасли, но это есть констатация факта или мнения, и нельзя считать это выражением какого-то обидного осуждения. Г-н Мальтус не может опереться ни на одно моё высказывание, чтобы изобразить меня как врага землевладельцев или как человека, имеющего о них менее благоприятное мнение <первая часть этого предложения до слова «мнение» вставлена взамен следующих слов: «Я прекрасно сознаю, что не заслуживаю даже половины любезностей, высказанных г-ном Мальтусом по моему адресу, но знаю также, что не заслуживаю того, чтобы меня считали врагом землевладельцев или человеком, имеющим о них худшее мнение...». — Прим. англ. ред. >, чем о каком-либо другом классе общества. Действительно, я не вижу, чтобы язык г-на Мальтуса сильно отличался от моего собственного; на стр. 152 он говорит: «происходящее на практике падение прибыли и заработной платы, несомненно, передаёт часть продукта землевладельцу». «Передача части прибыли и заработной платы и такая цена продукта, которая приносит ренту (что вызывает возражения, так как она убыточна и лишает потребителя той части, которую отдаёт землевладельцу), абсолютно необходимы для того, чтобы получить какое-либо значительное дополнение к богатству и к доходу первых поселенцев в новой стране». Здесь передача допускается, но она названа необходимой; я говорю в точности то же, и на стр. 138 г-н Мальтус цитирует с целью критики отрывок из работы г-на Бьюкенена, который, мне кажется, выражает только то же мнение: «Высокая цена, приносящая ренту или чистый излишек, обогащая землевладельца, располагающего земледельческими продуктами для продажи, уменьшает в той же пропорции богатство тех, кто их покупает; и поэтому совершенно неправильно рассматривать ренту землевладельца как явную прибавку к национальному богатству». 59. Стр. 152. «Г-н Рикардо совершенно не понял меня, когда представляет дело так, будто я говорю, что рента непосредственно и необходимо повышается или понижается вместе с увеличением или уменьшением плодородия земли. Пусть судит читатель, в какой степени мои выражения поддаются такой интерпретации, но я не думал, что они могут быть так истолкованы; поскольку я установил, что для создания ренты необходимо наличие трёх причин, я никак не мог подразумевать, что рента будет изменяться всегда в точной пропорции к одной из этих причин. Действительно, я чётко заявил, что в ранние периоды существования общества прибавочный продукт земли или её плодородие проявляются только в малой степени в форме ренты». Я, несомненно, плохо понял г-на Мальтуса. Он говорит, что установил «три причины, необходимые для создания ренты, и никак не мог подразумевать, что рента должна изменяться всегда в точной пропорции к одной из этих причин». Я полагал бы, что мой вывод, будто г-н Мальтус подразумевал это, был вполне естественным, если другие причины в это время бездействуют. Одна из причин, которую г-н Мальтус считает необходимой для производства ренты, — это сравнительный недостаток наиболее плодородных земель. Если бы он сказал: увеличьте этот сравнительный недостаток, и рента повысится — я согласился бы с ним. Здесь сказалось бы влияние на ренту одной причины без вмешательства двух других. Так, говоря о том, что он называет второй причиной ренты, о плодородии земли и об избытке её продукта сверх того, что необходимо для содержания занятых на ней рабочих, он сказал: «Уменьшите это изобилие, уменьшите плодородие почвы, и излишек исчезнет»; мне казалось, что он отождествляет избыточный, или прибавочный, продукт с рентой, и мне казалось также, что он приводит читателей к выводу, что рента повышалась и падала в зависимости от количества этого прибавочного продукта. А после прочтения труда г-на Мальтуса, который в настоящее время у меня в руках, мне кажется, что он сам своим изложением часто создаёт у читателя впечатление, будто рента повышается и падает вместе с повышением и падением количества прибавочного продукта по сравнению с тем, что затрачивается на занятых рабочих. На стр. 228 г-н Мальтус говорит: «Но если допустить, как и следует, что ограничение возможности производить пищу, очевидно, необходимо для человека, связанного ограниченным пространством, тогда стоимость фактически полученного им количества земли зависит от малого количества труда, необходимого для её обработки, по сравнению с числом людей, которых она будет содержать — или, другими словами, от того определённого прибавочного продукта, который так сильно недооценивается г-ном Рикардо и который в силу законов природы находит своё завершение в ренте». 60. Стр. 152. «Невозможно также, чтобы рента постоянно оставалась частью прибыли на капитал или заработной платы рабочих». Часть того, что в будущем станет рентой, образует теперь прибыль на капитал. Неправильно, я полагаю, говорить, будто рента, когда бы то ни было, составляет часть прибыли на капитал: рента образуется из прибыли на капитал; когда она была прибылью, она не была рентой. 61. Стр. 154. «Если данная доля труда и капитала даёт меньший доход, будь то на новой или на старой земле, потеря обычно делится между рабочими и капиталистами, и заработная плата и прибыль падают одновременно». Верно, что потеря количества вообще делится между рабочими и капиталистами, но мы говорим не о количестве, а о стоимости. Получит ли рабочий меньшую стоимость? Если количество и стоимость одно и то же, а в сыром продукте они, согласно г-ну Мальтусу, одинаковы, то рабочий получит меньшую стоимость; но, если с уменьшением количества стоимость возрастает, несомненно, что рабочий получит меньшее количество и большую стоимость, фермер же получит как меньшее количество, так и меньшую стоимость. 62. Стр. 154. «Если прибыль с капитала, занятого в обработке земель низшего качества, составляет 30%, а отдельные части старых земель приносят 40%, то 10% из этих 40% составят, очевидно, ренту, кто бы ни получил её. Если бы капитал продолжал накопляться, а цена труда на лучших землях страны понизилась, то другие участки, находящиеся в менее благоприятных условиях по плодородию или расположению, могли бы с выгодой поступать в обработку. Поскольку издержки обработки земли, включая прибыль, понизились, участки, менее плодородные или расположенные дальше от рек и рынков, хотя и не приносили бы сначала ренты, могли бы всё же полностью оплачивать все эти издержки, и земледелец был бы хорошо вознаграждён. Затем, если прибыль с капитала или заработная плата рабочего понизились ещё больше, либо каждая в отдельности, либо обе одновременно, можно было бы пустить в обработку участки, ещё менее плодородные или ещё менее благоприятно расположенные». В каком мериле понизились издержки по обработке земли? Не в деньгах, не в мериле стоимости г-на Мальтуса — заработной плате. При измерении стоимости всеми товарами, за исключением хлеба — товара, требующего больше труда и повышающегося в стоимости, издержки обработки земли повысились бы <Первоначальная редакция этого примечания гласила; «В каком мериле понизились издержки по обработке земли? Издержки по обработке земли, даже при понижении прибыли, не понизились бы, если их измерять во всех товарах, кроме хлеба, именно только хлеба, так как стоимость хлеба повысилась бы». — Прим. англ. ред.>. 63. Стр. 154. «На каждом шагу очевидно, что, если цена продукта не снижается, рента должна повышаться». Любопытно наблюдать, как г-н Мальтус объясняет законы ренты, прибыли и т. д., не прибегая к своей собственной мере реальной стоимости: он довольствуется мерилом, которое осуждает и считает изменчивым. Если он говорит, что в ходе поясняемых им изменений мерило изменяется, то причиной колебания цены может быть изменение мерила, и его объяснение повышения ренты и падения заработной платы совершенно неудовлетворительно. Если он говорит, что для иллюстрации аргумента предполагает мерило неизменным, то в таком случае он делает то, за что осуждает меня, так как я только предположил, что все причины изменения стоимости золота устранены, и что сама стоимость золота неизменна. Но у г-на Мальтуса есть ещё иная, лучшая мера реальной стоимости. Почему же он не пользуется ею постоянно? Мы не узнаём ничего нового, когда нам говорят об изменении номинальной стоимости. Если г-н Мальтус предполагает, что стоимость золота в упоминаемом им теперь случае неизменна, это должно согласоваться с его лучшим стандартом. Если г-н Мальтус выбирает мерило, которое употребляю я, он должен употреблять его надлежащим образом; он должен сказать не так, что цена продукта не упала бы, но что она абсолютно возросла бы, ибо именно спрос на хлеб есть первоначальная причина обработки новой земли. Именно высокая цена хлеба в конце концов понижает прибыли, потому что меньшее количество хлеба, полученное на новой земле по высокой цене, не будет компенсацией за более высокую заработную плату, являющуюся следствием более высокой цены хлеба. Тогда, чтобы быть последовательным, говоря о денежных ценах, г-н Мальтус должен сказать, что цена на хлеб, рента и заработная плата повысились бы, но прибыль упала бы. Но на эту более высокую заработную плату рабочий получит меньше предметов первой необходимости и удовольствий, чем прежде; и поэтому при измерении мерилом г-на Мальтуса эта заработная плата должна быть названа более низкой. Я признаю, что рабочий получит меньше этих благ, но это не доказывает, что его заработная плата имеет меньшую стоимость. Если я давал человеку шиллинг в неделю только на покупку сахара, а вследствие урагана прежняя стоимость сахара удвоилась, никто, я думаю, не стал бы отрицать, что я давал бы этому человеку более значительную стоимость, если бы давал ему полтора шиллинга в неделю, хотя на эти деньги он мог бы купить меньше сахара, чем прежде за один шиллинг. Но моё обвинение против г-на Мальтуса заключается теперь в том, что он не пользуется последовательно ни моим, ни своим собственным языком. На своём собственном языке он был бы обязан сказать: «При возрастании населения и при спросе на большое количество хлеба все другие товары понизились бы в стоимости; другими словами, они понизились бы по отношению к выбранному мною стандарту — хлебу, который, конечно, не изменяется. Следствием этого понижения стоимости всех товаров было бы также падение заработной платы, но не в той же пропорции, как падение стоимости товаров; следовательно, если бы стандартом был хлеб, стоимость товаров, вероятно, понизилась бы на 20%; если бы стандартом был труд, она понизилась бы на 10%. Но так как мой стандарт сам есть товар и количество его может быть увеличено, здесь появляется гораздо большее искушение увеличить количество его предпочтительно перед всяким другим товаром, потому что по сравнению с трудом этот товар возрос бы в стоимости, а стоимость всех других по сравнению с трудом понизилась бы, и, следовательно, более значительная прибыль будет получена путём производства хлеба. Однако это — неправильное заключение; оно было бы правильно, если бы можно было пустить в обработку земли одинакового плодородия, но в действительности приходится прибегать к обработке более бедной земли. Полученное с этой земли меньшее количество будет находиться в таком же отношении к количеству затраченного труда, в каком количество хлеба, получаемое в обмен на любые промышленные изделия, будет находиться к труду, который их произвёл; следовательно, конечным результатом возрастания населения и повышения спроса на хлеб будут понижение стоимости всех товаров, уменьшение прибылей, понижение выраженной в хлебе заработной платы и перенесение части продукта с лучших земель из прибыли в ренту. Землевладельцы выиграют дважды: во-первых, получая больше хлеба в виде ренты, во-вторых, получая все товары за меньшее количество хлеба». Вот как я объяснил бы законы ренты и прибыли, если бы усвоил язык г-на Мальтуса. В принципе он не отличается от моего, всё совпадает, за исключением мерила, в котором оценивается стоимость. 64. Стр. 155. «Можно, следовательно, установить как неоспоримую истину, что, по мере того как нация достигает значительного богатства и значительного объёма населения, отделение ренты как чего-то нераздельно связанного с землями известного качества есть закон столь же неизменный, как закон тяготения». Кто отрицает это? Я специально подтвердил это. 65. Стр. 155—156. «В большинстве великих восточных монархий монарх рассматривался как собственник земли. Эта преждевременная монополия на землю, в соединении с впервые замеченными двумя свойствами почвы и её продуктов, издавна позволяла правительству требовать известную часть продукта всех обрабатываемых земель, которая, какое бы имя ей ни давали, по существу является рентой. Это есть избыток как количества, так и меновой стоимости продукта над действительными издержками обработки земли». Прибыли получаются из прибавочного продукта; если бы прибыли облагались налогом, последний изымался бы из прибавочного продукта, но именно поэтому он не изымался бы из ренты. Г-н Мальтус отождествляет здесь прибавочный продукт с рентой. Смотри примечание 59 к стр. 152. 66. Стр. 156. «Но в большинстве этих монархий площадь плодородных земель была очень велика, естественный избыток земель был очень значителен, и, пока предъявляемые к продукту этих земель требования были умеренны, остаток был достаточен, чтобы давать столь значительную прибыль и заработную плату, какие нельзя было получить ни в какой другой отрасли, и это позволяло населению быстро увеличиваться». Почему прибыль и заработная плата в земледелии в какой-либо период общественного развития должны быть выше, чем в какой-либо другой отрасли? 67. Стр. 156. «Ясно, однако, что монарх как владелец земли в очень плодородной стране мог бы на ранней стадии совершенствования земледелия получать чрезмерно высокую ренту». Чрезмерно высокая рента могла бы быть получена таким путём только в определённый период <В рукописи здесь вычеркнуты следующие слова: «Облагать продукт земли налогом то же, что понизить её плодородие. Следовательно, г-н Мальтус допускает здесь, что...». — Прим. англ. ред.>. Рента могла бы быть создана преждевременным повышением стоимости хлеба по сравнению со всеми другими товарами. Станет ли г-н Мальтус отрицать, что эта рента, хотя и выгодная для правительства, была бы в такой же пропорции убыточна для потребителей? 68. Стр. 157. «Но какова бы ни была природа монополии на землю, будь она необходимой или искусственной, всё же можно наблюдать, что способность платить ренту или налоги с земли безусловно ограничивается плодородием земли; и тому, кто склонен недооценивать важность двух первых установленных мною причин возникновения ренты, следовало бы посмотреть на различные формы распределения продукта в натуре, существующие во многих районах Индии, где, если уж монополия дала монарху возможность претендовать на основную часть земельной ренты, всё остальное явно зависит от того, какой излишек средств существования приносит земля, а также от того, какое количество труда можно купить на эти средства существования». Кто расположен недооценивать значение плодородия земли? Прибавочный продукт неизбежно ограничен плодородием земли. 69. Стр. 157. «Можно было бы, быть может, думать, что ренту нельзя было насильственно и преждевременно отделить от прибыли и заработной платы так, чтобы противоестественно понизить их уровень, так как капитал и рабочие руки покинули бы земледелие, если бы могли найти более выгодное занятие; но следует помнить, что люди, фактически обрабатывающие землю в нашей стране, обычно живут в очень плохих и унижающих их условиях; что они вкладывают очень небольшой капитал и едва ли вкладывают такой капитал, который они могли бы изъять и вложить в другое дело; что благодаря тому, что в распоряжении правительства имеется прибавочный продукт, в скором времени появляется население, которому правительство может дать работу, с тем чтобы и в других отраслях цена труда удерживалась на уровне, существующем в земледелии; и что небольшой спрос на продукты обрабатывающей промышленности и на товары, поступающие в торговлю, вследствие нищеты большей части общества, не даёт простора для приложения крупного капитала с расчётом на высокую прибыль в обрабатывающей промышленности и торговле». Капитал и труд не получат более значительной выгоды в других занятиях не по соображениям, приводимым г-ном Мальтусом, но потому, что, как только налог затронул бы прибыль, поглотив сначала ренту, он поднял бы цены сырья. Повышение цен сырья повысило бы заработную плату и затронуло бы прибыль одинаково во всех занятиях, так что не было бы никакого искушения изъять капитал из земледелия. 70. Стр. 160. «Однако вероятно, что, как мы видели на примере Китая и Индии, прибыли не были бы чрезмерно высокими. В действительности это зависело бы главным образом от предложения капитала в обрабатывающей промышленности и торговле; если бы капиталы были редки в сравнении со спросом на продукты этих отраслей, прибыли были бы наверное высоки; и можно утверждать с полной уверенностью только то, что, если исходить из очень высокой нормы процента, примеры которой изредка приводятся, нельзя сделать вывод, будто прибыли были бы очень высоки». Что общего имеют прибыли с предложением капитала, занятого в промышленности и торговле? Прибыли в земледелии были бы высоки, если бы выручка фермера, после уплаты им ренты, была, по количеству, велика в сравнении с количеством, которое он должен затратить на содержание своих рабочих и на другие необходимые издержки. Прибыли зависят главным образом от плодородия земли, за которую рента платится в небольшом размере или совсем не платится. 71. Стр. 161. «Чтобы более подробно проследить законы, регулирующие повышение и понижение ренты, нужно точнее перечислить главные причины, вызывающие уменьшение издержек обработки земли или удешевление орудий производства в сравнении с ценой продукта. В числе этих причин главными являются, видимо, четыре: во-первых, такое накопление капитала, которое понизит прибыль с него». Здесь делается вывод, что падение прибыли представляет необходимое следствие накопления капитала. Нет большей ошибки, чем эта. 72. Стр. 161. «Во-вторых, такой рост населения, который понизит заработную плату рабочих». Здесь также делается вывод, что падение заработной платы необходимо последует за ростом населения; очевидно, это должно зависеть от спроса на людей. Утверждается также, что повышение ренты необходимо последует за падением заработной платы. Под заработной платой г-н Мальтус в данном случае подразумевает хлебную, а не денежную заработную плату. Предположим теперь, что по всей стране хлебная заработная плата рабочего падает. Какое побуждение создаст это для обработки новой земли? Сначала — никакого; единственным следствием будет повышение прибыли. Повышение прибыли могло бы привести к новым накоплениям, к повышению спроса на труд, к увеличению населения, к повышению цен продуктов и к расширению площади обработки. Понижение заработной платы действует в таком случае лишь постольку, поскольку может повести к накоплению капитала, первой причине повышения ренты, упомянутой г-ном Мальтусом, и вызывает это следствие только в том случае, если подлежащая обработке земля будет менее плодородна, чем та, которая уже обрабатывается. 73. Стр. 161. «В-третьих, такие усовершенствования в земледелии или такое умножение усилий, с помощью которых можно уменьшить число рабочих, необходимое для достижения определённого результата; и, в-четвёртых, в силу возрастания спроса такое повышение цены продуктов земледелия, которое, не понижая номинальных издержек производства, увеличивает разницу между этими издержками и ценой продукта». Эта причина <третья. — Ред.> в точности та же, что и последняя, и она повела бы, вероятно, к накоплению капитала путём повышения нормы прибыли. Крупная ошибка г-на Мальтуса заключается, повидимому, в следующем: сначала он устанавливает, несомненно верно, что рента извлекается из прибавочного продукта земли; затем он доказывает, будто всё, что ведёт к увеличению этого прибавочного продукта, приводит к повышению ренты. Смотри стр. 152 <См. примечание 59. — Ред.>. Но он забывает, что прибыль также выплачивается из прибавочного продукта, и потому, хотя я согласен с ним, что падение заработной платы <В рукописи вычеркнуто «и усовершенствования в земледелии» — Прим. англ. ред.> приведёт к увеличению прибавочного продукта, я не согласен с ним в том, что это увеличение его пойдёт в пользу ренты, — оно непременно пойдёт в пользу прибыли. Я не говорю, что оно всегда останется частью прибыли, так как вместе с ростом населения и употреблением добавочного капитала для обработки земли в высшей степени вероятно, что часть прибыли (если только не вся и даже больше чем вся прибыль) может быть присоединена к ренте. Г-н Мальтус знает и допускает, что рента есть разность между продуктами двух одинаковых капиталов, употребляемых в обработке земли. Тогда я с уверенностью спрашиваю его, не увеличивается ли эта разница в силу падения заработной платы? Г-н Мальтус может сказать, что усовершенствования в обработке земли, если они приводят к увеличению продукта на всей земле в одинаковых пропорциях, повлекут за собой увеличение разницы в хлебном продукте одинаковых капиталов, вложенных в землю. Это верно, но будет ли эта разность иметь большую стоимость и если нет, то приведёт ли она к увеличению обработки? и будет ли она в состоянии купить больше обуви, платья, мебели и т. д. и т. д.? Нет, она, возможно, будет в состоянии купить больше труда, т. е., другими словами, если цена труда падает, то такое же количество ренты купит больше труда. Но это может сделать и всякий другой равный доход в стране, а потому обработке земли не будет отдаваться предпочтение перед любым другим приложением капитала. Капиталист не только получит доход большей стоимости, а следовательно, получит и большее количество всех товаров, которые он желает потребить, но на такое же количество денег он будет в состоянии купить большее количество труда. В последнем отношении он будет находиться в одинаковом положении с землевладельцем. Держатель ценных бумаг будет участником этих общих выгод, он получит тот же денежный дивиденд; но ничто не понизится в цене, кроме труда. Всё это при предположении, что землевладелец получает увеличенную хлебную ренту, но в течение продолжительного времени он будет получать меньшую хлебную ренту. Усовершенствования в земледелии будут возрастать скорее, чем может быть увеличено население, а потому капитал будет изъят из земледелия, так как, хотя спрос на хлеб не будет увеличиваться, повысится спрос на другие предметы. Такое изъятие капитала из земледелия должно сопровождаться падением ренты. Если бы хлебная рента не понизилась, денежная рента всё же упала бы, и если бы цены всех товаров, на которые затрачивается рента, не упали бы, как это было бы в действительности, г-н Мальтус, вероятно, допустил бы, что это есть действительное падение ренты. Мне кажется, я вижу арендатора, принёсшего своему землевладельцу 90 ф. ст. вместо 100, когда цены всех товаров, за исключением хлеба, остались приблизительно прежними, и говорящего, что он принёс землевладельцу увеличенную ренту. Он сказал бы: «Мне доказали, что хлеб и труд представляют единственную меру действительной стоимости; на 90 ф. ст. вы можете получить больше хлеба и больше труда, чем могли бы купить прежде на 100 ф. ст.; вы поэтому получаете большую ренту, а видимое падение её только номинально». Землевладелец, по всей вероятности, сказал бы, что это падение достаточно реально, так как, несмотря на увеличение его ренты в соответствии с этим реальным стандартом, он теперь имеет меньше возможностей купить большинство предметов первой необходимости и все предметы роскоши. Я знаю, что этот аргумент может быть обращён против меня самого. Можно сказать, что во многих случаях, когда я говорю, что заработная плата увеличилась, потому что она возросла в моём стандарте стоимости, несчастный рабочий, однако, находит, что, отправляясь на рынок со своей увеличенной заработной платой, он может получить меньшее количество одного из главных предметов первой необходимости <В первоначальной редакции: «меньшее количество всех предметов первой необходимости и удобств». — Прим. англ. ред.>; тогда он, как изображённый мною землевладелец, будет готов получать более низкую заработную плату, если может получить за неё больше удобств. На это я отвечаю следующее: жалоба рабочего заключается в том, что товар, в котором он больше всего нуждается, поднялся в стоимости; цены всех товаров, кроме хлеба, остались прежними, поэтому он может на свою заработную плату купить большее количество их всех; оцениваемая в массе товаров — за исключением одного товара — заработная плата его действительно увеличилась. В прежнем случае рента землевладельца, оцениваемая в массе товаров, понизилась — она увеличилась только в том случае, если её оценивать в одном единственном товаре. 74. Стр. 161. «Если капитал увеличивается до такой степени, что становится избыточным в отраслях, в которых он обычно употребляется с определённой нормой прибыли, он не останется праздным, а будет искать приложения в той же или в других отраслях промышленности, хотя и с меньшей прибылью, и это заставит его перейти к менее плодородным землям. Точно так же, если население возрастает быстрее, чем спрос на рабочие руки, рабочие вынуждены будут довольствоваться меньшим количеством предметов первой необходимости; а так как затрата труда, таким образом, уменьшится, можно будет пустить в обработку участки, которые нельзя было обрабатывать раньше». Если рабочие требовали бы меньшую хлебную заработную плату, легко можно понять, почему их наниматели будут согласны поместить в обрабатывающую промышленность добавочный хлебный капитал, который вернётся к ним; но не видно никакого основания для того, чтобы у них создалось побуждение обрабатывать большую площадь земли и притом более бедной. Зачем производить большее количество товара, если потребление его не увеличилось? 75. Стр. 162. «Однако это точное и регулярное повышение денежной цены хлеба и труда отнюдь не необходимо для понижения прибыли; действительно, денежная цена хлеба будет регулярно повышаться, как описано выше, только в том случае, когда деньги, независимо от происходящих в стране перемен, сохраняют, согласно предположению г-на Рикардо, ту же стоимость, — случай, о котором можно сказать, что его никогда не бывает. Прибыль может, несомненно, понизиться, и отделение ренты может произойти при любых изменениях стоимости денег. Для наиболее регулярного и постоянного падения прибыли необходимо только (и в этом г-н Рикардо согласится со мной), чтобы рабочие поглощали большую долю стоимости всего продукта, полученного при помощи данного капитала». Я вполне согласен с г-ном Мальтусом по изложенному здесь вопросу, но считал бы большой ошибкой говорить, что заработная плата упала, когда мы условились, что на долю рабочего приходится «большая доля стоимости всего продукта, полученного при помощи данного капитала». Стоимость, я полагаю, измеряется пропорциями. 76. Стр. 163. «Говоря о второй причине, которой я приписал повышение ренты, г-н Рикардо замечает, что «никакое падение заработной платы не может привести к повышению ренты: такое падение не уменьшит ни той части продукта, которая достанется вместе и фермеру и рабочему, ни её стоимости». Но, спрошу я в свою очередь, что станется в конце концов с высокой реальной заработной платой в Америке? Перейдёт ли она к прибыли или к ренте? Если бы рабочие получали постоянно стоимость бушеля пшеницы в день, то только наиболее плодородные участки могли бы вынести издержки по обработке земли. Увеличение населения и понижение заработной платы стали бы безусловно необходимыми, чтобы можно было обрабатывать бедные участки. Как можно поэтому говорить, что понижение заработной платы не составляет одной из причин повышения ренты?» Г-н Мальтуc спрашивает меня, что станется в конце концов с высокой реальной заработной платой в Америке? Я отвечаю, что она вместе со всем почти остатком прибавочного продукта перейдёт к ренте. Но вопрос в том, каковы те последовательные этапы, какими она придёт к ренте. Во-первых, при падении заработной платы повысится прибыль. Высокая прибыль ведёт к новым накоплениям, новые накопления — к увеличивающемуся спросу на труд, к росту населения, к обработке более бедных земель и в конце концов к повышению ренты. Г-н Мальтус готов перепрыгнуть через все эти промежуточные этапы и заставляет читателя прийти к заключению, что всякое падение заработной платы и следствия всякого улучшения в обработке земли сейчас же переносятся на ренту. В этом случае я изображаю землевладельцев в более благоприятном свете, чем делает это г-н Мальтус. 77. Стр. 163. «В земледелии это <Понижение прибыли. — Ред.> достигается путём уменьшения продукта, полученного при помощи одного и того же капитала без пропорционального изменения части, которая поглощается рабочими; это оставляет меньшую сумму для прибыли, и в то же время реальная заработная плата рабочего уменьшается. Очевидно, однако, что если меньшее количество предметов первой необходимости, полученных путём приложения данного капитала к земледелию, было достаточно, чтобы удовлетворить нужды капиталиста и рабочего, то издержки обработки понизятся; можно будет при этом новом уровне заработной платы и прибыли обрабатывать более бедные участки, и повысится рента с земель, уже находившихся в обработке». Это правильно при условии, что существует спрос на продукт, — это безусловно существенно для расширения обработки. Одно только количество продукта не будет компенсировать производителя. 78. Стр. 163. «Третья из перечисленных причин, содействующая повышению ренты путём снижения издержек обработки по сравнению с ценой продукта, заключается в тех усовершенствованиях в земледелии или в таком умножении усилий, следствием которых будет уменьшение числа рабочих, необходимого для достижения определённого результата». Здесь издержки производства сравниваются с ценой продукта. Это предполагает соответствующий спрос на продукт. Спорный вопрос сочтён решённым. 79. Стр. 163. «Если введённые усовершенствования носят такой характер, что значительно понижают издержки производства, нисколько не увеличивая количества продукта, то в этом случае, поскольку бесспорно не произойдёт никаких изменений в цене хлеба, чрезмерные прибыли фермеров скоро уменьшатся вследствие конкуренции капиталов в промышленности и торговле; а так как вся сфера приложения капиталов скорее уменьшится, чем увеличится, прибыль в земледелии, так же как и в других отраслях, скоро вернётся к прежнему уровню, а прибавочный продукт, увеличившийся благодаря понижению издержек обработки, пойдёт на увеличение ренты землевладельцев». Каким образом могут быть снижены издержки производства без увеличения количества продукта или без понижения цены? Такое предположение заключает в себе противоречие. Промышленники получают низкую прибыль, а фермеры — высокую, что же может сблизить их прибыли? Понижение цены хлеба, которое непременно будет осуществлено без приложения нового капитала к земле. Что означает усовершенствование? Я не понимаю значения этого слова, если оно не означает, что при помощи такого же количества труда <В рукописи первоначально было: «при помощи такого же капитала». — Прим. англ. ред.> может быть получено большее количество продукта; хотя в этом случае цена продукта упала бы, прибыль повысилась бы, потому что весь продукт при низкой цене будет стоить больше, чем весь прежний продукт при более высокой цене. Но издержки на труд понизятся вместе с падением цены хлеба, и вследствие этого прибыль установится в конечном счёте на определённом соотношении между хлебом, затраченным на заработную плату, и полученным хлебом. Как могла бы повыситься рента? Может ли что-нибудь повысить ренту, кроме введения в обработку более бедных земель? Но ведь вы можете взять более бедные земли в обработку, потому что прибыль стала выше! Верно, можете, но сделаете ли вы это, пока не увеличится население, если увидите, что именно усовершенствование дало вам такое дополнительное количество продукта, что у вас появится побуждение изъять капитал из земледелия и перевести его в промышленность? Но каким образом увеличилась бы прибыль в промышленности? Вследствие падения цены труда; промышленные товары обладали бы по отношению друг к другу и к деньгам такой же меновой стоимостью, как прежде, но производство их удешевилось бы. Мой вывод поэтому прямо противоположен выводу г-на Мальтуса: прибыль на весь капитал, занятый в земледелии и промышленности, была бы высока, а рента вместо повышения упала бы, потому что в землю не только не мог бы быть дополнительно вложен капитал, но, по всей вероятности, он был бы изъят из земледелия. 80. Стр. 164. «Но если эти усовершенствования, как и должно быть, облегчают обработку новых земель и улучшают обработку старых при прежнем капитале, на рынок будет доставляться, несомненно, больше хлеба; это понизит его цену, но понижение будет только кратковременным». Я уже ответил на это. 81. Стр. 165. «Способность средств существования при надлежащем их распределении создавать для себя спрос целиком доказывается тем осязаемым фактом, что меновая стоимость хлеба, оцениваемая по количеству труда и других товаров, которые он может купить, по меньшей мере не понижается, несмотря на значительные и многочисленные усовершенствования, последовательно введённые в земледелии либо в виде лучших орудий, либо в виде усовершенствованной системы обработки земли. На деле все эти усовершенствования целиком пошли на повышение ренты и уплату налогов». Доказательство поистине далеко не удовлетворительное. Чтобы доказать, что хлеб создаёт для себя спрос, говорится, что заработная плата не претерпела существенных изменений. Это отнюдь не доказывает, что хлеб создал для себя спрос, как не доказывает, что лица, предъявляющие спрос на хлеб, вырастили его или были причиной того, что хлеб был выращен. 82. Стр. 165. «Можно прибавить, что, когда в отдельных округах вводятся усовершенствования, содействующие понижению издержек производства, вытекающие из них выгоды при возобновлении арендных договоров обращаются непосредственно на пользу землевладельцам, так как прибыли на капитал необходимо регулируются конкуренцией соответственно средней прибыли для страны в целом. Так, все крупнейшие усовершенствования в земледелии в некоторых частях Шотландии, севера Англии и графства Норфолк чрезвычайно повысили ренту в этих округах, оставив прибыль на прежнем уровне». Это должно зависеть от степени усовершенствования земледелия в этих округах. Если предложение из этих округов сильно увеличилось бы, рента могла бы быть повышена при возобновлении арендных соглашений, но она в общем понизилась бы в других местах, как и цена хлеба, так как худшая земля была бы изъята из обработки. 83. Стр. 167. «Если у соседних народов возникнет значительный и постоянный спрос на сырьё какой-либо страны, цена этого сырья, конечно, значительно повысится; а так как издержки обработки повышаются лишь медленно и постепенно, пока будет достигнута та же пропорция, цена продукта может в течение долгого времени держаться настолько высоко, что могла бы служить могущественным стимулом для усовершенствований в земледелии и содействовать вложениям более значительного капитала для поднятия нови и повышения производительности старых участков. Если, однако, спрос будет продолжаться, цена труда в конце концов повысится до прежнего уровня сравнительно с ценой хлеба; могло бы также произойти в общем определённое понижение стоимости денег вследствие обильного вывоза сырья; труд стал бы чрезвычайно производительным, в том смысле, что на него можно было бы купить все иностранные товары, и рента могла бы повыситься без понижения прибыли или заработной платы». Цена хлеба временно поднялась бы очень высоко, но будет ли это повышение постоянным, зависит от качества земли, с которой получалось бы дополнительное количество хлеба. Если бы эта земля была не хуже той, которая уже находится в обработке, цены в конце концов сравнялись бы со старыми ценами, а прибыли были бы выше прежнего только временно. Но если бы в обработку взята была худшая земля, цена хлеба повысилась бы, а прибыль была бы постоянно ниже. Я не знаю, как может произойти какое-либо падение стоимости денег, но думаю, что г-н Мальтус назвал бы падением стоимости денег то, что я называю только повышением цены товара. Всякое повышение цены хлеба он называет падением стоимости денег, хотя бы деньги обменивались на такое же точно количество всякого другого товара, как и прежде; я назвал бы это повышением цены хлеба без малейшего изменения в стоимости денег. Я считаю, что стоимость денег падает только в том случае, когда деньги обмениваются на меньшее количество всех других предметов, а не тогда, когда они обмениваются на меньшее количество одного предмета или двух, или дюжины предметов. Здесь существует отчётливое, не предусмотренное терминологией г-на Мальтуса, различие между повышением стоимости товара и падением мерила, в котором оценивается стоимость. Г-н Мальтус согласился бы, что если спрос на шляпы удваивается, то хотя они сначала повысятся в цене, но в конце концов будут доставлены в требуемом количестве по старым ценам, если только не повысятся издержки производства; почему же это должно быть иначе с хлебом? Г-н Мальтус заканчивает цитируемое место, говоря, что труд стал бы весьма производителен, поскольку речь пойдёт о покупке всех иностранных товаров, а рента могла бы повыситься без падения прибыли или заработной платы. По моему мнению, можно доказать, что рента не могла бы повыситься даже в условиях этого возросшего спроса, если только не понизились издержки производства или не потребовалась обработка новых земель низшего качества для обеспечения необходимого предложения. 84. Стр. 167. «Уровень денежных цен и быстрый прогресс земледелия в Северной Америке наглядно иллюстрируют сделанное нами предположение. Цена пшеницы в восточных штатах почти так же высока, как во Франции и Фландрии, и благодаря продолжающемуся спросу на рабочие руки денежная цена рабочего дня там почти вдвое больше, чем в Англии. Но эта высокая цена хлеба и труда дала фермерам и рабочим большие возможности в деле покупки за границей одежды и всякого рода предметов первой необходимости или удобств». Здесь смесь фактов и аргументов. Что касается фактов, то я должен полагаться на авторитет г-на Мальтуса. Признаюсь, что они мне кажутся весьма необычайными, и я не могу не заподозрить какой-то ошибки в его заявлении. «Цена пшеницы в восточных штатах почти так же высока, как во Франции и Фландрии, и благодаря продолжающемуся спросу на рабочие руки денежная цена рабочего дня там почти вдвое больше, чем в Англии». Тогда земля должна быть производительнее больше чем вдвое при том же количестве затраченного на неё труда или прибыль в этих штатах должна быть ниже, чем в Англии, так как цена продукта значительно ниже во Франции и Фландрии, чем в Англии. Несомненно верно, что, если страна должна платить известную денежную цену за иностранные предметы первой необходимости и удобства, в её интересах продавать экспортируемый ею товар по высокой, а не по низкой цене; желательно, чтобы за данное количество её собственного товара она получила в обмен большое, а не малое количество иностранных товаров, но я совершенно не в состоянии представить себе, каким образом нация может так регулировать свои дела, чтобы достичь этого средствами, имеющимися в её распоряжении. Всякая торговля в действительности есть товарообмен; и если в силу каких-либо законов можно так распределять или накоплять деньги, что цены экспортных товаров повысятся, это повысит также цены импортных товаров. Таким образом, будет ли стоимость денег высока или низка, это не повлияет на внешнюю торговлю, так как данное количество отечественного товара будет во всяком случае обмениваться на данное количество иностранного товара <В рукописи конец этого предложения, начиная со слов «так как», первоначально был следующий: «за данное количество отечественного товара не будет получено ни больше, ни меньше иностранного товара». — Прим. англ. ред.>. Если цена экспортного товара (пшеницы) была в восточных штатах низка, тогда как иностранный товар продавался по высокой цене, эти штаты не процветали бы в такой степени, потому что они не совершали бы столь выгодных сделок. Это кажется мне главным содержанием замечаний г-на Мальтуса. Если бы страны были властны регулировать цены, все они продавали бы товары по высоким ценам и покупали бы по низким. 85. Стр. 168. «Последствия такого же рода <Продолжение предшествующей цитаты. — Ред.> имели место в нашей собственной стране в результате подобного спроса на хлеб в течение двадцати лет, с 1793 до конца 1813 г., хотя этот спрос объяснялся другими причинами. В продолжение некоторого времени перед войной, начавшейся в 1793 г., мы имели обыкновение ввозить известное количество иностранного хлеба для обеспечения своего обычного потребления. Война, естественно, повысила издержки по снабжению хлебом в силу увеличения расходов на фрахт, страхование и т. д.; всё это в соединении с несколькими неурожайными годами и с позднейшими декретами французского правительства в чрезвычайной степени повысило цену, по которой можно было ввозить хлеб в количестве, достаточном для удовлетворения спроса... Цена хлеба держалась на высоком уровне до тех пор, пока для удовлетворения существующего спроса нужно было ввозить хотя бы минимальное количество иностранного хлеба, который можно было получить только по очень высокой цене. При такой высокой цене, поднявшейся в определённый период почти втрое в бумажных деньгах и более чем вдвое в золоте по сравнению с довоенными ценами, было совершенно невозможно, чтобы цена труда не повысилась почти в такой же пропорции, а вместе с тем и цены всех продуктов, в которые входила цена труда, поскольку прибыль не испытала понижения. Таким образом, у нас произошло всеобщее повышение товарных цен или понижение стоимости драгоценных металлов в сравнении с другими странами, и мы могли выдержать его только вследствие увеличения нашей внешней торговли и обилия предметов вывоза... Итак, очевидно, что понижение стоимости драгоценных металлов, начинающееся с повышения цены хлеба, имеет сильную тенденцию, пока оно держится, содействовать обработке новых земельных участков и создавать более высокую ренту». Цена зерна в Англии повысилась в результате двух причин: одна, общая и для всех других товаров, — падение стоимости мерила, в котором исчислялась цена; это повышение было чисто номинальным и было вызвано обесценением бумажных денег; другой причиной, как констатирует г-н Мальтус, были возросшие издержки по ввозу хлеба. При сравнении издержек возделывания хлеба и издержек по ввозу его найдено было, что производство хлеба обходится дешевле ввоза, но при данных издержках было получено хлеба меньше, чем мы могли ввозить прежде, и постольку это изменение было для Англии крайне невыгодно. Действительно, в течение известного времени в силу настоятельности спроса на этот предмет первейшей необходимости цена его на рынке могла удерживаться на уровне, значительно превосходящем его издержки производства или естественную цену, и в продолжение такого периода прибыль в земледелии может быть высока; но было бы очень неосторожно выводить из такого обстоятельства общее правило, что такой переход от импорта хлеба к возделыванию его в стране не по собственному выбору, а по необходимости, якобы не был во вред интересам страны, так как следует помнить, что эти высокие прибыли были получены только за счёт потребителя и могли быть получены только за его счёт. Но кажется, будто мы получили компенсацию благодаря общему повышению цен наших товаров! Чем было вызвано это общее повышение? Не тем, что мы возделывали свой собственный хлеб, — это может повысить цену хлеба, но не повысит цену какого-либо другого товара <В рукописи дальше вычеркнуты слова: «а падением стоимости денег». — Прим. англ. ред.>. Цена хлеба повышается в сравнении с другими товарами вследствие возросшей трудности его производства. Предположим, что стоимость денег в настоящее время падает, тогда повысятся цены не только товаров, но и хлеба; но это повышение цены хлеба совершенно независимо от прежнего. Первое повышение вызвано трудностью производства и ограничивается хлебом и земледельческими продуктами; второе объясняется понижением стоимости денег и является общим для всех товаров. Это второе повышение только номинально, и если бы оно было вызвано обесценением бумажных денег, которое имеет место только в нашей стране, то, хотя товары и хлеб могут повыситься в цене на 20%, цена слитков также повысится в такой же степени, и вексельный курс будет соответственно невыгоден для нас, поэтому при всех наших сделках <начало этого абзаца вписано Рикардо взамен следующих строк: «Затем повышаются цены товаров, а цена хлеба повышается ещё больше благодаря падению стоимости денег; в том случае, если это падение ограничивается бумажными деньгами и не распространяется на слитки, его называют обесценением денег. Но такое повышение только номинально; если цены товаров повышаются на 20%, то мы теряем 20% на вексельном курсе, а слитки идут с премией в 20%, так что во всех наших сделках...». — Прим. англ. ред.> с иностранцами мы покупаем у них так же дорого и продаём им так же дёшево, как если бы такого повышения не было. Что рента повысится, когда мы прекратим ввоз хлеба, — это как раз то, чего следовало ожидать; поступят в обработку худшие земли, что не преминет повысить ренту. Особые условия, в которые мы были поставлены, понизили, по мнению г-на Мальтуса, стоимость драгоценных металлов в нашей стране по сравнению с их стоимостью в других странах. Деньги тогда обесценились, потому что имели не одинаковую стоимость со слитками, но вдобавок стоимость их была ещё ниже, чем прежде, по сравнению с товарами, потому что сравнительная стоимость слитков <по отношению к товарам. — Ред.> была ещё ниже. Так вот, я всегда понимал, что в дискуссии по вопросу о слитках г-н Мальтус занимал среднюю позицию и приписывал видимое падение стоимости бумажных денег частью действительному падению стоимости бумажных денег и частью действительному повышению стоимости мерила (слитков), с которым сравнивали бумажные деньги. Он говорил, что торговцы отчасти правы, потому что разница между слитками и бумажными деньгами вызвана была частично повышением цены слитков, буллионисты <т. е. сторонники золотослиткового обращения, от английского слова «bullion» — слиток золота или серебра. — Ред.> были также отчасти правы, потому что разница вызывалась также и падением курса бумажных денег; теперь же он говорит нам, что цена слитков понизилась в нашей стране, и что, следовательно, буллионистам вряд ли удалось бы довести свою аргументацию до конца. Как согласует он выраженное в этой цитате мнение с тем мнением, которое он выразил на стр. 6 того же произведения: «Я всегда думал, что последняя дискуссия по вопросу о слитках представляла замечательный пример ошибки этого рода. Поскольку у каждой стороны была собственная теория, объяснявшая неблагоприятное состояние вексельного курса и превышение рыночной цены слитков над их монетной ценой, каждая из сторон держалась той точки зрения, которую привыкла считать правильной; вряд ли можно указать хотя бы одного автора, склонного допустить обе теории». Какие же это были теории? «Цена слитков не изменилась, утверждала одна сторона, и изменение цены золота вызывалось падением стоимости бумажных денег». «Стоимость бумажных денег не изменилась, утверждала другая сторона, и изменение цены золота вызвано было повышением стоимости золота». Истина лежит посредине, говорил г-н Мальтус, а теперь он не только утверждает, что стоимость золота не повысилась, как доказывали, по моему мнению, ошибочно, некоторые буллионисты, но настаивает на том, что стоимость золота в действительности понизилась. 86. Стр. 172. «Г-н Рикардо признаёт, что, когда падает стоимость денег, облагаемые товары дорожают не в такой же пропорции, как другие; и если предположить, что обесценение денег ограничивается одной страной, бесспорно должно будет сказать то же самое о всех разнообразных товарах, которые ввозятся целиком или частью из-за границы и из числа которых многие составляют часть капитала фермера. Поэтому фермер должен увеличить свои ресурсы благодаря повышению денежной цены хлеба сравнительно с ценою этих товаров. В действительности обесценение денег не может ограничиться одной страной при отсутствии особых, свойственных ей преимуществ в отношении экспорта; но, когда страна обладает этими преимуществами, что, как известно, нередко встречается, причём эти преимущества часто увеличиваются благодаря поощрениям, обесценение денег, вероятно, будет постоянно способствовать обработке более бедных участков и повышению ренты. Следовательно, каждый раз, когда в силу указанных четырёх причин <См. цитаты Мальтуса в примечаниях 71, 72, 73. — Ред.> увеличивается разница между ценой продукта и стоимостью орудий производства, рента будет повышаться». С этим взглядом я частично согласен, но необходимо понять, в чём именно заключается это особенное преимущество. Конкуренция внутри страны будет поддерживать цены наших товаров на таком уровне, который даёт нам возможность продавать их, но эта цена может быть, в особенности по отношению к немногим товарам, гораздо ниже, чем цены, по которым иностранцы могут их производить, и поэтому, если они не смогут получать их по нашим низким ценам, они будут охотно платить за них более высокую цену. Большая лёгкость в производстве хлопчатобумажных изделий, с которой не могут, пожалуй, состязаться другие страны, дала бы нам возможность требовать за них более высокую цену, если бы не внутренняя конкуренция. Мы можем, кроме того, владеть очень производительными рудниками, и стоимость добываемого из них металла может, в силу той же причины, понизиться ниже той стоимости, которую охотно дали бы за него иностранцы. Какие же средства имеются в нашем распоряжении, чтобы требовать более высокую цену за эти особенные товары? Одно из них очевидно, и эффект его несомненен. Правительство может обложить вывоз таких товаров пошлиной, которая не преминет повысить их цену для иностранного потребителя без всякого ущерба для отечественного промышленника. Есть и другой метод, эффект которого, однако, сомнителен. Именно на этот метод и ссылается г-н Мальтус. При помощи ограничений ввоза хлеба, говорят, будет дан большой стимул ввозу слитков, что приведёт к понижению их стоимости по сравнению с хлебом и трудом и к повышению цен всех производимых в стране товаров. Естественная цена всех этих товаров также повысится, в то время как естественная цена всех иностранных товаров не испытает повышения; напротив, так как слитки будут присылаться из других стран и стоимость их повысится, естественная цена товаров в этих странах понизится, и, таким образом, во внешней торговле, которая всегда в конечном счёте представляет товарообмен, мы получим большее количество иностранных товаров в обмен на данное количество наших. Так вот, правильность этого аргумента зависит от того, будет ли низкая сравнительно с хлебом и трудом стоимость денег, свойственная одной стране, неизбежно сопровождаться низкой стоимостью денег сравнительно с другими товарами; повысит ли она, короче говоря, естественную цену наших собственных товаров, так как только в этом случае мы можем выиграть. По той причине, которую мы теперь обсуждаем, стоимость денег, думается мне, не может понизиться до такой степени по отношению к нашим отечественным товарам, если только наш спрос на товары других стран до некоторой степени не исчерпан, и мы поэтому отказываемся брать в дальнейшем их товары в обмен на наши, в то время как они желают брать наши товары в обмен на свои. В этом случае деньги будут ввозиться в необычайном количестве, так как это — единственное условие, на котором иностранцы могут получить требуемое количество английских товаров, и, следовательно, цены последних повысятся. В то же время произойдёт дальнейшее повышение цен хлеба и труда; в первый раз они повысились в результате возросшей трудности производства хлеба, а во второй — в результате возросшего количества денег и низкой их стоимости. При таких условиях, несомненно, верно, что, если при отказе ввозить такой ценный товар, как хлеб, место его не может быть занято другими товарами иностранного производства и если у нас существуют особенно благоприятные условия для производства товаров, пользующихся всеобщим спросом, меновая торговля, или внешняя торговля, будет особенно благоприятна для Англии. Мы будем продавать наши товары по высокой денежной цене и покупать иностранные товары по низкой денежной цене, но очень сомнительно, не будет ли это преимущество куплено во много раз дороже, чем оно стоит, так как, чтобы получить его, мы должны мириться с сокращением производства отечественных товаров, с высокой ценой труда и низкой нормой прибыли. Такая жертва во всех отношениях непростительна, если, как я показал, той же выгоды можно добиться без запрещения ввоза иностранного хлеба, путём одного лишь обложения пошлиной вывоза тех товаров, в производстве которых мы либо имеем особенную сноровку, либо пользуемся особыми преимуществами благодаря климату или географическому положению. Мы не должны также забывать, что при введении ограничений на ввоз хлеба сомнительно, достигается ли вообще какое-либо преимущество, потому что, как я сказал выше, слитки не будут ввозиться и их общая стоимость в нашей стране не будет понижаться, пока мы будем расположены принимать иностранные товары в уплату за наши собственные товары. Вся аргументация предполагает, кроме того, что у нас есть товары, обладающие большой стоимостью во внешней торговле, но сохраняющие низкую стоимость в силу внутренней конкуренции. Если, таким образом, моё положение правильно, предложение г-на Мальтуса носит чересчур общий характер, потому что стоимость денег может быть и часто бывает особенно низка сравнительно с хлебом и трудом в одной стране, не будучи в то же время низкой в сравнении со всеми другими товарами; в этом случае нет никакого преимущества в том, чтобы компенсировать высокую стоимость хлеба и труда вывозом других товаров <Весь текст примечания 86, кроме двух последних абзацев, в рукописи заменяет следующую первоначальную редакцию: «С этим мнением я полностью согласен, но не опровергает лн оно теорию г-на Мальтуса, разъясняемую им на последних четырёх страницах? Каковы были в сравнении с прежними те преимущества, которыми Англия пользовалась в течение 20 лет — с 1793 по 1813 г. — вследствие того, что была вынуждена выращивать свой хлеб? Каковы были эти преимущества, если именно этому обстоятельству г-н Мальтус приписывает частичное падение стоимости денег в Англии?» — Прим. англ. ред.>. Что же именно даёт восточным штатам Америки преимущество, приписываемое частичному падению стоимости денег? То ли, что хлеб их почти так же дорог, как в Европе, а заработная плата рабочих вдвое выше, чем в Англии? Эти условия не особенно благоприятны для вывоза производимого ими продукта. Отнюдь не падение стоимости денег, а только повышение стоимости хлеба вызовет обработку более бедных земель. 87. Стр. 173. «Нет, однако, никакой необходимости, чтобы все указанные четыре причины действовали одновременно; необходимо только, чтобы упомянутая здесь разница продолжала увеличиваться. Если, например, цена продукта поднимается, тогда как заработная плата рабочих и цены товаров в других отраслях не повышаются в той же пропорции, и в то же время в земледелии начинают применяться новые усовершенствованные методы, очевидно, что эта разница может увеличиться, хотя прибыль капитала, вложенного в земледелие, не только не уменьшится, но должна будет даже решительно повыситься». В этом случае <В первоначальной редакции это примечание начиналось словами: «Это было бы к всеобщей выгоде». — Прим. англ. ред.> должны совместно действовать две или три причины, чего обычно не случается в одно и то же время. У нас должны быть усовершенствованные методы земледелия, что, конечно, увеличит количество продуктов, получаемых при помощи данного количества труда; и всё же рабочий получит меньше продуктов, даваемых ему в качестве заработной платы. У нас будет тогда возросшее количество при уменьшении потребления и более высокой цене — всё это такие вещи, которые я не знаю, как согласовать. 88. Стр. 174. «Из большого добавочного капитала, вложенного в земледелие в Англии в течение последних двадцати лет, наибольшая часть, вероятно, была создана в земледелии, а не доставлена из промышленности или торговли. И, бесспорно, столь быстрое и выгодное накопление стало возможным лишь благодаря высоким прибылям капитала в земледелии, создавшимся в результате усовершенствованных методов земледелия и постоянного повышения цен, за которым последовало соответственное, но медленное повышение цен предметов, составляющих вещественный капитал фермера. В этом случае обработка земли расширялась и рента повышалась, хотя один из агентов производства, т. е. капитал, вздорожал». Не следует предполагать на основании чего-либо сказанного мною, будто я отрицаю возможность повышения ренты, хотя прибыль может быть не ниже, чем в предшествовавший период, когда рента была ниже. Я говорю только следующее: усовершенствования в земледелии повышают прибыль, население возрастает, обработка земли расширяется и рента повышается; прибыль тогда падает, может быть, не до такого низкого уровня, какой существовал прежде, а может быть, и ниже; но прибыль представляет тот фонд, из которого берётся всякая рента. Нет такой ренты, которая в какое-то время не составляла бы прибыли. 89. Стр. 174. «Но как только вследствие действия одной или нескольких причин, о которых мы упоминали, орудия производства становятся дешевле и разница между ценой продукта и издержками обработки увеличивается, рента, естественно, повышается. Из этого вытекает как прямое и необходимое следствие, что никогда не может быть выгодно обрабатывать новые менее плодородные участки, пока не повысится рента или пока это повышение не сделалось возможным для уже обрабатываемых земель». Но это повышение ренты отнюдь не необходимо; стоимость прибавочного продукта возрастает, и разница может быть прибавлена к прибыли. Все другие прибыли должны возрастать в то же время. 90. Стр. 175. «Точно так же верно, что без этой тенденции к повышению ренты не может быть выгодно затрачивать новый капитал на улучшение старых земель, по крайней мере при предположении, что всякая ферма уже снабжена всем капиталом, какой может быть употреблён с выгодой соответственно существующей норме прибыли». Я вполне согласен почти со всем, что г-н Мальтус говорит на этой и последующих страницах до конца отдела. Мы пришли бы к соглашению относительно конечных результатов, но мы значительно расходимся во взглядах на те меры, при помощи которых эти конечные результаты могут быть достигнуты. О Т Д Е Л Ч Е Т В Ё Р Т Ы Й 91. Стр. 178. «Причины, вызывающие понижение ренты, как и следовало ожидать, носят совершенно иной характер, чем те, которые вызывают её повышение: таковы уменьшение капитала, сокращение населения, плохая система земледелия и низкая рыночная цена сырья. Всё это показатели нищеты и упадка, и они неизбежно связаны с забрасыванием худших земельных участков и непрерывным ухудшением земель лучшего качества». Не все причины понижения ренты являются показателями нищеты и упадка. Разрешение свободного ввоза хлеба понизило бы ренту, но не было бы признаком нищеты и упадка. Непрерывные усовершенствования в земледелии могли бы вывести земли из обработки на ряд лет, пока численность населения не достигнет такого уровня, что для его снабжения потребуется расширить обработку земли. Это вовсе не признак упадка. Переход к более дешёвой пище привёл бы к сокращению обрабатываемой площади, но не обязательно сопровождался бы нищетой, потому что люди смогли бы предъявить больший спрос на предметы одежды и обстановки и тратить на эти предметы комфорта средства, которые сберегались бы на покупке пищи. Это не было бы ни нищетой, ни упадком. 92. Стр. 179. «Можно также констатировать, что понижение цены хлеба, кончающееся повышением стоимости денег, должно согласно тем же принципам содействовать изъятию из обработки некоторых земельных участков и понижению ренты». Нет необходимости повторять мои возражения против этой теории. Я допускаю, конечно, что если падение цен было вызвано свободным доступом иностранного хлеба, то рента понизилась бы; это было бы, по моему мнению, не злом, а благом. Если бы падение цен было вызвано повышением стоимости денег, то оно оказало бы одинаковое воздействие на всё и было бы убыточно лишь постольку, поскольку увеличило бы тягость обложения. Однако это убыточно не для всех — держатель ценных бумаг выигрывает то, что теряют другие классы, и может, если ему угодно, воспользоваться этим с выгодой для себя. Сделает он это или нет, дело вкуса. Мне неясно, почему изменение стоимости денег должно привести к обеднению государства, к оставлению земли без обработки или к уменьшению хлебной ренты, ренты, измеряемой стандартом г-на Мальтуса. 93. Стр. 181. «Точно так же, когда продукт страны <Имеется в виду продукт, полученный от сельского хозяйства. — Ред.> падает и рента понижается, из этого не следует, что все орудия производства неизбежно должны подорожать. В естественном ходе упадка прибыль на капитал обязательно будет низкой, потому что именно отсутствие достаточных доходов служит причиной этого упадка. После того как капитал уменьшен, прибыли могут повыситься, а заработная плата рабочих — понизиться, но низкая цена сырья в соединении с высокой прибылью на ограниченный капитал могут более чем уравновесить низкую заработную плату и сделать невозможной обработку земель, требующих крупного капитала». Всякая верная теория привела бы к прямо противоположному заключению. Труд был бы дёшев, потому что население неизбежно стало бы избыточным. Продукт был бы дорог по сравнению с трудом, потому что вследствие уменьшения капитала производство сократилось бы, но прежнее число людей было бы готово работать. Рента была бы низка, потому что обрабатывались бы только лучшие земли. Что может быть более благоприятно для высокой прибыли, чем низкая заработная плата и низкая рента? <Первоначально были добавлены слова «и высокие цены?», затем заменённые словами «и весь продукт высокой стоимости?»; позже эти слова также были вычеркнуты. — Прим. англ. ред.>. Следует также помнить, что и ту и другую следует оценивать в мериле г-на Мальтуса, в труде, который они могли бы тогда купить в большом количестве. 94. Стр. 182. «Если изложенное здесь учение о законах, регулирующих повышение и понижение ренты, близко к истине, то должно быть очень далеко от истины учение, утверждающее, что обработка земли приносила бы капиталу такую же выгоду даже в том случае, если бы земледельческий продукт продавался по цене, приносящей меньший чистый прибавочный продукт». Общество заинтересовано в получении с земли большого чистого прибавочного продукта; оно заинтересовано также в том, чтобы этот большой чистый прибавочный продукт продавался по низкой цене. Если хлеб продаётся по низкой цене, это доказательство того, что прибыль высока на участках земли, последними поступивших в обработку. Если хлеб продаётся по высокой цене, то так же ясно, что прибыли сравнительно низки и что высокая цена есть средство, при помощи которого потребитель хлеба обеспечивает ренту для землевладельца. Землевладелец не может регулировать это; он не может сделать землю, поступившую в обработку последней, беднее, чем его собственная, и потому он является пассивным орудием; но всё же только благодаря этому обстоятельству деньги переходят из карманов потребителей в карманы землевладельцев. Благосостояние людей растёт пропорционально повышению уровня производительности земли, поступившей в обработку в последнюю очередь. Их благосостояние повышается потому, что они могут покупать то же количество продукта по более дешёвой цене — иначе говоря, с затратой меньшего количества труда или за продукт меньшего количества своего труда. Благосостояние капиталистов повышается потому, что с удешевлением продуктов питания снизится и заработная плата. Низкая заработная плата — только другое название для высоких прибылей. 95. Стр. 182. «Что касается моих собственных убеждений, то я нисколько не сомневаюсь в следующем: если бы под впечатлением того, будто создающая ренту высокая цена сырья столь же убыточна для потребителей, сколь выгодна для землевладельцев, богатая и процветающая страна решилась бы издать законы, чтобы понижать цены продуктов, пока нигде не осталось бы никакого излишка в форме ренты, это неизбежно привело бы к отказу от обработки не только всех малоплодородных земель, но и всех земельных участков, кроме наилучших; производство и население этой страны были бы, вероятно, сведены меньше чем к одной десятой прежнего размера». Как <Первоначально это примечание начиналось словами: «Таково и моё убеждение», позже вычеркнутыми. — Прим. англ. ред.> может г-н Мальтус давать такое толкование слову «убыточный»? Моё мнение таково, и я убеждён, что таково также мнение всех других джентльменов, пользовавшихся этим словом, что рента не есть чистый выигрыш для страны, — она необходима для нынешнего снабжения хлебом, но извлекается из фонда, который должен уменьшаться, если она возрастает. 96. Стр. 183. «...Цена хлеба во всякой развивающейся стране должна быть приблизительно равна издержкам производства на худших из обрабатываемых земель плюс рента, которую эти земли приносили бы в своём естественном состоянии, или эта цена должна быть равна издержкам, необходимым для извлечения из старых участков добавочного продукта, причём этот добавочный продукт принесёт только обычный процент на капитал при небольшой ренте или без неё». Почему при небольшой ренте? Никакая рента не будет уплачиваться за дополнительный капитал, вложенный в старую землю. Г-н Мальтус отказывается допустить, что может возделываться какой-либо хлеб, в который рента не будет входить как составная часть. Если верно, что небольшая рента будет уплачиваться за последнюю часть капитала, вложенного в старую землю, то он прав; если же никакая рента не будет уплачиваться за эту часть капитала, он должен признать свою ошибку. Поэтому я желал бы, чтобы он привёл свои доказательства в пользу предположения, что какая-либо рента будет уплачиваться за капитал, употреблённый таким образом. Г-н Мальтус, мне кажется, сам отказывается от своего положения в следующем параграфе, так как говорит, что «каждому фермеру, располагающему капиталом, всегда будет выгодно вложить его в свою землю,если получаемый от этого добавочный продукт целиком оплатит прибыль на его капитал, хотя он ничего не даёт землевладельцу». Таким образом, может быть получен некоторый добавочный продукт, который не приносит землевладельцу ренты. При рассмотрении принципов налогового обложения эта доктрина имеет очень большое значение и действительно очень существенна для всех частей науки политической экономии <Последним предложением заменена следующая первоначальная редакция: «Что касается налогового обложения, эта доктрина имеет важнейшее значение». — Прим. англ. ред.>. 97. Стр. 184. «Итак, отсюда следует, что цена хлеба по отношению ко всему произведённому количеству есть цена естественная, или необходимая, т. е. цена, необходимая для получения существующего количества продуктов; однако безусловно большая часть хлеба продаётся по цене значительно более высокой, чем необходимо для производства, потому что часть эта произведена с меньшими издержками, тогда как её меновая стоимость не испытывает никакого уменьшения». Следовало бы сказать: «произведена с такими же издержками, тогда как её меновая стоимость значительно возрастает». 98. Стр. 184. «Разница между ценой хлеба и ценой промышленных продуктов, поскольку речь идёт о цене естественной, или необходимой, заключается в следующем: если цена какого-либо промышленного продукта существенно понижается, вся соответствующая отрасль промышленности будет совершенно разорена; между тем, если существенно понизится цена хлеба, уменьшится только количество последнего. В стране останется какой-то механизм, способный всё же посылать на рынок этот товар по пониженной цене». Это замечание, а также замечания на ближайших двух страницах превосходны. 99. Стр. 187. "В этих случаях ясно, что рента не регулируется различным качеством земель или различными количествами продукта, полученными от приложения капитала к одной земле; это был бы слишком обпшй вывод из теории ренты, если бы мы вместе с г-ном Рикардо пришли к заключению, что "рента всегда платится за пользование землёй только потому, что количество земли не беспредельно, а качество ее неодинаково, с ростом же населения в обработку поступает земля низшего качества или расположенная менее удобно" <Д. Рикардо, Начала политической экономии и налогового обложения, т. I, стр. 67. — Peд. >". Рента в этом случае регулировалась бы различными количествами продукта, полученными от приложения капитала к одной и той же земле. С повышением цены продукта было бы выгодно вложить в землю несколько больший капитал с прибылью меньшей, чем приносил прежде вложенный капитал; это вложение капитала было бы ограничено спросом на хлеб, и, естественно, было бы выбрано наиболее благоприятное местоположение участка. Я не вижу, почему мой вывод является слишком общим, в особенности если вспомнить моё обычное утверждение, что одной из главных причин ренты является приложение добавочного капитала к старой земле без такой же больший прибыли, как с капитала, затраченного прежде. 100. Стр. 188. "С прогрессом земледелия, по море того как поступают в обработку все более и более бедные земли, величина нормы прибыли должна быть ограничена производительной силой земель, последними поступивших в обработку, как будет показано в одной из дальнейших глав. Из этого был сделан вывод, что, когда участки земли последовательно изымаются из обработки, норма прибыли будет повышаться пропорционально большому естественному плодородию земли, которая будет тогда наименее плодородной пз земель, находящихся в обработке". Г-н Мальтус ошибается; он неправильно представил мой вывод. Был сделан вывод, что прибыль будет высока пропорционально продукту, получаемому той частью капитала, которую земледелец будет считать для себя выгодным затратить либо на новую землю, за которую не платится никакая рента, либо на старую землю, если добавочный капитал употребляется только с целью получить прибыль <Начиная отсюда и до конца примечания 102 в рукопись позже были добавлены 12 страниц взамен первоначальной редакции текста, занимавшего только 4 страницы (что явствует из пропуска в карандашной нумерации листов). Эти 4 страницы отсутствуют. — Прим. англ. ред.>. Этот вывод строго правилен только при предположении, что заработная плата продолжает оставаться неизменной, так как при увеличенном продукте и уменьшенной ренте или при уменьшенном продукте и увеличенной ренте на заработную плату будет израсходована большая или меньшая доля всего продукта, и, хотя в этом случае прибыль может подняться или упасть, она не будет подниматься или падать в точности пропорционально увеличившемуся или уменьшившемуся продукту. 101. Стр. 188. «Если бы земля в своем естественном состоянии, будь она плодородной или бедной, нс приносила никакой ренты и если бы относительные цены капитала и продукта оставались без изменения, то, поскольку весь продукт распределился бы между прибылью и заработной платой, указанный выше вывод был бы правилен. Однако предпосылки не таковы, как здесь предположено». И что скажет г-н Мальтус о капитале, изъятом из земли, которая все же остаётся в обработке и за которую не платится рента? Разве после изъятия этого капитала какой-нибудь другой капитал не попадёт в те же условия, при которых он не даёт ренты, хотя доставляет более значительный доход? Согласно заявлению самого г-на Мальтуса, если рента падает, а земля остаётся столь же производительной, как прежде, должна возрасти либо прибыль, либо заработная плата. Если это неверно, то что станется с разницей между высокой и низкой рентой? Кто получит её? 102. Стр. 189. «Если к этому обстоятельству прибавить влияние повышения стоимости денег и вероятного понижения цены хлеба, большего, чем понижение цены рабочего скота, ясно, что обработка земли будет сталкиваться с постоянными затруднениями и что лучшие земельные участки могут не принести более высоких прибылей. Более высокая рента, уплачиваемая за последнюю из поступивших в обработку земель, вместе с большими капитальными затратами по сравнению с ценой продуктов может полностью уравновесить или даже перевесить разницу в естественном плодородии». Предположение <в начале этого примечания вычеркнуты следующие слова: «Предположите, что заработная плата остаётся без изменений, а рента падает; тогда прибыли должны зависеть от стоимости продукта». — Прим. англ. ред.> было таково, что вследствие ввоза хлеба рента упала и что во всяком случае земля, последней взятая в обработку, была бы более производительна и за неё платилась бы меньшая рента. Всё это допускает даже г-н Мальтус. Что же может он подразумевать под «более высокой рентой, уплачиваемой за последнюю из поступивших в обработку земель и уравновешивающей или даже перевешивающей разницу в естественном плодородии»? Подразумевает ли он, что если ввоз хлеба был бы свободен, то хотя земля, взятая в обработку последней, была бы более производительна, с неё не было бы получено более значительной прибыли, потому что за неё платилась бы большая, чем раньше, рента? Если он хотел сказать именно это, то он должен утверждать, что, чем свободнее ввоз хлеба, тем выше будет рента. Какое отношение к этому вопросу может иметь повышение стоимости денег? Что именно вызывает это повышение? И если стоимость денег повысилась, то как может это обстоятельство влиять на норму прибыли? Вопрос сводится просто к тому, что при данном расходе капитала и труда получается большее количество хлеба. Из этого большего количества хлеба фермер удерживает большую долю, потому что меньшая доля (и действительно меньшее количество) уплачивается им землевладельцу в форме ренты. Поэтому верно, что, хотя он может продать свой хлеб по более низкой цене, он может всё же получить большую прибыль. Но норма его прибыли «должна, очевидно, сообразоваться со средней нормой прибыли. Если бы цены товаров в промышленности и торговле оставались без изменения, несмотря на падение цены труда, прибыли наверное повысились, но не остались бы без изменения, как показано было в предыдущей главе». Где именно это было показано в предыдущей главе? Заметьте аргумент г-на Мальтуса и предложение, с которым он выступает. «Сделан был вывод, — говорит он, — что, когда участки земли последовательно изымаются из обработки, норма прибыли будет повышаться пропорционально большему естественному плодородию земли, которая будет тогда наименее плодородной из земель, находящихся в обработке» <Этот вывод сделан был только на тот случай, когда заработная плата не поглощает в своем росте всё дополнительное количество продукта, полученное фермером. — Прим. Рикардо.>. Это неправильный вывод, говорит г-н Мальтус. Почему? Потому что, хотя рента может понизиться вследствие ввоза более дешёвого хлеба из других стран, это не будет сопровождаться потерей всей ренты даже с наиболее бедных земель из находящихся в обработке. Предположим, что во всём этом мы делаем г-ну Мальтусу уступку; всё же его допущение, что рента упадёт, хотя и не будет вполне уничтожена ни на какой земле, целиком совпадает с моим положением. Но г-н Мальтус делает значительно большую уступку: он говорит: я не только допускаю, что рента упадёт, но думаю, что понизится цена труда, и всё же я утверждаю, что прибыль фермера не повысится, потому что она должна сообразоваться со средней прибылью, а при низкой цене труда другие товары должны понизиться в цене, и потому прибыль на капитал, занятый в их производстве, не повысится. Г-н Мальтус допускает, что при данном капитале будет получено большее количество сырого продукта, что это количество должно быть разделено между землевладельцем, фермером и рабочим. Он признаёт, что землевладелец получит меньше; рабочий, как сказано, получит не больше, и всё же фермер не получит большей стоимости. Чем собственно измеряет г-н Мальтус стоимость? Если он говорит, что той мерой, которую он считает правильной — «распоряжение трудом», — то он очевидно поддерживает противоречивое положение, потому что говорит, что рабочие будут работать за то же количество хлеба, как и прежде, и всё-таки фермер, в распоряжении которого имеется больше хлеба для раздачи им, не получит большей стоимости. Если он говорит, что его мера стоимости — «другие товары» и что человек не получает большей стоимости, если не имеет власти распоряжаться большим количеством этих товаров, он всё-таки поддерживает противоречивые положения <конец абзаца вписан Рикардо взамен нижеследующего текста: «Если фермер не может купить большее количество товаров на свое дополнительное количество хлеба, то в этом случае товары не понизились в стоимости вследствие падения стоимости труда, и прибыли производителей этих товаров будут выше, чем прежде, — они получат за свои товары такую же стоимость в других товарах, как прежде до ввоза хлеба, тогда как стоимость труда, который они употребляют для производства этих товаров, будет меньше, а именно это доставит им высокую прибыль. Если г-н Мальтус говорит, что цена хлеба упадет настолько, что фермер не получит никакой добавочной прибыли, он должен тогда допустить, что прибыль фермера не будет сообразна с средней нормой прибыли, потому что понижение цены хлеба и труда в сравнении с другими товарами для фермера есть то же, что повышение стоимости товаров; поэтому г-н Мальтус отказывается от своего предположения, будто стоимость товаров упала, и устанавливает необходимость высоких прибылей на промышленные товары. «Но норма прибыли (от земледелия) должна, очевидно, сообразоваться с средней нормой прибыли», и поэтому прибыль от земледелия также будет высока». — Прим. англ. ред.>, так как одна часть его аргументации требует утверждения, что фермер будет иметь власть распоряжаться большим количеством других товаров; а другая — что фермер не будет иметь власти распоряжаться таким же большим количеством товаров, как прежде. Если фермер может распоряжаться большим количеством товаров, а товары есть мерило стоимости, он будет располагать большей стоимостью, и его прибыль повысится; в этом случае критикуемый г-ном Мальтусом вывод правилен. Если же фермер не может распоряжаться большим количеством товаров вследствие сильного понижения цены на хлеб, цены промышленных товаров будут не падать, а повышаться, а поскольку цена труда низка, средняя прибыль будет высока. Прибыли промышленника не могут не быть высокими, если он может обменять свои товары на такое же количество всех других товаров и на большее количество сырья и если в то же время он платит рабочему меньшую заработную плату вследствие падения цены хлеба. Мне кажется ясным, что цена хлеба упадёт, но это падение цены будет больше чем компенсировано фермеру увеличением количества, и таким образом его прибыль повысится. Прибыли промышленника также увеличатся, так как он будет продавать свои товары по прежней цене, а вследствие снижения цены хлеба издержки производства в промышленности понизятся. Нельзя позволить г-ну Мальтусу говорить, что хлеб и промышленные изделия понизятся в цене сравнительно с деньгами, потому что, во-первых, он не приводит никаких соображений в пользу такого понижения и, во-вторых, если бы он мог установить это ко всеобщему удовлетворению, было бы только доказано, что стоимость денег повысилась и это повышение одинаково затронуло бы все товары, но это не оказало бы вообще никакого влияния на норму прибыли. Следствия этого понижения были бы точно такие же, какие произошли бы в результате потери некоторых богатых рудников <Взамен слов: «в результате открытия какого-либо богатого рудника». — Прим. англ. ред.> драгоценных металлов или в результате восстановления курса <Взамен слов: «в результате обесценения». — Прим. англ. ред.> бумажных денег после большого обесценения. 103. Стр. 190. «Следует добавить, что при правильном развитии страны по пути к общей культуре и совершенствованию и при естественном порядке вещей справедливо было бы предположить, что, если последние поступившие в обработку участки плодородны, капитал будет недостаточным, а прибыли наверное будут высоки; но если обработка земли прекращается потому, что найдено средство получать в другом месте хлеб по более дешёвой цене, то из этого нельзя сделать такой вывод. Наоборот, может наблюдаться обилие капитала по сравнению со спросом на хлеб и другие товары; в этом случае, пока это изобилие продолжает существовать, прибыль должна быть низка, каково бы ни было состояние земли. Это различие имеет весьма большое практическое значение, и мне кажется, что г-н Рикардо совершенно пренебрёг им». С моей точки зрения, ни один пункт не разработан более удовлетворительно, чем тот, что высокая прибыль самым тесным образом связана с низкой стоимостью продовольствия, так как низкая стоимость продовольствия оказывает величайшее влияние на заработную плату, а низкая заработная плата не может не создавать высокой прибыли. Предположим, что я — фабрикант сукна, что в год я сделал 100 штук и что продовольствие стоит по сравнению с сукном так дорого, что мне приходилось давать рабочим 60 штук, чтобы дать им возможность купить себе предметы первой необходимости; тогда у меня осталось бы 40 штук. Предположим теперь, что сравнительная цена продовольствия упала, и что 50 штук достаточно, чтобы купить предметы первой необходимости, нужные моим рабочим, — не увеличится ли моя доля в этом случае на 10 штук? Но ваши 50 штук сукна могут понизиться в стоимости и будут продаваться не за большее количество товаров, чем прежде 40 штук! Это не может быть верно по отношению к хлебу и труду, потому что согласно нашему предположению стоимость их понизилась, и она низка в сравнении со стоимостью сукна. Поэтому если бы я захотел нанять каких-либо рабочих при помощи моих 50 штук сукна, этого сукна хватило бы на оплату гораздо большего числа рабочих, чем 50 штук прежде. Но стоимость их не упадёт по отношению к какому-либо другому товару, так как сапожник из каждых 100 пар обуви удержит для себя 50 пар вместо 40, пивовар поступит так же со 100 бочками пива и точно так же поступит представитель всякой другой отрасли промышленности. Причина, воздействующая на одну отрасль, действует на все; как же можно тогда сказать, что будут затронуты относительные стоимости товаров? Но можно сказать, что, хотя цена хлеба падает по отношению ко всем этим предметам, заработная плата не упадёт. Это ещё лучше, так как счастье наиболее многочисленной, а потому и наиболее важной, части народа в значительной степени возрастёт без понижения прибылей. 104. Стр. 193. «Адам Смит очень хорошо объяснил, каким образом прогресс богатства и усовершенствований имеет тенденцию повышать цены скота, домашней птицы, предметов одежды и жилья, наиболее полезных минералов и т. д. сравнительно с хлебом, но он не входил в объяснение естественных причин, определяющих цену хлеба. ...Эти причины по главным их последствиям сводятся, повидимому, к двум: 1. Разница в стоимости драгоценных металлов в различных странах при различных условиях». Ничто не кажется мне столь маловажным, как эта причина. Стоимость денег не может изменяться, не затрагивая в такой же степени цен всех предметов; и при условии, что у нас есть прежнее количество всех товаров и что они сохраняют ту же относительную стоимость по отношению друг к другу, — какое значение имеет стоимость денег? 105. Стр. 193. «2. Разница в количестве труда и капитала, необходимых для производства хлеба». Я согласен с г-ном Мальтусом в отношении этих двух причин высокой цены хлеба, но, считая первую маловажной, я приписываю второй самое большое значение. Изобилие наиболее важного из всех видов товара зависит от разумного применения труда и капитала к его производству. Мой вопрос таков: каким путём можем мы использовать труд и капитал самым разумным образом, чтобы добиться обильного предложения этого главного предмета первой необходимости? И если я нахожу, что данное количество труда и капитала, приложенное к промышленному производству, доставит путём обмена из-за границы большее количество хлеба, чем при вложении в нашу собственную землю, то я высказываюсь в пользу этого способа получения хлеба; и наоборот, если труд и капитал могут стать более производительными, будучи непосредственно приложены к нашей собственной земле, то я точно так же буду настаивать, чтобы такому их приложению не было поставлено никаких препятствий. Я счастлив заявить, что согласен с г-ном Мальтусом во всём, что он говорит в остальной части этого раздела. 106. Стр. 199. «По мере движения страны к более высокому уровню технических усовершенствований положительное богатство землевладельца согласно изложенным нами принципам должно было бы постепенно возрастать, хотя его относительное положение будет скорее ухудшаться, а его влияние в обществе — скорее уменьшаться вследствие увеличения численности и богатства тех, кто живёт на ещё более крупный излишек, т. е. на прибыль с капитала». Я думаю, что относительное положение землевладельцев по сравнению с капиталистами будет постепенно улучшаться вместе с прогрессом страны, хотя рента их наверное не будет возрастать пропорционально валовому продукту. 107. Стр. 201. «Нет никакого основания думать, что, если бы землевладельцы подарили фермерам всю ренту, хлеба стало бы больше и он был бы дешевле. Если правильна высказанная в предыдущем исследовании точка зрения, то количество, последним добавленное к нашему отечественному продукту, продаётся примерно по цене производства, и то же количество не могло быть произведено на нашей собственной земле по более низкой цене, даже при отсутствии ренты». Таково моё мнение, но это не должно быть мнением г-на Мальтуса, который утверждает, что рента входит известной частью в цену всего хлеба. Как бы ни была она мала с хлеба, возделанного в последнюю очередь, в той же степени упала бы цена хлеба, если бы вся рента была ликвидирована. Из того, что г-н Мальтус говорит здесь и в другом месте, можно было бы сделать вывод, будто он допускает, что всегда продаётся некоторое количество хлеба, в цену которого совсем не входит рента, но гораздо чаще он настаивает на противоположном. 108. Стр. 204. «Хотя отнюдь неверно, как заявляют экономисты <т. е. физиократы. — Ред.>, что все налоги падают на чистый доход землевладельцев, всё же совершенно верно, что у последних мало возможностей облегчить бремя налогов. Верно также, что землевладельцы владеют фондом, который легче реализовать и который приспособлен для обложения налогами лучше, чем всякий другой. Вот почему их гораздо чаще облагают как прямыми, так и косвенными налогами. И если землевладельцы платят, как это, несомненно, делается, многие из налогов, которыми облагаются капитал фермера и заработная плата рабочего, а также налоги, непосредственно налагаемые на них самих, они обязательно должны это почувствовать вследствие уменьшения той части валового продукта, которая при других обстоятельствах досталась бы им». Г-ну Мальтусу было бы очень трудно доказать это. Какие налоги на капитал фермера платят землевладельцы? 109. Стр. 205. «Адам Смит говорил, что интересы землевладельца тесно связаны с интересами государства и что процветание или бедственное положение одного влечёт за собой процветание или бедственное положение другого. Теория ренты, как мы её изложили в настоящей главе, повидимому, подтверждает в сильной степени это мнение. Если при данном состоянии естественных ресурсов почвы главными факторами, благоприятствующими интересам землевладельцев, являются рост капитала и населения, усовершенствования в земледелии и растущий спрос на сырой продукт, вызываемый процветанием торговли, то едва ли возможно рассматривать интересы землевладельцев отдельно от интересов правительства и народа. Между тем г-н Рикардо утверждает, что «интересы землевладельцев всегда противоположны интересам потребителей и фабрикантов» <Д. Рикардо, Начала политической экономии и налогового обложения, т. I, стр. 275. — Ред. >, т. е. интересам всех других сословий государства». Я ответил на это [] <пропуск в рукописи. Несомненно, речь идёт о примечании 58. — Прим. англ. ред.>, к которому и отсылаю читателя. Здесь я замечу только, что г-н Мальтус должен вспомнить о том ограниченном смысле, который я придаю мнению, высказанному в приведённой им цитате из моего труда: я сказал, что только ближайшие интересы землевладельца противоречат улучшениям в земледелии и снижению издержек производства хлеба. Поскольку сила земли, как машины, совершенствуется, землевладелец выиграет, когда она снова будет призвана к действию; а это непременно осуществится после того, как население увеличится пропорционально возросшей лёгкости производства пищи. 110. Стр. 206. «Совершенно бесполезно задерживаться на предположениях, которые никогда не могут осуществиться, и делать из них общие выводы. Поскольку мы живём в ограниченном мире, на ещё более ограниченной территории стран и округов и под властью физических законов, влияющих, как показывает опыт, на продукт земли и на рост населения, мы хотим знать, действительно ли интересы землевладельца в общем противоположны интересам общества». Принцип бывает либо верным, либо ложным. Если он верен, то он приложим как к ограниченному обществу, так и к большому. Моё мнение таково, что рента никогда не извлекается из какого-либо другого источника, кроме фонда, который некогда образовывал прибыль, и что поэтому всякое усовершенствование, всякое уменьшение издержек производства, будь оно велико или мало, идёт в пользу заработной платы или прибыли, но никогда не идёт в пользу ренты. После того как образовался излишек прибыли, он может при дальнейшем развитии общества быть перенесён в ренту. 111. Стр. 208. «Следовательно, эта рента должна быть созданием технического мастерства и капитала, затраченных на землю, а не переносом из прибыли и заработной платы, существовавших почти сто лет назад». Кто говорит, что нынешняя рента переносится из прибыли и заработной платы, существовавших почти сто лет назад? Она может быть переносом из прибыли, существовавшей 10 лет, 5 лет или 3 года назад. Вопрос в том, является ли рента переносом из прибыли? В этом отделе есть много такого, с чем я согласен, но мне кажется, что г-н Мальтус старается увеличить расхождение между нами. 112. Стр. 211. «Г-н Рикардо, как я мельком упоминал раньше, развивает только простую и ограниченную точку зрения на прогресс ренты. По его мнению, он вызывается единственно повышением цены, возникающим в силу возросшей трудности производства». Не думаю, чтобы правильное изложение написанного мною подтвердило это обвинение. 113. Стр. 213. «Ссылаясь на это заявление <см. Д. Рикардо, Начала политической экономии и налогового обложения, т. I, стр. 62—64. — Ред. >, я отмечу, что если применение неизменного стандарта стоимости г-на Рикардо, естественно, приводит к употреблению такой терминологии, то чем скорее мы откажемся от стандарта, тем лучше, так как при исследовании природы и причин богатства народов эта терминология неизбежно должна вызывать постоянную путаницу и ошибки». Довольно странно, что г-н Мальтус очень часто пользуется тем самым стандартом, который он так отвергает; он неизменно говорит о падении ренты, росте прибыли и повышении заработной платы, подразумевая падение или рост денежной ренты, прибыли и заработной платы, причём стоимость денег он, конечно, предполагает неизменной. Так вот, если бы количество хлеба, производимое данным количеством труда, удвоилось (весьма нелепое предположение), цена его упала бы наполовину, и, следовательно, денежная рента землевладельца упала бы, если бы не удвоилось количество продукта, полученного им в виде ренты; прибыль капиталиста уменьшилась бы, если только он также не получил бы двойного количества продукта; и то же произошло бы с заработной платой рабочего, если бы его доля была меньше удвоенной. Что заработная плата понизилась бы в денежной стоимости, я ничуть не сомневаюсь, а главная выгода для капиталиста возникает именно из этого обстоятельства. Но землевладелец может на возросшее вдвое количество продукта купить большее количество труда, чем прежде. Да, может, но разве он нуждается только в труде? Может ли он на удвоенное количество хлеба купить больше железа, меди, золота, чая, сахара, шляп, экипажей, шёлка, вина и всяких других товаров? Ни одной частицей больше. И разве я не прав, говоря, что он получает не большую стоимость, хотя может получить двойное количество продукта? «Применяя эту терминологию к нашей стране, — говорит г-н Мальтус, — мы должны сказать, что рента значительно пала за последние сорок лет, потому что, хотя рента значительно увеличилась по своей меновой стоимости, т. е. за неё можно получить больше денег, больше хлеба, труда и промышленных изделии, всё-таки из отчётов, представленных в Департамент земледелия, явствует, что рента составляет теперь не больше одной пятой валового продукта, тогда как прежде она равнялась одной четвёртой или одной трети». Г-н Мальтус не прочитал с обычным для него вниманием того, что я говорил об этом предмете, иначе он не сказал бы прежде всего, что моя терминология «требует, чтобы мы говорили, что рента землевладельца упала и его интересы пострадали, когда он получает в виде ренты на три четверти больше сырого продукта, чем прежде». Если бы я оценивал богатство людей стоимостью их доходов, было бы некоторое основание для такого обвинения, но я употребил много стараний, чтобы объяснить свои взгляды и показать, почему, по моему мнению, будет вполне последовательно сказать, что богатство человека, т. е. количество предметов первой необходимости и удобств, которые он может купить, возросло и в то же время стоимость этого богатства могла понизиться. Кроме того, я никогда не утверждал, что, для того чтобы землевладельцы получали ренту той же стоимости, она должна всегда находиться в одном и том же отношении к стоимости валового продукта, полученного с земли, как можно было бы заключить из ссылки на отчёты Департамента земледелия. Я не говорю, что рента понизилась по стоимости, потому что она прежде составляла четвёртую или третью часть валового продукта, а теперь составляет только одну пятую. У меня есть ферма, с которой я получаю 360 квартеров пшеницы и плачу в виде ренты одну четверть, или 90 квартеров. Затратив больший капитал на землю низшего качества, при помощи того же количества труда вместо 360 квартеров можно получить только 340, а потому рента с земли, которая дала 360 квартеров пшеницы, поднимется с 90 до 110 квартеров; рента с этой определённой фермы будет составлять большую долю валового продукта, чем прежде, но из этого отнюдь не следует, что она составит большую долю всего валового продукта страны, ибо вместо одного капитала данной величины, затраченного на получение 340 квартеров, могут быть затрачены сто капиталов такой же величины. Возможно в таком случае, что валовой продукт увеличится на 34 тыс. квартеров, а рента увеличится только на 20 квартеров. Из того, что землевладелец получал четвёртую часть валового продукта и доля его увеличилась на всех ранее обрабатывавшихся землях, следует ли, что я обязан утверждать, будто рента составляет также большую долю всего валового продукта со всех земель страны? 114. Стр. 214. «Что касается труда, то мы должны сказать, что в Америке он дёшев, хотя до сих пор мы привыкли считать его очень дорогим при оценке как в деньгах, так и в количестве предметов первой необходимости и удобств, которые он может купить; и мы должны сказать, что труд дорог в Швеции, так как, хотя рабочий получает там низкую денежную заработную плату, на которую он может купить только немного предметов первой необходимости и удобств, тем не менее возможно, что при распределении валового продукта, получаемого тяжёлым трудом на малоплодородной почве, рабочим достаётся более значительная доля». Чтобы получить в Англии 180 квартеров пшеницы стоимостью в 700 ф. ст. с земли, поступившей в обработку последней, я могу нуждаться в труде 20 человек в течение года, уплачивая им по 10 шилл. в неделю, всего 520 ф. ст. в год. Получение того же количества пшеницы в Америке, где оно может быть продано за 600 ф. ст., может потребовать труда только 15 человек; заработная плата одного рабочего может равняться в Америке тоже 10 шилл., но фермер в Англии уплатил бы в год 520 ф. ст. заработной платы, а фермер в Америке — только 390 ф.ст. В одной стране (Англии) доля всего продукта, выплаченная рабочим, равняется 743/1000, в другой (Америке) — 650/1000. Хотя денежная заработная плата каждого рабочего одинакова, общая сумма выплаченной заработной платы в Англии больше и также больше доля в продукте. Примените это положение к Швеции, и вы найдёте, что оно вполне согласуется с моим принципом. 115. Стр. 216. «Г-н Рикардо сам категорически заявил, что вся сумма, получаемая от продажи земледельческого продукта сверх издержек его производства, составляет денежную ренту. Но, так как часто случается, что денежная рента повышается и что она в то же время обладает большей реальной меновой стоимостью, хотя составляет меньшую долю стоимости валового продукта с данной земли, из этого, очевидно, следует, что ни денежная рента, ни реальная рента не регулируются этой долей». Весьма вероятно, что моё объяснение вопроса о пропорциях было не так ясно, как следовало бы. Я постараюсь теперь это разъяснить. Предположим, что участок, последним поступивший в обработку, доставляет 180 квартеров хлеба при приложении данного количества труда и что вследствие повышения цены хлеба в следующем году поступит в обработку земля ещё более низкого качества, которая доставит только 170 квартеров. Если в этом году рабочий получит одну треть от 180 квартеров., а в следующем году — одну треть от 170 квартеров, я скажу, что его заработная плата в следующем году будет иметь такую же стоимость, как и в этом году, потому что все 170 квартеров в следующем году будут иметь такую же стоимость, как 180 квартеров в этом году, и, следовательно, половина, четверть или треть каждого из этих количеств будут также иметь одну и ту же стоимость. Когда я говорю об этом пропорциональном делении, я всегда применяю его или должен был бы применять его (и если я сделал иначе, то только по оплошности) к продукту, получаемому при помощи капитала, последним вложенного в землю, за которую не платится никакая рента. В действительности же рабочий получит от 170 квартеров более значительную долю, чем он получал от 180 квартеров, — он получит более значительную долю одинаковой стоимости, и именно поэтому я говорю, что его заработная плата повысилась. Каково бы ни было количество пшеницы, полученное при помощи капитала, последним вложенного в землю, оно будет иметь ту же стоимость, потому что это есть продукт того же количества труда. Большая доля этой равной стоимости должна сама представлять большую стоимость <в рукописи перечёркнут следующий текст: «Рента не есть доля полученного продукта — она не определяется, подобно заработной плате или прибыли, пропорциями, так как зависит от разницы между количествами продукта, полученными при помощи двух равных капиталов. Если я поэтому сказал где-нибудь, что рента повышается или понижается пропорционально тому, увеличивается или уменьшается получаемый продукт, я совершил ошибку. Я, однако, не помню, чтобы сделал что-либо подобное». — Прим. англ. ред.>. Моя мера стоимости — количество труда. Рента повышается только тогда, когда уплачиваемая сумма требует больше труда, чтобы создать ренту. 10 человек на плодородной земле могут произвести 180 квартеров, на менее плодородной земле — только 170; тогда, если 10 рабочих получают половину последнего количества, или 85 квартеров, они получают то, что может произвести труд 5 человек; 10 человек, производящих 180 квартеров, получают не больше; но 85 квартеров на этой земле производятся при помощи меньшего труда, чем труд 5 человек. Верно, но стоимость хлеба регулируется количеством, произведённым при помощи капитала, приложенного к земле наименее выгодно и в последнюю очередь. Преимущество, принадлежащее арендатору лучшей земли, носит отчасти характер монополии, и поэтому стоимость вознаграждения рабочего должна измеряться не количеством труда, требующимся для производства 85 квартеров на лучшей земле, но количеством труда, требующимся для производства того же количества хлеба на худшей земле. Г-н Мальтус говорит: «Даже по признанию г-на Рикардо усовершенствования в земледелии имеют тенденцию увеличивать долю валового продукта, идущего землевладельцу». Я не знаю, где я это сказал, но, если я впал в такую ошибку, я хочу её исправить, поставив употребляемое г-ном Мальтусом слово «часть» вместо слова «доля» или, если сохранить слово «доля», это должна быть доля продукта, полученного на более плодородных землях. 116. Стр. 216. «Вряд ли стоит повторять, что, говоря об интересах землевладельца, я подразумеваю всегда то, что я назвал бы его реальной рентой и его реальными интересами, т. е. возможность покупать труд, а также предметы первой необходимости и удобства, независимо от того, какую долю валового продукта может составлять рента и какого количества труда могла стоить часть продукта, составляющая ренту. Но на деле, даже по признанию г-на Рикардо, усовершенствования в земледелии имеют тенденцию в умеренный срок увеличивать долю валового продукта, идущего землевладельцу; таким образом, с какой бы точки зрения ни рассматривать предмет, мы вынуждены признать, что независимо от вопроса об импорте интересы землевладельца тесно и необходимо связаны с интересами государства». После того как г-н Мальтус так часто говорил, что я изображаю усовершенствования в земледелии вредными для интересов землевладельцев и на этом основываю своё утверждение, будто интересы землевладельцев противоположны интересам всех других классов общества, здесь он заявляет, будто я допустил, что усовершенствования в земледелии имеют тенденцию в умеренный срок увеличивать долю валового продукта, идущую землевладельцу. Почему же меня тогда обвинили в том, что я придерживаюсь иной доктрины? <В рукописи вслед за этим идёт неоконченный и перечёркнутый следующий текст: «Как я прежде заметил, г-н Мальтус, повидимому, не понимает, что я сказал о пропорциях, и поэтому важно, чтобы меня хорошо поняли по этому вопросу, Предположим, что я употребляю три равных суммы капитала последовательно на одной и той же земле и что цены повышаются. Я говорю, что, когда прилагается вторая сумма, уплачиваемая землевладельцу доля из количества, получаемого с первой, увеличивается, и он не получит никакой части второй. Когда прилагается третья сумма, он получит ещё более значительную долю количества, доставляемого первой, небольшую долю количества, доставляемого второй, и никакой доли из количества, доставляемого третьей. Хотя доля каждого полученного прежде количества увеличится, доля всего полученного количества, причитающегося землевладельцу, уменьшится. Предположим, что доставленное первым капиталом количество хлеба составило бы 1 800 квартеров, вторым — 1 780 и третьим — 1 760. Когда был вложен второй капитал, землевладелец получил бы в виде ренты 20 квартеров, или 1/90 количества, доставленного первым капиталом, но это составило бы только 1/179 всего продукта. Когда был вложен третий капитал, он получил бы 40 квартеров с N 1, или l/9, и 20 квартеров с N 2, или 1/17». Расхождения в цифрах частично объясняются исправлениями, не доведёнными до конца. — Прим. англ. ред.> 117. Стр. 217. «Никто никогда нс сомневался, что индивидуальные интересы фабрикантов шерстяных, шёлковых или льняных тканей могли бы пострадать от иностранной конкуренции; и мало кто станет отрицать, что ввоз большого числа рабочих содействовал бы понижению заработной платы. Поэтому даже при самом неблагоприятном отношении к этому вопросу мы не можем отделить положение землевладельца по отношению к ввозу от положения других классов общества». Здесь имеется следующее явное и важное различие: индивидуальные интересы фабрикантов шерстяных, шёлковых и льняных тканей могут пострадать от иностранной конкуренции, и фабриканты могут быть вынуждены перевести свои капиталы в другие отрасли промышленности, понеся при этом известные потери, но всё же у них остались бы капитал и доход не намного ниже прежнего. Рента собственников худших земель исчезла бы совсем, а рента собственников лучших участков значительно понизилась бы, если бы ввоз хлеба стал совершенно свободным. Не может быть большей ошибки, чем предположение, будто есть какая-либо аналогия между интересами землевладельцев и интересами фабрикантов, поскольку тех и других задевают ограничения ввоза сырья и промышленных изделий. Их интересы покоятся на совершенно различных основаниях. Каковы бы ни были ограничения ввоза, фабрикант не может получать в течение длительного времени больше, чем среднюю и обычную норму прибыли на свой капитал, и поэтому, если бы он мог легко перевести свой капитал из одной отрасли промышленности в другую, его потери от устранения ограничений импорта были бы незначительны. Но для землевладельца вопрос ставится так: будет ли существовать рента или нет, будет ли он владеть полезной машиной или совершенно бесполезной? Сходно положение не землевладельца и фабриканта, а фермера и фабриканта. Тут аналогия действительно полная. 118. Стр. 220. «Предположим, что капитал в 10 тыс. ф. ст. занят в торговле или в промышленности в течение двадцати лет, что он приносит 12% прибыли и что капиталист может в конце этого срока выйти из предприятия, удвоив свой капитал. Очевидно, чтобы создать такой же стимул для употребления такого капитала в земледелии, нужно, чтобы его владельцу были предложены такие же или почти такие же выгоды. Но, чтобы человек, вложивший капитал в арендованную землю, мог превратить свои 10 тыс. ф. ст. в течение двадцати лет в 20 тыс. ф. ст., он должен получать, несомненно, очень большую ежегодную прибыль, чтобы быть в состоянии вернуть ту часть своего капитала, которую он действительно вложил в землю и которую не может изъять из неё по окончании срока аренды; если же он ввёл существенные усовершенствования, по окончании арендного срока ему придётся оставить землевладельцу землю, которая будет приносить гораздо более высокую ренту, чем в начале срока, независимо от могущих произойти изменений в стоимости средств обращения. Но эта большая ежегодная прибыль, необходимая фермеру при временной аренде, чтобы он мог получить обычную прибыль с капитала, сохраняется, по крайней мере частью, в форме ренты по окончании срока аренды, и постольку от этого выигрывает государство». В данном случае г-н Мальтус несколько непоследователен. Он измеряет выгоду для государства денежной стоимостью и не пользуется, как следовало бы в данном случае, своей собственной мерой стоимости — хлебом и трудом. Предположим, г-н Мальтус мог бы доказать (что ему не удаётся), что, вложив данный капитал внутри страны в земледелие, мы получили такую же денежную прибыль, какую получили бы при помощи того же капитала, если бы ввоз хлеба был дозволен. Я мог бы ответить ему: «Если бы ввоз был разрешён и вы допустили бы, чтобы хлеб был дёшев, то, владея денежным капиталом того же размера, я мог бы дать работу гораздо большему числу рабочих, я мог бы также сделать то же самое при помощи того же денежного дохода; поэтому, не допуская свободного ввоза, вы лишили нас тех товаров, которые могло бы потребить это добавочное число рабочих». Этой устойчивой выгоде г-н Мальтус противопоставляет прочные усовершенствования, которые арендаторы вводят на арендуемых землях и которые они не могут взять назад, потому что эти усовершенствования надолго связаны с землёй. Можно сомневаться, принимается ли всегда в расчёт при заключении арендного договора ожидание этих ничтожных выгод и не составляют ли они в действительности части ренты землевладельца. Другие могут судить лучше, чем я, о размерах стоимости, оставляемой арендаторами в земле по окончании срока аренды. Я не расположен оценивать её очень высоко. Если принять за меру стоимости власть распоряжаться трудом, то стоимость должна зависеть от количества предметов первой необходимости, а не от их денежной стоимости. 119. Стр. 221. «В своём труде «Земледелие в Шотландии» сэр Джон Синклер подробно описал ферму в Восточном Лотиане, на которой рента составляет почти половину всего продукта, а рента и прибыль вместе дают ежегодно 56% на вложенный капитал. Но рента и прибыль, взятые вместе, представляют действительную меру богатства, извлекаемого нацией из вложенного таким образом капитала; а так как упомянутая ферма есть одна из тех, где применяется система севооборота, т. е. система, в которую в течение последних лет были внесены величайшие усовершенствования, то почти несомненно, что значительная часть этого прироста богатства была извлечена из капитала фермера, арендовавшего ферму до возобновления аренды, хотя этот прирост богатства для государства не мог побудить фермера сделать такое употребление из своего капитала». Думает ли г-н Мальтус, что самый свободный ввоз хлеба лишил бы нас хотя бы частицы того количества, которое мы получаем в настоящее время от этой фермы? Что касается возможности получения большей ренты с капитала, накопленного на ферме арендаторами, я не могу не относиться к этому предположению скептически. 120. Стр. 222. «Если бы во время войны не было создано никаких препятствий для ввоза иностранного хлеба и прибыль в земледелии составила бы только 10%, тогда как прибыль в торговле и промышленности равнялась 12%, в результате этого капитал притекал бы, конечно, в торговлю и промышленность; и если мы, как всегда, измеряем интересы государства интересами отдельных лиц, такое направление капиталов было бы более выгодно, поскольку пропорция составила бы 12 к 10». Здесь опять оцениваются денежные прибыли, а я требую, чтобы в обоих случаях денежная прибыль была сведена к власти распоряжаться трудом и товарами. Я хочу знать не то, сколько стоимости могли бы мы получить в обоих случаях, а то, какое богатство мы могли бы получить, какие возможности для счастья общества! 121. Стр. 223. «И, действительно, такие ограничения <ввоза хлеба. — Ред.> не только могут, но и должны вызывать подобные последствия <содействовать росту богатства и населения. — Ред.> всегда, когда спрос на отечественный хлеб таков, что прибыли на капиталы, вложенные в обработку новых земель, в соединении с порождаемой ими рентой приносят по отношению к занятому капиталу доход в гораздо большем размере, чем доход с капиталов, занятых в торговле и промышленности; в этом случае, хотя, при отсутствии ограничений ввоза, можно было бы купить иностранный хлеб по денежной цене более низкой, чем цена отечественного хлеба, его нельзя было бы купить с такой малой затратой капитала и труда, а именно это и есть действительное доказательство выгодного употребления капиталов». Это верно, если оценка производится в доходах, выраженных в хлебе, а не в деньгах. Единственный важный вопрос в действительности заключается в том, можем ли мы покупать хлеб с наименьшими издержками капитала и труда внутри страны или за границей. Мы должны судить об этом только путём сравнения количества хлеба, которое мы можем ввозить при помощи данного капитала, и того количества, которое мы можем вырастить при помощи равного капитала. Мы должны судить не по денежной стоимости, а по количеству продукта. Мы можем придать любой вещи высокую денежную стоимость, сделав эту вещь редкой. 122. Стр. 223. «Если бы следствием ограничений ввоза неизбежно было увеличение количества труда и капитала, требуемых для производства хлеба, было бы, конечно, невозможно защищать их ни на одно мгновение, если иметь в виду богатство и производительную силу страны». Только потому, что ограничения имеют такие последствия, на них нападают. Может ли кто-нибудь сомневаться, что они приводят к таким последствиям? Их влияние в других сферах — вопрос совершенно иной. Признаюсь, что и в других сферах соображения в пользу ограничений ввоза очень мало состоятельны с моей точки зрения. 123. Стр. 223—224. «Но если бы прогресс богатства был не замедлен ограничениями ввоза иностранного хлеба, а ускорен вследствие того, что за данное количество капитала и труда внутри страны было куплено большее количество сырья по сравнению с тем, что могло быть куплено за то же количество капитала и труда за границей, то очевидно, что рост населения должен был бы не замедлиться, а ускориться; и, конечно, необычайно быстрый рост населения, как известно, имевший место в течение последних десяти или пятнадцати лет войны по сравнению со средней цифрой за столетие, в сильной степени подтверждает этот вывод». Если это действительно допустить, то вывод следует сам собой. 124. Стр. 224. «Высказанное здесь положение <см. цитату со стр. 223—224 в примечании 123. — Ред.> может вызвать некоторое изумление, но читатель поймёт, насколько ограничен его смысл». У меня оно также вызывает изумление, и я его считаю совершенно необоснованным. 125. Стр. 225. «Я говорю о меновой стоимости и норме прибыли, а не об изобилии удобств и предметов роскоши». Если бы это было так, если бы вы даже доказали ваше положение, оно не имело бы никакого влияния на нашу практику. Мы мало заботимся о том, какова может быть номинальная меновая стоимость наших товаров (и я сказал бы: или их реальная стоимость); мы заботимся о том, чтобы у нас было изобилие удобств и предметов роскоши. Тогда, если каждое сказанное вами слово верно, мы выступаем за неограниченную хлебную торговлю, если она должна доставить нам стоимость (безразлично — высокую или низкую), которая даст нам изобилие удобств и предметов роскоши. Но я снова спрашиваю, что стало с рекомендуемой г-ном Мальтусом мерой реальной меновой стоимости; нам говорили, что она предполагает известное количество предметов первой необходимости и удобств и что реальная меновая стоимость вещей повышается или падает, смотря по тому, продаются ли они за большее или меньшее количество предметов первой необходимости и удобств; затем, так как предположено было, что на известное количество предметов первой необходимости и удобств всегда можно было бы купить известное количество труда (а труд выбран был мерой стоимости), пришлось внести другую поправку, так как было признано, что стоимость труда изменчива. Было желательно ввести в качестве мерила стоимости другой товар, который также был признан изменчивым, но изменчивым в ином направлении, и потому изменение одного корректировало бы изменение другого: средняя между обоими, сказано было, даёт нам неизменную меру стоимости, и соответственно окончательной мерой реальной меновой стоимости была признана средняя между хлебом и трудом. Нужно признаться, что до сих пор на неё ссылались не часто, и в нынешней дискуссии от неё, повидимому, совершенно отказываются, потому что нам говорят, что речь идёт о меновой стоимости, а не об изобилии удобств и предметов роскоши. Мы решительно не представляем себе, что здесь подразумевают под меновой стоимостью. Это не может быть хлеб и труд, потому что, как я только что показал, считают, что они имеют тот же характер, что и удобства и предметы роскоши. Я сильно подозреваю, что подразумевается именно отвергнутая денежная стоимость; если это так, г-н Мальтус должен согласиться со мной, что есть очень отчётливое различие между стоимостью и богатством: стоимость зависит от издержек производства, богатство — от изобилия продуктов. О Т Д Е Л Д Е С Я Т Ы Й 126. Стр. 227—228. «Весьма странно, что до сих пор недостаточно понята и оценена очень большая выгода, извлекаемая обществом из прибавочного продукта в земледелии, который с прогрессом общества переходит в форме ренты преимущественно к землевладельцу. Я назвал этот прибавочный продукт даром провидения и твердо убеждён, что он во всех отношениях заслуживает этого названия. Но у г-на Рикардо есть следующие слова: «Нам часто говорят о преимуществах земли перед всеми другими источниками полезных продуктов ввиду того избытка, который она даёт в форме ренты. Но, когда земля имеется в особенном изобилии, когда она наиболее производительна и наиболее плодородна, она не даёт вовсе ренты, и только тогда, когда её производительная сила падает и труд на ней приносит меньше, часть первоначального продукта более плодородных участков обособляется в качестве ренты. Замечательно, что особенным преимуществом земли выставляется как раз то свойство её, которое должно было бы считаться её недостатком сравнительно с естественными факторами, которыми пользуются фабриканты. Если бы воздух, вода, упругость пара и давление атмосферы были неоднородны по своим качествам, если бы они могли быть обращены в собственность и каждый разряд имелся бы только в ограниченном количестве, то и они, подобно земле, давали бы ренту по мере использования низших разрядов. С каждым переходом к низшему разряду стоимость товаров в той отрасли, где он-применяется, повышалась бы потому, что то же самое количество труда давало бы менее продукта. Человек трудился бы больше в поте лица своего, природа выполняла бы меньше, и земля не славилась бы больше ограниченностью своей производительной силы. Если прибавочный продукт, который земля даёт в форме ренты, есть преимущество, то желательно, чтобы с каждым годом вновь сооружённые машины были менее производительны, чем старые. Ведь это, несомненно, сообщило бы большую меновую стоимость товарам, производимым не только с помощью этих машин, но и всех других машин в стране, и всем владельцам более производительных машин платилась бы рента» <Д. Рикардо, Начала политической экономии и налогового обложения, т, I, стр. 71. — Ред.>. Когда речь идёт о даре провидения, мы должны, несомненно, говорить о его стоимости в отношении к основным законам и характеру природы и к законам мира, в котором мы живём. Но если кто-либо возьмёт на себя труд сделать подсчёт, то убедится в следующем: если бы можно было получать предметы первой необходимости без всяких ограничений и численность населения могла бы удваиваться каждые 25 лет, то потомства одной единственной четы с начала христианской эры было бы достаточно, чтобы не только переполнить земной шар так, чтобы на каждом квадратном ярде помещались 4 человека, но и заселить все планеты нашей солнечной системы и не только их, но и все планеты, вращающиеся вокруг звёзд, видимых невооружённым глазом... Согласно этому закону народонаселения, который, как я твердо верю, наиболее подходит природе и положению человека (как бы он ни казался преувеличенным при таком изложении), вполне очевидно, что должен существовать какой-нибудь предел для производства продовольствия и некоторых других предметов первой необходимости. Без коренного изменения сущности человеческой природы и положения человека на земле предметы первой необходимости никогда не смогут доставляться в таком же изобилии, как воздух, вода, упругость пара и давление атмосферы. Нелегко представить себе дар, более гибельный, более пригодный для того, чтобы ввергнуть человеческий род в безнадёжную нищету, чем неограниченная лёгкость производства пищи на ограниченном пространстве. Благодетельный создатель, знающий потребности и нужды своих созданий в силу законов, которым он их подчинил, не пожелал дать все предметы первой необходимости в таком же изобилии, как воздух и воду. Это сразу показывает, почему пища существует только в ограниченных количествах, тогда как вода и воздух предоставлены без ограничения. Но если допустить, как и следует, что ограничение возможности производить пищу, очевидно, необходимо для человека, связанного ограниченным пространством, тогда стоимость фактически полученного им количества земли зависит от малого количества труда, необходимого для её обработки, по сравнению с числом людей, которых она будет содержать — или, другими словами, от того определённого прибавочного продукта, который так сильно недооценивается г-ном Рикардо и который в силу законов природы находит своё завершение в ренте». Я не согласен, чтобы в труде по политической экономии вопрос рассматривался таким образом. Дар велик или мал соответственно тому, больше он или меньше, а не соответственно тому, более или менее он полезен в нравственном отношении. Для здоровья моего друга может быть лучше, если я ограничу его одной пинтой вина в день, но стоимость моего дара будет больше, если я даю ему бутылку в день. Вопрос не в том, думал ли создатель о нашем действительном счастье, ограничивая производительные силы земли, а в том, действительно ли он их таким образом ограничил и в то же время дал нам беспредельные запасы воды, воздуха и не поставил никаких границ для использования нами атмосферного давления, упругости пара и многих других услуг, оказываемых нам природой. Г-н Мальтус говорит, что я недооцениваю определённый прибавочный продукт, который в силу законов природы находит своё завершение в ренте. В начале того самого параграфа, в котором встречается это замечание, против меня выдвигается обвинение, что я не удовлетворён плодотворной силой природы, потому что она не безгранична, как многие другие дары природы, и г-н Мальтус делает вывод, что я недооцениваю всю плодотворную силу земли. Короче, я сетую, что она не даёт достаточно того, что г-н Мальтус справедливо называет прибавочным продуктом, и в то же время укоряю её в том, что она даёт больше, чем это полезно. Против двух таких противоречивых обвинений я не могу защищаться, а так как я признаю себя виновным только в одном, то мало скажу о другом. Позвольте мне раз навсегда заявить, что источником, из которого мы получаем всё, чем владеем, я считаю способность земли доставлять прибавочный продукт. Пропорционально этой способности мы пользуемся досугом для учения и получения тех знаний, которые придают жизни её достоинство. Без этого у нас не было бы ни ремесла, ни промышленности, и всё наше время было бы посвящено добыванию пищи, чтобы поддерживать жалкое существование. Только потому, что плодотворные силы земли в других странах больше, чем те, с помощью которых мы должны добывать средства к жизни, я стал бы обращаться к этим странам и согласился бы ввозить хлеб потому, что, поскольку получению пищи было бы посвящено меньше труда, больше можно было бы употреблять его на получение других благ. По отношению к другому пункту я с уверенностью повторяю, что рента обязана своим существованием границе, которую природа поставила для своих даров, а не их неограниченным размерам. Если бы не было никаких границ плодородию, если бы последовательные вложения капитала были одинаково производительны, не порождалось бы никакой ренты. «Но земля не могла бы выдержать населения, которое могло бы народиться при таких условиях!» Я не отрицаю этого, и наблюдения не опровергают ни одного из моих заключений. Верно или неверно моё положение? Неверно, говорит г-н Мальтус. Чем вы это докажете? Дар был бы гибельным, и человеческий род погрузился бы в безнадёжную нищету. Так вот, я спрашиваю, ответ ли это? Если бы я роптал на провидение и укорял бы природу в недостатке щедрости, г-н Мальтус мог бы показать, что моё обвинение неосновательно и неразумно. Но делал ли я это? Несомненно, нет. Я сказал только, что если бы природа не ограничила свой дар, не было бы никакой ренты, а г-н Мальтус в ответ мне замечает, что ему кажется чрезвычайно странным, что я не вполне понимаю и признаю очень большую выгоду, извлекаемую обществом из прибавочного продукта в земледелии, который в ходе развития общества достаётся главным образом землевладельцу в форме ренты. Так вот, я смиренно утверждаю, что он не привёл ни одного факта, ни одного аргумента, чтобы показать, что я либо не понял, либо не признал этого. 127. Стр. 229. «Если бы промышленные изделия благодаря различию в производительности машин, согласно предположению г-на Рикардо, приносили ренту, человек, по его словам, больше работал бы в поте лица своего; и, предполагая, что он всегда получал бы одинаковое количество продуктов (что, однако, невозможно), он трудился бы тем больше, чем больше была бы созданная таким образом рента. Но избыток, приносимый данной площадью земли в форме ренты, совершенно иной. Вместо того чтобы быть мерой прироста труда, необходимого для производства того количества хлеба, какое земля может дать, он в конечном счёте представляет точную меру облегчения труда в производстве пищи, предоставленного благим провидением». Это верно, но не получится ли то же самое, если вы уменьшите плодородие земли и таким образом увеличите ренту? Разве увеличение труда человека не будет в этом случае также пропорционально величине созданной таким образом ренты? Но вы можете увеличить ренту, повысив плодородие земли, и то же самое вы можете сделать в предположенном случае с машинами, увеличив их производительную силу и увеличив разницу между производительной силой разных машин. «Рента в конечном счёте представляет точную меру облегчения труда в производстве пищи, предоставленного благим провидением!» Г-н Мальтус может называть это так, если ему угодно, но разве действительное облегчение не было большим, если бы земля была более плодородной? Не понизится ли рента, если дар станет более щедрым? Но представляет ли рента точную меру облегчения труда в производстве пищи? Я отрицаю это. Прибавочный продукт налицо, но рента и прибавочный продукт означают не одно и то же. Прибавочный продукт в Америке по отношению к населению больше, чем у нас. Выше ли там рента? Г-н Мальтус не скажет, что она выше. Прибавочный продукт в Америке проявляется главным образом в прибыли и в высокой заработной плате и в этой форме гораздо больше способствует всеобщему процветанию, чем если бы он проявился в форме ренты. 128. Стр. 230. «... Он <Рикардо. - Ред.> возражает против высказывания Адама Смита, что в странах, где основной культурой является рис, землевладельцу должна принадлежать более значительная часть продукта, чем в странах, где возделывается преимущественно хлеб, и что в Англии рента повысилась бы, если бы вместо хлеба любимой пищей народа стал картофель. Г-н Рикардо не мог не признать, и действительно признал, что в обоих случаях рента должна в конечном счёте повыситься. Но вслед за этим он предполагает, что это изменение должно произойти немедленно, и ссылается на временное следствие прекращения обработки земли». И всё-таки «г-н Рикардо слишком недооценивает определённый прибавочный продукт, который в силу законов природы находит своё завершение в ренте». Согласуются ли между собой эти два высказывания? 129. Стр. 230. «Однако даже при таком предположении все оставленные без обработки земли будут снова обработаны в гораздо меньшее время, чем потребовалось бы при естественном ходе вещей для понижения цены труда до уровня, необходимого для поддержания только стационарного населения. Поэтому, поскольку г-н Рикардо имеет в виду постоянные и окончательные результаты, которые он рассматривает главным образом на всём протяжении своего труда, он должен был бы признать правильность утверждений Адама Смита». Действительно ли мало времени потребуется, чтобы «при естественном ходе вещей» понизить цену труда до уровня, необходимого для поддержания только стационарного населения? 130. Стр. 231. «В большей части Европы, вероятно, хлеб никогда нельзя будет заменить рисом... для этого потребовались бы большие подготовительные работы по орошению... Доктор Бьюкенен... говорит, что в орошаемых местностях ниже Гатса правительство обычно взимает в свою пользу две трети урожая. Такую ренту, вероятно, никогда не могли бы приносить земли, занятые под пшеницей, и я почти уверен, что в тех районах Индии и в других странах, где действительно произошёл переход от культуры пшеницы к культуре риса, рента значительно повысилась не только в конечном счёте, но что она возрастала даже в самом процессе этого перехода». Иначе говоря, прибавочный продукт очень сильно увеличился, и правительство обложило его более высоким налогом, но это не то, что повышение ренты. Если бы налоги были снижены, не понизилась ли бы цена продукта? Если вы скажете, что цена понизилась бы, то это значит, что в форме налога отбирается не только вся рента, но также и часть прибыли, которая в дальнейшем перекладывается на потребителя в повышенной цене продукта. 131. Стр. 232. Сначала выгода пойдёт в пользу прибыли, а затем в пользу ренты. Срок, в течение которого будет происходить этот процесс, зависит от возрастания населения и от последующего спроса на увеличенное количество сырья, которое может быть доставлено <это вывод, сделанный Рикардо из маленького экскурса, который Мальтус посвятил вопросу о следствиях введения культуры картофеля в Ирландии, поскольку это повлияло на изменение прибыли и ренты. Рикардо ограничился этим выводом и не привёл никакой цитаты. — Ред.>. 132. Стр. 233. «И я убеждён, что, если мы будем беспристрастны в своих сравнениях, т. е. если мы будем сравнивать страны, условия которых сходны как в отношении площади, так и в отношении вложенного в землю капитала, а это, очевидно, единственный беспристрастный способ сравнения, мы найдём, что рента будет пропорциональна естественному или искусственному плодородию почвы». Г-н Мальтус часто отсылает меня к Южной Америке, чтобы показать мне, что некоторые из моих выводов не согласуются с фактами. Едва ли, однако, будет правильно ссылаться на эту страну, чтобы показать, что при очень плодородной земле рента низка <в рукописи это примечание вычеркнуто целиком. — Прим. англ. ред.>. 133. Стр. 233. «Если бы естественное плодородие нашего острова было вдвое выше, чем в настоящее время, а народ был бы столь же трудолюбив и предприимчив, то, согласно любой правильной теории, страна была бы теперь вдвое богаче и населённее, а рента была бы выше нынешней более чем вдвое». Никто не отрицает естественную и обычную, но не необходимую связь между рентой и плодородием. 134. Стр. 234. «Можно сказать, что плодородие земли, будь оно естественным или искусственным, есть единственный источник неизменно высокой прибыли на капитал. Если бы страна была исключительно промышленной и торговой и покупала бы весь нужный ей хлеб по цене европейских рынков, абсолютно невозможно, чтобы прибыль на её капитал была высокой в течение долгого времени». Норма прибыли в такой стране, как и норма прибыли во всех странах, зависела бы от количества труда, необходимого для обеспечения заработной платы рабочего. Если цена хлеба низка сравнительно с ценами всех других предметов, на которые покупается хлеб, прибыль, естественно, будет высока независимо от того, возделывает ли страна сама свой хлеб или ввозит его. Подлинная дешевизна хлеба, его низкая трудовая цена, является действенной причиной высоких прибылей, независимо от того, получается ли она непосредственно от обработки земли или благодаря ввозу. Без дешевизны хлеба, т. е. без большого прибавочного продукта, получаемого в обмен на труд, прибыли не могут быть высоки. Но и при дешевизне хлеба они могут не быть высоки, потому что положение рабочего может случайно оказаться таким, при котором он сможет взять себе большую долю этого прибавочного продукта, иначе говоря, он сможет получать высокую заработную плату. 135. Стр. 234. «В более ранние периоды истории, когда крупные капиталы встречались крайне редко и были сосредоточены в небольшом числе городов, возникавшая благодаря этому монополия в некоторых отраслях торговли и промышленности имела тенденцию удерживать прибыль на высоком уровне в течение более длительного времени; некоторые государства, бывшие почти исключительно торговыми, несомненно, достигли огромных и блестящих результатов». У этих государств не было полной монополии; между гражданами существовала конкуренция — одни могли продавать дешевле других, и, следовательно, они должны были снижать цену своих товаров до издержек их производства, или естественной цены. 136. Стр. 234. «Известно, что ни одно торговое и промышленное государство, каково бы ни было превосходство его промышленности, не может в современный период постоянно получать прибыль более высокую, чем средний уровень прибыли в остальных странах Европы. Между тем капиталы, с успехом применяемые на землях умеренно хорошего качества, могут постоянно, и не опасаясь перерывов или препятствий, приносить иногда 20%, иногда 30 или 40, а иногда даже 50 или 60%». Потому, что в этих странах не было больших различий в цене хлеба, выраженной в труде, или же потому, что рабочие в некоторых странах оплачивались лучше, чем в других. 137. Стр. 235. «При сравнении двух стран, располагающих одинаковыми. капиталами и получающих одинаковую норму прибыли, из которых одна владеет достаточной площадью земли, чтобы производить для себя хлеб, а другая вынуждена покупать хлеб за границей, вполне очевидно, что страна, обладающая достаточным количеством земли, особенно если последняя плодородна, должна быть гораздо богаче, населённее и иметь в своём распоряжении более крупный доход, подлежащий обложению». Мы говорим: если бы хлеб ввозился в Англию по низкой цене, прибыль была бы очень высока. Мы говорим, что существующая рента, и всякая рента, некогда составляла прибыль и поэтому должна быть вычетом из последней. Г-н Мальтус отвечает: если бы прибыли были одинаковы, а вы ввозили бы хлеб, вы были бы, очевидно, беднее на сумму, равную всей вашей ренте. Это верно, если бы прибыли были одинаковы, но именно это и составляет предмет спора. 138. Стр. 236. «Другая чрезвычайно желательная выгода от плодородной почвы заключается в том, что страны, наделённые такой почвой, могут не обращать слишком много внимания на наиболее прискорбные и печальные для всякого друга человечества вопли — например, на вопли промышленников и торговцев, требующих снижения заработной платы, чтобы найти рынок для своих экспортных товаров. Если же страна может стать богатой только при условии, что она выигрывает в гонке за снижение заработной платы, я был бы склонен сразу сказать: да погибнет такое богатство!» И я также. Мы желаем, чтобы рабочий был вполне обеспечен, и утверждаем, что путь для достижения этого заключается в том, чтобы снизить выраженную в труде цену основного товара, который он потребляет. Г-н Мальтус говорит, что страна, покупающая основную часть своего продовольствия у иностранцев, осуждена на тяжёлую альтернативу платить своим рабочим классам самую низкую заработную плату. Это значит уклоняться от вопроса. Мы отвечаем: это должно зависеть не от того обстоятельства, что она покупает нужное ей продовольствие, а от условий, на которых страна покупает продовольствие; ни одна страна не станет покупать продовольствие за границей, если она может купить его дешевле внутри страны. 139. Стр. 236. «Отказ от того незначительного прироста продуктов и населения, который был бы результатом обработки плохих земель, в обширной и плодородной стране означал бы лёгкую и незаметную жертву, тогда как благо, которое проистекло бы из этого для большой массы населения, было бы неоценимым». Почти всякий народ мог бы быть счастлив на любой территории, если бы он достаточно развил привычку к воздержанию и ограничил бы численность населения в соответствии с теми припасами, которые легко произвести. 140. Стр. 236. «Привычка к воздержанию у рабочих классов страны, зависящей главным образом от промышленности и торговли, могла бы её разорить, но в стране с плодородной почвой такая привычка была бы величайшим из возможных благ». Это совершенно новая доктрина — у меня будут другие случаи исследовать, правильна ли она. 141. Стр. 237. «Согласно г-ну Рикардо, в ходе общественного развития не только каждый индивидуальный капитал будет доставлять постоянно уменьшающийся доход, но будет также уменьшаться весь доход, доставляемый прибылью; и, бесспорно, рабочий вынужден будет затрачивать большее количество труда, чтобы произвести ту часть своей заработной платы, которая должна быть израсходована на покупку предметов первой необходимости». Г-н Мальтус цитирует меня неправильно: я сказал, что так будет в том случае, если вы вынуждены прибегать к худшей земле, чтобы кормить возрастающее население — следствие накопления вашего капитала; но я прибавил, что этого не будет, если вы можете получать дешёвый хлеб из-за границы и действительно получите его. По моему плану к ренте ничто не перейдёт ни из прибыли, ни из заработной платы; запретите ввоз, и некоторая часть прибыли и заработной платы перейдёт к ренте, в то время как фактический продукт будет меньше. «Обратите внимание на выгоду возделывания хлеба в сравнении с ввозом его, — говорит г-н Мальтус. — С развитием капитала прибыль и заработная плата будут падать, но, если вы будете возделывать свой собственный хлеб, рента компенсирует вас за эту потерю». Я отвечаю: откажитесь от возделывания собственного хлеба, прибыль не упадёт, и вы не будете желать неадэкватной компенсации за потерю, которой вы не понесёте. Едва ли справедливо цитировать меня, чтобы показать, что прибыль упадёт независимо от того, будете ли вы ввозить или возделывать хлеб. 142. Стр. 239. «Итак, с какой бы точки зрения ни рассматривать предмет, то свойство земли, которое, по законам нашего бытия, должно вести к ренте, может считаться важнейшим благодеянием для человеческого рода; и я убеждён, что значение этого благодеяния может быть недооценено только теми, кто всё ещё заблуждается относительно его сущности и его влияния на общество». Существует прибавочный продукт в земледелии, из которого берутся прибыль и рента. Я держусь мнения, что интересам общества лучше всего способствует разрешение свободного ввоза хлеба, последствием которого будет то, что прибавочный продукт с земли, обрабатываемой в стране, будет поделён в пропорциях, более благоприятных для фермера и капиталиста и менее благоприятных для землевладельца. Г-н Мальтус, повидимому, расходится со мной во мнениях, но вместо того, чтобы показать, что общество выиграет, отнимая часть прибавочного продукта у капиталиста и отдавая её землевладельцу, он рассматривает ренту как чистый выигрыш и обвиняет меня в том, что я недооцениваю её стоимость, потому что не соглашаюсь признать, что прибавочный продукт возрастает или уменьшается с повышением или падением ренты. Примечания к Главе четвертой. О заработной плате рабочихОтдел первый. О зависимости заработной платы от спроса и предложения О Т Д Е Л П Е Р В Ы Й 143. Стр. 241. «Чтобы показать, что то, что можно назвать издержками воспроизводства рабочей силы, влияет на заработную плату лишь постольку, поскольку эти издержки регулируют предложение труда, достаточно обратить наше внимание на те случаи, когда под влиянием временных обстоятельств издержки производства не регулируют предложения труда; в этих случаях мы всегда найдём, что издержки производства немедленно перестают регулировать цены». Во многих частях труда г-на Мальтуса подчёркивается это мнение по отношению к товарам, но мне неизвестно, кто ставил эту точку зрения под вопрос. Естественная цена есть только иное название для издержек производства; пока товар будет продаваться на рынке по своей естественной цене или выше её, он будет предлагаться на рынке; следовательно, издержки производства регулируют предложение. Г-н Мальтус говорит, что спрос в сравнении с предложением регулирует цену <в первоначальной редакции в рукописи: «что спрос регулирует предложение». — Прим. англ. ред.> и издержки производства товара регулируют предложение. Это спор о словах — всё, что регулирует предложение, регулирует и цену. 144. Стр. 245. «Адам Смит обычно ссылался на принцип спроса и предложения в подобных случаях <различная цена труда в разных профессиях. — Ред.>, но иногда забывал его: «...Если какой-либо вид труда, — говорит он, — требует особенного искусства и ловкости, то уважение, с которым люди относятся к таким способностям, придаёт их продукту большую стоимость, чем это соответствовало бы времени, затраченному на него <см. Адам Смит, Исследование о природе и причинах богатства народов, т. I, М. 1935, стр. 45. — Ред.>». Иначе говоря, это заставит людей согласиться на более высокую оплату такого продукта, но стоимость последнего будет регулироваться не этим согласием, а предложением продукта, в свою очередь зависящим от интереса, который будет толкать родителей на то, чтобы они передали детям это искусство и умение и были готовы пойти на требующиеся для этого издержки. Если бы рабочим было легко доставлять своим детям это искусство с небольшими издержками, стоимость его была бы незначительной, как бы высоко его ни уважали. О Т Д Е Л В Т О Р О Й 145. Стр. 247. «Г-н Рикардо называет естественной ценой труда ту цену, «которая необходима, чтобы рабочие имели возможность существовать и продолжать свой род без увеличения или уменьшения их числа» <Д. Рикардо, Начала политической экономии и налогового обложения, т. I, стр. 85. — Ред.>. Я расположен, наоборот, называть эту цену наименее естественной, так как при естественном порядке вещей, т. е. когда не существует больших препятствий для роста богатства и населения, такая цена не может вообще установиться в течение сотен лет». Я дал это определение, чтобы у нас мог быть общий язык для применения ко всем аналогичным случаям. Под естественной ценой я подразумеваю не обычную цену, но такую, какая необходима, чтобы постоянно удовлетворять данный спрос. Естественная цена хлеба есть цена, по которой он может доставляться при обычной норме прибыли. При всяком спросе на большее количество хлеба рыночная цена его поднимется выше естественной цены, и, вероятно, она никогда не бывает равна естественной цене, а бывает или выше, или ниже её; то же можно сказать о естественной цене труда <последнее предложение имело в рукописи первоначально следующую редакцию: «При всяком спросе на большее количество хлеба рыночная цена поднимется выше естественной цены; поэтому, если капитал и население регулярно растут, рыночная цена может в течение многих лет превышать естественную цену. Однако я очень мало озабочен тем, чтобы отстаивать своё определение естественной цены труда. Для моих целей это так же хорошо сделает г-н Мальтус». — Прим. англ. ред.>. О Т Д Е Л Т Р Е Т И Й 146. Стр. 258. «Если понижение <цен на сырье. — Ред.> значительно и если уменьшение стоимости сырья не компенсируется увеличением количества, без работы окажется так много рабочих, что заработная плата, после периода больших бедствий, понизится в общем в той же пропорции». Могут ли цены на сырьё упасть иначе, чем вследствие увеличения предложения, уменьшения спроса или снижения издержек производства? Если цены снизятся от уменьшения спроса, это значит, что рабочие, видимо, остались без работы ранее, чем это произошло, и отсутствие у них работы нельзя приписать этой причине. Если предложение сырья увеличится без какого-либо сокращения предложения других товаров, это не может понизить способность страны в целом дать рабочим работу, а, наоборот, должно её повысить. Это может уменьшить платёжеспособность фермера, так как он должен платить денежную ренту, и, следовательно, при возросшем количестве продукта после уплаты ренты он сможет купить меньше труда. Но если у фермера будет меньше, кто-то должен получить больше. Рента, которая перешла к землевладельцу, дала бы фермеру возможность нанимать больше рабочих. Если у капиталистов сохранился прежний денежный капитал <в первоначальной редакции: «прежняя денежная прибыль». -- Прим. англ. ред.>, они могли бы на ту же сумму денег в случае падения заработной платы нанять больше рабочих, и всё же положение рабочих было бы лучше, чем прежде. Если денежная заработная плата не понизилась, спрос на труд всё же увеличился бы, так как на ту же денежную заработную плату можно было бы купить больше продовольствия и других товаров, и, следовательно, это создаст для рабочих больший стимул. Даже если бы не требовалось ничего другого, понадобилось бы больше мельников для размола зерна, больше пекарей для выпечки хлеба и больше поваров для изготовления пирожных. Если бы издержки производства хлеба снизились, цена его понизилась бы без увеличения предложения, но в стране потребовалось бы не меньше рабочих, так как пропорционально тому, насколько меньше труда было бы затрачено на производство хлеба, настолько же больше его было бы затрачено на производство других вещей. 147. Стр. 258. «Но если понижение цен на сырьё происходит только постепенно и если снижение меновой стоимости сырья частично компенсируется увеличением его количества, денежная заработная плата в общем не обязательно понизится; следствием будет только слабый спрос на рабочие руки, быть может, не настолько слабый, чтобы оставить без работы уже работающих, но достаточно слабый, чтобы помешать сдельной работе или сократить её, чтобы препятствовать найму женщин и детей и чтобы создать недостаточный стимул для подрастающего поколения рабочих. В этом случае количество предметов первой необходимости, которое фактически зарабатывает своим трудом рабочий и его семья, может быть в действительности меньше, чем тогда, когда, в силу повышения цен, на дневной заработок рабочего можно купить меньшее количество хлеба; хотя кажется, что в первом случае рабочие будут иметь большую возможность покупать предметы первой необходимости, в действительности она будет меньше, чем во втором случае, и поэтому согласно всем общим принципам это должно оказать меньшее влияние на рост населения». Если это означает, что одно только понижение цены предметов первой необходимости не есть само по себе причина возрастания спроса на труд и действительного улучшения положения рабочего по сравнению с прежним, с этим нельзя спорить, потому что деньги могут измениться в стоимости, а предложение хлеба может в то же время уменьшиться. Денежная цена хлеба упадёт, но денежная цена труда <в рукописи первоначально: «денежная цена заработной платы».— Прим. англ. ред.> упадёт ещё больше. Если деньги не изменяются в стоимости, то падение денежной цены хлеба должно быть для рабочего благоприятно. Оно может быть вызвано только изобилием, а это изобилие либо должно быть временным, например вследствие случайной хорошей погоды, или должно быть результатом более постоянной причины, следствием более дешёвого способа производства. Временное изобилие в силу очень хорошего урожая не благоприятно для фермера <в рукописи вычеркнуто «для капиталиста». — Прим. англ. ред.>, но благоприятно для всех других классов. Фермер может получить меньший доход, и даже его капитал уменьшится, потому что его обязательства по отношению к землевладельцу выражены в деньгах, а очень обильный урожай будет стоить в денежном выражении меньше, чем скудный. Землевладелец получит не больше денежной ренты, но цена хлеба, потребляемого им и его семьёй, и зерна, идущего на корм лошадям и скоту, будет ниже, и он выиграет на разнице в цене. Если заработная плата понизится, промышленники выиграют, так как они получат возросшие прибыли, а также будут пользоваться при расходовании их теми же выгодами, какие получают землевладельцы. Даже фермер получит некоторую компенсацию, так как будет платить более низкую заработную плату. Если заработная плата не упадёт, рабочие будут иметь более широкие возможности пользоваться благами; поскольку основная статья расхода уменьшится, они смогут истратить на другие предметы или сберечь разницу между суммой, которую они прежде расходовали на хлеб, и суммой, которая требуется для этой цели теперь. Если они сберегают столько же, сколько теряет фермер, общество не станет беднее, чем прежде, и даже при прежней средней цене хлеба в будущем будет предъявлен спрос на такое же количество труда. Но если рабочие ничего не сберегают и заработная плата не падает, следует, по моему мнению, допустить, что временное изобилие хлеба в силу хорошего урожая имеет тенденцию уменьшить действительный капитал страны. Другое действие окажет низкая цена хлеба, вызванная постоянно уменьшающимися издержками его производства. Это тоже может быть убыточно для фермеров и будет также временно убыточно для землевладельцев, но все другие классы извлекут из этого такие постоянные выгоды, что общество во всяком случае будет более чем вознаграждено за эти ничтожные вычеты. Нет необходимости останавливаться на этой стороне предмета, так как я несколько раз разъяснял свои взгляды по этому вопросу. Г-н Мальтус, повидимому, думает, что понижение цен сырья при всех обстоятельствах и чем бы оно ни было вызвано, будет сопровождаться уменьшением спроса на труд. В одном случае «без работы окажется так много рабочих, что заработная плата, после периода больших бедствий, понизится в общем в той же пропорции». В другом случае «количество предметов первой необходимости, которое фактически зарабатывают своим трудом рабочий и его семья, может быть в действительности меньше, чем тогда, когда, в силу повышения цен, на дневной заработок рабочего можно купить меньшее количество хлеба». 148. Стр. 261. «Что необходимо главным образом для быстрого роста населения, так это большой и постоянный спрос на труд. А этот спрос определяется нормой годового прироста валовой стоимости капитала и дохода страны и с ней соразмеряется, потому что, чем быстрее возрастает стоимость годичного продукта, тем больше возрастает способность покупать новый труд и тем больше он будет требоваться с каждым годом». Верность этого положения зависит от того значения, которое придаётся слову стоимость. С моей точки зрения способность покупать труд может возрастать, хотя стоимость капитала страны может уменьшаться. Это зависит главным образом от количества капитала или той части капитала, которая даёт занятие рабочим. Между тем, согласно г-ну Мальтусу, стоимость зависит от количества предметов первой необходимости и удобств. Его положение поэтому гласит, что «население будет возрастать вместе со спросом на труд и со средствами содержания рабочих», положение, которое не может быть опровергнуто. 149. Стр. 261. «Иногда думают, что спрос на труд может быть пропорционален увеличению только оборотного, но не основного капитала, и это, несомненно, верно в отдельных случаях; но нет нужды делать такое различие, когда речь идёт о всей стране, потому что там, где замена оборотного капитала основным сберегает большое количество труда, который не может найти применения в другом месте, она уменьшает стоимость годичного продукта и задерживает рост капитала и дохода, взятых вместе». Действительный спрос на труд должен зависеть от возрастания той части капитала, из которой выплачивается заработная плата <в рукописи здесь вычеркнуто следующее предложение: «Основной капитал не может быть увеличен иначе, как средствами труда, и поэтому сначала должен быть расширен оборотный капитал, или, что то же, должно произойти сокращение непроизводительного и увеличение производительного потребления». — Прим. англ. ред.>. Если я получаю доход в 2 тыс. ф. ст., то при расходовании этого дохода я неизбежно употребляю труд. Если я превращаю этот доход в капитал, сначала я употребляю тот же труд, что и прежде, но производительно, а не непроизводительно. Этот труд может быть употреблён на производство машин, машина становится капиталом, и всё, что она производит, есть доход, извлекаемый из этого капитала. Или этот труд может быть употреблён на обработку земли, и производимый им хлеб может стать капиталом, который даст мне возможность употреблять дополнительное количество труда <в рукописи первоначально: «употреблять дополнительный капитал на содержание рабочих». — Прим. англ. ред.>. Общество делает то или другое соответственно спросу на тот или другой предмет труда человека или на предметы, производимые почти исключительно машинами; в общем накопленный капитал будет состоять из смеси того и другого, как основного, так и оборотного капитала. Из этого явствует, что для того, кто сберёг капитал, не имеет никакого значения, будет ли он употреблён как основной или как оборотный капитал; если прибыль составит 10%, она одинаково даёт доход в 200 ф. ст. на 2 тыс. ф. ст. капитала, но если капитал будет употреблён как основной, продукты на сумму в 250 или 300 ф. ст. могут возместить капитал и дать 200 ф. ст. прибыли; если же он будет употреблён как оборотный капитал, может быть необходимо продать произведённые продукты за 2 200 ф. ст., чтобы возместить капитал и дать 200 ф. ст. прибыли. Страна, которая обогащается только за счёт чистого, а не за счёт валового дохода, будет одинаково могущественна в обоих случаях; для капиталиста не может иметь никакого значения, состоит ли его капитал из основного или оборотного капитала, но это в высшей степени важно для тех, кто живёт на заработную плату: они чрезвычайно заинтересованы в увеличении валового дохода, так как именно от валового дохода должны зависеть возможности снабжения населения. Если капитал реализован в машинах, то в этом случае спрос на увеличенное количество труда будет невелик; если он создаёт добавочный спрос на труд, он будет необходимо реализован в таких предметах, которые потребляются рабочим. 150. Стр. 261—262. «Если бы, например, капиталист, который употреблял 20 тыс. ф. ст. на производительный труд и обычно продавал свои товары за 22 тыс. ф. ст., получая, таким образом, прибыль в 10%, употребил то же количество труда на постройку машины ценой в 20 тыс. ф. ст., которая дала бы ему возможность продолжать производство, не прибегая в будущем к помощи труда, за исключением рабочих для ремонта этой машины, то очевидно, что в течение первого года стоимость годичного продукта и спрос на труд останутся без изменения; но в следующем году, поскольку для получения такой же нормы прибыли, как и в прошлом, капиталисту будет достаточно продать свои товары на сумму несколько больше 2 тыс. ф. ст. вместо 22 тыс. ф. ст., стоимость годичного продукта упала бы, капитал не увеличился бы, а доход определённо уменьшился бы». Мне кажется, что во всей этой аргументации кроется ошибка. У меня есть оборотный капитал в 20 тыс. ф. ст., с помощью которого я произвожу товары, продаваемые мною за 22 тыс. ф. ст. Внезапно я прекращаю дело, и, вместо того чтобы производить эти товары, делаю машину, которая стоит 22 тыс. ф. ст. Я не буду ни богаче, ни беднее, так как товары в одном случае и машина в другом представляют одинаковую стоимость <примечание в целом в рукописи зачёркнуто. Приведённый текст представляет только отрывок; первоначальная редакция примечания, видимо, занимала в рукописи больше 6 страниц, что явствует из пропуска в карандашной нумерации листов. — Прим. англ. ред.>. 151. Стр. 263. «Даже в земледелии, если бы вышел из употребления основной капитал, состоящий из лошадей, которые вследствие большего количества потребляемых ими продуктов представляют наиболее невыгодную категорию основного капитала, то, вероятно, большая часть земель, занятых в настоящее время под хлеб, осталась бы без обработки. Малоплодородные земли никогда не могли бы приносить достаточный продукт, чтобы оплатить труд по обработке земли заступом, по перевозке удобрений тачкой, по транспортировке продуктов земледелия на отдалённые рынки также на тачке. В этом случае, поскольку количество произведённого хлеба значительно уменьшилось бы, значительно сократилась бы и вся стоимость продукта; спрос на труд и численность населения также значительно уменьшились бы». Мне не кажется необходимым следствием, что «спрос на труд и численность населения значительно уменьшились бы». Предположим, что была получена 1 тыс. квартеров пшеницы, из которых 200 квартеров можно считать прибавочным продуктом, и что из остающихся 800 были уплачены 400 рабочим за их труд, а 400 были употреблены на корм для лошадей и быков, используемых в хозяйстве фермы. Предположим теперь, что вместо 1 тыс. квартеров были произведены только 900 <вероятно, описка, следует 950. — Прим. англ. ред.> вследствие введения огородных культур и отказа от использования лошадей и быков. Пусть из этих 950 квартеров только 150 составляют прибавочный продукт, и пусть остальные 800 квартеров будут отданы сельскохозяйственным рабочим за их труд. При этих обстоятельствах здесь может возрасти спрос на труд при уменьшении валового и чистого продукта. Будет ли это так или нет, зависит от количества земли, которое такая низкая норма прибыли заставила бы изъять из обработки. Следует однако допустить, что сокращение продукции совместимо с возросшим потреблением человеческих существ, и поскольку в этом случае всё произведённое количество было бы потреблено человеком, то мог бы увеличиться спрос на труд, хотя хлеб повысился бы в цене и требовал бы возросших издержек на своё производство <в рукописи здесь вычеркнуты слова: «Это, быть может, единственный случай, когда замена трудом основного капитала, если можно так назвать лошадей, не сопровождалась бы выгодой для капиталиста, но была бы выгодной для рабочих». — Прим. англ. ред.>. 152. Стр. 264. «Предполагая даже, что вскапывание заступом могло бы на некоторых почвах улучшить землю, так что урожай с лихвой компенсировал бы дополнительную затрату труда, всё же, поскольку приходится держать лошадей, чтобы перевозить удобрения на значительные расстояния и доставлять продукты на рынок, земледельцу вряд ли будет выгодно применять труд людей для вскапывания земли, в то время как лошади праздно стояли бы в конюшне». Я не намерен высказывать своё мнение по вопросу о вскапывании земли, я не компетентен в этом, но не вижу никакой необходимости, чтобы лошади праздно стояли в конюшне. Одни и те же лошади могут выполнять работу на различных фермах; их могут сдавать в наём для других работ, где используются лошади, или же фермер может нанимать лошадей от случая к случаю. 153. Стр. 264. «С другой стороны, если благодаря постепенному введению более значительного количества основного капитала можно было бы обрабатывать землю и доставлять её продукты на рынок с меньшими издержками, можно было бы намного увеличить продукцию путём обработки и мелиорации всех наших невозделанных земель; и если бы введение этого основного капитала производилось единственно возможным способом, т. е. постепенно, нет повода сомневаться, что стоимость сырья держалась бы приблизительно на прежнем уровне, и значительное увеличение количества сырья в соединении с гораздо большим удельным весом лиц, которые могли бы быть заняты в промышленности и в торговле, вызвало бы бесспорно очень большое повышение меновой стоимости всей совокупности продуктов и породило бы таким образом значительный спрос на труд и вызвало бы большой прирост населения». Может быть, есть возможность выполнять при помощи лошадей почти всю работу, выполняемую людьми; будет ли в этом случае замена человеческого труда работой лошадей, даже если бы она доставила большее количество продуктов, выгодна для рабочего класса? не уменьшит ли это, напротив, весьма существенно спрос на труд? Я желал бы только сказать, что это могло бы случиться; при более дешёвом способе обработки земли спрос на труд мог бы уменьшиться, а при более дорогом — он мог бы повыситься. 154. Стр. 265. «В то же время бесспорно, что, если бы замена оборотного капитала основным совершалась очень быстро и раньше, чем можно было бы найти достаточный рынок для полученной при помощи этого капитала более обильной продукции и для нового продукта труда рабочих, ранее остававшихся без работы, повсеместно чувствовалось бы уменьшение спроса на труд и усиление нужды среди рабочих классов общества». Своеобразная теория г-на Мальтуса состоит в том, будто предложение может быть настолько обильно, что товар сможет не найти рынка. Он настаивает на этом в различных частях своего труда. Очень большая лёгкость производства могла бы, при известных обстоятельствах, поощрять привычку к праздности и может поэтому быть причиной того, что товары не будут производиться в достаточном изобилии; но, когда они уже произведены, это не может быть причиной того, что они не будут обмениваться друг на друга. Всем нам нравится покупать и потреблять; трудность лежит только в производстве. Один продукт покупается на другой; всякий человек купит, если у него есть продукт для обмена и если он не считает его имеющим большую стоимость, чем предлагаемый товар. 155. Стр. 265. «Но в этом случае весь продукт, или капитал и доход страны, взятые вместе, наверное понизится в стоимости вследствие временного избытка предложения по отношению к спросу; и это показало бы, что изменения в этой стоимости сравнительно с прежней стоимостью, затраченной на заработную плату, суть главные регуляторы способности и желания пользоваться наёмным трудом». Другими словами, они <капитал и доход страны. — Ред.> могут понизиться, по моему предположению, в принятой г-ном Мальтусом мере реальной меновой стоимости, а именно в предметах первой необходимости и удобствах; но, если предположить, что этот возросший продукт состоял из удобств и предметов первой необходимости, они должны повыситься в стоимости, потому что стоимость стандартного мерила зависит от его количества <первоначальная редакция была следующей: «потому что стоимость зависит от количества». — Прим. англ. ред.>. Нельзя было бы также сказать, что они будут распоряжаться меньшим количеством труда, если только труд не повысился в стоимости, потому что распоряжение трудом должно зависеть от средств для его оплаты, а эти средства возросли бы благодаря увеличившемуся количеству предметов первой необходимости и удобств. Если можно было распоряжаться только меньшим количеством труда, то лишь потому, что стоимость труда повысилась сравнительно с предметами первой необходимости; в этом заключалась бы причина понижения прибыли и менее быстрого накопления капитала, но низкая прибыль существовала бы только до тех пор, пока стоимость труда продолжала оставаться высокой. Пусть население возрастёт, а стоимость труда сравнительно с предметами первой необходимости понизится, тогда прибыли снова повысятся и создадут стимул к новому накоплению. Я должен повторить здесь то, что часто говорил в другом месте, а именно, что капитал <первоначально «прибыли». — Прим. англ. ред.> и труд не могут быть изобильны в одно и то же время, потому что один всегда будет покупать другой, как бы они оба ни множились. Сказать, что у меня очень большой капитал, значит сказать, что я предъявляю большой спрос на труд. Сказать, что имеется большое изобилие рабочей силы, значит сказать, что нет достаточного капитала, чтобы её использовать. 156. Стр. 265. «Образование стоимости всего продукта страны зависит частично от цены и частично от количества. Та часть, которая зависит единственно от цены, по природе менее прочна и менее важна, чем часть, зависящая от количества. За повышением цены при небольшом увеличении количества продуктов или совсем без такового должно очень скоро последовать почти пропорциональное увеличение заработной платы; по мере того как уменьшается способность денежной заработной платы покупать предметы первой необходимости, население должно перестать увеличиваться, и никакое дальнейшее повышение цен не может вызвать действительный спрос на труд». Если <в рукописи Рикардо имеются три варианта этого примечания, из которых печатается третий, окончательный вариант. Первый вариант таков: «Под ценой г-н Мальтус подразумевает денежную цену и, конечно, в такое время, когда стоимость денег не изменяется. Следует помнить, что это моя мера стоимости, которую г-н Мальтус так громогласно осуждает. В приведённом месте он предлагает компромисс со мною: он согласен признать половину моей меры стоимости, если я соглашусь признать половину его меры. Я не могу согласиться на это». На этом Рикардо прервал изложение и начал второй вариант: «Г-н Мальтус должен подразумевать цену в деньгах, стоимость которых неизменна, или в деньгах, стоимость которых изменяется. В первом случае я говорю, что вся стоимость зависит от цены всего количества, что она будет держаться в течение долгого времени, и при незначительном увеличении количества или при неизменности его не произойдёт никакого повышения заработной платы, потому что спрос на труд зависит от количества. Хотя весь продукт, взятый в целом, может иметь более высокую цену, каждый предмет может сохранять свою прежнюю цену. Цена 150 квартеров пшеницы может быть больше, чем цена 100 квартеров, и всё же каждый отдельный квартер может продаваться по прежней цене. Если г-н Мальтус имеет в виду, что стоимость всего продукта зависит в какой-либо степени от цены в изменяющемся мериле, я не знаю, как с ним спорить, потому что наши взгляды на стоимость настолько различны, что мы явно не понимаем терминов, употребляемых каждым из нас. При таком мериле повышение цены может иметь место без всякого увеличения количества и даже при уменьшении последнего или же может произойти обратное: как количество, так и цена могут повыситься или понизиться одновременно».—Прим. англ. ред.> цена определяется при помощи мерила, стоимость которого не изменяется, цена и стоимость означают одно и то же, и тогда я понимаю это положение следующим образом: либо всё количество продукта могло возрасти, причём каждый отдельный предмет сохранил прежнюю цену, либо количество могло не увеличиться, а могла повыситься цена каждого отдельного предмета. Вся цена 150 квартеров пшеницы может быть больше, чем вся цена 100 квартеров, и всё же каждый отдельный квартер может иметь такую же стоимость, как прежде, или 100 квартеров могут иметь ту же стоимость, какую 150 квартеров имели прежде, потому что повысилась стоимость каждого отдельного квартера. Повышение цены каждого отдельного квартера в неизменном мериле должно, если носит сколько-нибудь длительный характер, вызываться ростом издержек производства; но повышение цены более значительного количества совместимо с понижением издержек производства. Г-н Мальтус говорит, что «за повышением цены при небольшом увеличении количества продуктов или совсем без такового должно очень скоро последовать почти пропорциональное увеличение заработной платы». Я очень сомневаюсь, будет ли повышение заработной платы пропорционально повышению цены хлеба, потому что, если цена хлеба может повышаться в неизменном мериле только благодаря увеличению издержек производства, должно быть затрачено больше труда, чтобы получить прежнее количество. При большем количестве труда потребуется больше рабочих, и если большее число рабочих получают все вместе только прежнее количество хлеба, то, конечно, доля каждого отдельного рабочего будет меньше, и поэтому цена труда не может повыситься в той же пропорции, как цена хлеба. Я согласен с г-ном Мальтусом, что «по мере того, как уменьшается способность денежной заработной платы покупать предметы первой необходимости, население должно перестать увеличиваться», и поэтому не могу согласиться с ним, что заработная плата рабочего будет увеличиваться пропорционально цене хлеба; если бы это было так, то население никогда не перестало бы увеличиваться. Если повышение всей стоимости продукта объясняется увеличением количества, тогда заработная плата, вероятно, действительно повысилась бы, потому что увеличился бы спрос на труд. Поскольку денежная заработная плата повысилась бы, а цены товаров, на которые тратится заработная плата, не поднялись бы, рабочий мог бы распоряжаться добавочным количеством товаров, и население, вместо того чтобы остановиться в своём росте, продолжало бы увеличиваться; второе повышение цен, при тех же обстоятельствах, породило бы дальнейшее повышение спроса на труд. Всё это верно, если предположить, что деньги, в которых исчисляется цена, сохраняют в это время неизменную стоимость; но если дело обстоит иначе, если г-н Мальтус имеет в виду, что денежное выражение общей стоимости увеличивается при неустойчивой стоимости денег, то не знаю, как с ним договориться, так как мы можем предполагать, что само мерило стало теперь более ценным или менее ценным. В таком мериле повышение цены может произойти при прежнем, при большем или при меньшем количестве продукта. Как количество, так и цена могут оба повыситься или оба понизиться <на этом кончается третий вариант примечания; далее идёт текст, общий для второго и третьего вариантов. — Прим. англ. ред.>. Каждый индивидуальный предмет может повыситься или понизиться в цене, и это может сопровождаться повышением или понижением заработной платы. Невозможно отрицать какое-либо положение, выдвигаемое по отношению к цене, если заранее не определено, рассматривает ли его автор деньги в данное время как стоимость неизменную или изменяющуюся, и если она изменяется, то в какой степени и в каком направлении. 157. Стр. 265. «С другой стороны, если количество продукта будет увеличиваться так быстро, что стоимость его в целом уменьшится в силу чрезмерного предложения, то за него нельзя будет купить в данном году такое же количество труда, как в прошлом, и в течение известного времени не будет спроса на рабочих». При увеличении количества товаров возможно, что на эти товары нельзя будет купить такое же количество труда, как прежде; это я заключаю из того, что, поскольку цены товаров низки в сравнении с трудом, цена труда будет пропорционально высока в сравнении с товарами. На труд предъявляется тогда большой спрос, он оплачивается по высокой стоимости, и рабочий пользуется изобилием благ; товаров много, и рабочий получает значительную долю их. Ничего подобного, говорит г-н Мальтус, «в течение известного времени не будет спроса на рабочих». Как согласовать эти два положения? 158. Стр. 289. «Если рабочий зарабатывает в день одну меру пшеницы вместо 3/4 этой меры благодаря повышению заработной платы, вызванному спросом на труд, не подлежит сомнению, что найдут работу все рабочие, желающие и могущие работать, а вероятно, также и их жёны и дети; но, если рабочий получает этот излишек пшеницы благодаря понижению цены хлеба, уменьшающему капитал фермера, выгода может оказаться не столько реальной, сколько призрачной, и, хотя в течение некоторого времени цена труда номинально может не падать, всё же, поскольку спрос на труд может быть стабильным, если не регрессивным, существующая цена труда не будет определённым критерием для суждения о том, что можно заработать совокупным трудом большой семьи или большим напряжением сил главы семьи при выполнении сдельной работы». Всё в этой аргументации должно зависеть от причины падения цены пшеницы. Временная ли эта причина или постоянная? Вызывается ли это падение лёгкостью производства или временным избытком? Повысилась ли стоимость денег в сравнении со стоимостью хлеба и других предметов или же повышение денежной цены хлеба ограничилось только хлебом? Смотря по тому, вызвано ли падение действием одной или другой из этих причин, последствия будут различны. Я не понимаю, каким образом спрос на труд может быть стабильным, если не регрессивным, без какого-либо изменения в его цене. Существующая цена труда представляет лучший из имеющихся критериев, с помощью которого мы можем судить о положении рабочего и его семьи. Что может помешать конкуренции повлиять на цену, когда спрос ослабевает или увеличивается предложение? 159. Стр. 290. «Поэтому очевидно, что одна и та же существующая заработная плата, измеряемая в хлебе, будет при различных обстоятельствах оказывать различное воздействие на рост населения». Этот вывод меня по меньшей мере не удовлетворяет. 160. Стр. 291. «Я ничего не сказал о стоимости труда, измеряемой критерием, предложенным г-ном Рикардо, т.е. трудом, затраченным рабочим для получения заработка, или издержками заработной платы, выраженными в труде, потому что, как мне кажется, то, что я назвал реальной и номинальной заработной платой, включает всё, что имеет отношение к положению рабочего, к поощрению роста населения и к стоимости денег, т. е. к трём важным пунктам, главным образом заслуживающим нашего внимания. С точки зрения г-на Рикардо на этот предмет, по этим пунктам нельзя сделать никакого вывода ни из повышения, ни из понижения заработной платы». Как думает г-н Мальтус, то, что он называет номинальной и реальной заработной платой, включает всё, что имеет отношение к положению рабочего и к поощрению роста населения. Но с моей точки зрения на этот предмет, по его словам, нельзя сделать никакого вывода по этим пунктам. Мешает ли моя точка зрения исследованию действительного положения рабочего? В самом деле, я говорю, что заработная плата рабочего высока, если он получает за свою работу высокую стоимость, т. е. если он получает продукт большого количества труда. Чтобы знать его действительное положение, мы должны ещё исследовать, что представляет собой этот продукт количественно, а это как раз вопрос, предлагаемый г-ном Мальтусом. Так как я даю номинальной и реальной цене г-на Мальтуса другие названия, он думает, что между нами имеется действительное расхождение, а я думаю, что никакого расхождения в данном случае нет. Сначала я спросил бы, какова денежная заработная плата рабочего, и определил бы его положение обилием предметов первой необходимости, которое эта денежная заработная плата ему доставит. Примечания к Главе пятой. О прибыли на капиталОтдел первый. Как влияет на прибыль возрастающая трудность добывания средств существования О Т Д Е Л П Е Р В Ы Й 161. Стр. 294—295. «Две главные причины влияют на средства содержания рабочих: 1) трудность или лёгкость производства в земледелии, вследствие чего большая или меньшая часть стоимости всего продукта достаточна для содержания занятых рабочих, и 2) изменчивое соотношение между количеством капитала и численностью рабочих, занятых этим капиталом, вследствие чего каждый рабочий будет получать больше или меньше предметов первой необходимости». Обе эти причины могут быть отнесены к высокой или низкой заработной плате. Прибыль на деле зависит от высокой или низкой заработной платы и ни от чего другого. Чем больше доля стоимости всего продукта, необходимая для содержания рабочего, тем выше будет заработная плата. Чем больше размеры капитала в сравнении с трудом, которому он даёт занятие, тем выше будет заработная плата. Во всём этом г-н Мальтус и я, повидимому, согласны. Во всех случаях, когда трудность производства в земледелии такова, что на содержание рабочих употребляется более значительная доля всего продукта, я называю заработную плату высокой, так как измеряю стоимость этими пропорциями; и на основании только что приведённых слов г-на Мальтуса каждый подумал бы, что он согласен со мной; между тем на стр. 291 он говорит: «Я ничего не сказал о критерии, предложенном г-ном Рикардо, т. е. о труде, который был затрачен рабочим для получения заработка, или об издержках заработной платы, выраженных в труде». Чем отличается это от критерия г-на Мальтуса? 100 квартеров пшеницы добываются с земли, поступившей позже всех в обработку, и при настолько возросшей трудности производства, что доля рабочего в этих 100 квартерах составляет 65 квартеров. С земли, которая прежде обрабатывалась как поступившая в обработку последней, было получено с помощью того же количества труда 110 квартеров, и на долю рабочих пришлось тогда 70 квартеров. Часть, уплачиваемая рабочему в настоящее время, меньше, но доля всего продукта, добытого его трудом, больше, потому что прежде он получал 63%, а теперь 65%; поскольку же стоимость 100 квартеров поднимется теперь до той стоимости, какую имели прежде 110 квартеров, то, получая более крупную долю произведённого количества, рабочий получит также большую стоимость, и эта стоимость будет продуктом большего количества труда, чем меньшая стоимость прежде. Я утверждаю, таким образом, что большая доля и большая стоимость означают одно и то же. Я предоставляю г-ну Мальтусу выбрать какое угодно мерило для измерения стоимости, за исключением самого сырья, стоимость которого должна быть измерена, и он найдёт моё положение правильным. Конечно, сама мера не должна меняться в стоимости за два периода, между которыми проводится сравнение. 162. Стр. 296. «В этом случае и при предположении, что существует одинаковый спрос на все части одного и того же продукта, очевидно, что прибыль на капитал, вложенный в земледелие, будет пропорциональна плодородию земель, последними поступивших в обработку, или величине продукта, получаемого при затрате данного количества труда. А так как прибыли в одной и той же стране стремятся к уравниванию, то и их средняя норма должна следовать тем же путём». Я вполне согласен с г-ном Мальтусом в этом объяснении прибыли. 163. Стр. 297. «Но минутное размышление покажет нам, что предположенное нами постоянное единообразие реальной заработной платы рабочих не только противоречит действительному положению вещей, но и заключает в себе противоречие». И всё же стоимость труда является для г-на Мальтуса стандартной мерой реальной меновой стоимости. Смотри следующие параграфы. 164. Стр. 300. «Издержки производства хлеба и труда постоянно увеличиваются вследствие неизбежных физических причин, тогда как издержки производства промышленных изделий иногда уменьшаются, иногда остаются неизменными и во всяком случае увеличиваются гораздо медленнее, чем издержки производства хлеба и труда». По всему этому отделу я согласен с г-ном Мальтусом в принципе; мы расходимся только во взглядах на то, что именно составляет реальную меру стоимости. О Т Д Е Л В Т О Р О Й 165. Стр. 302. «Если бы на ранней стадии усовершенствований в земледелии капитал по сравнению с численностью рабочих был недостаточен, вследствие чего заработная плата рабочих была бы низка, тогда как производительная сила труда была бы высока благодаря плодородию почвы, часть, остающаяся на долю прибыли, была бы неизбежно очень значительной и норма прибыли очень высока. Однако в общем, хотя можно сказать, что на ранней стадии развития земледелия капитал был недостаточен, всё же та особая часть капитала, которая превращается в пищу, часто бывает изобильна по сравнению с населением, и можно обнаружить одновременно и высокую прибыль и высокую реальную заработную плату». Я рад заметить, что г-н Мальтус измеряет прибыли при помощи пропорций. Я только прошу его измерять заработную плату таким же образом. Если бы он проделал это, то не сказал бы, что высокая прибыль и высокая реальная заработная плата существуют одновременно на ранней стадии развития земледелия. Единственное расхождение между нами в этом вопросе состоит в названиях, которые мы даём одной и той же вещи; мы оба согласны, что рабочий будет получать высокую заработную плату в хлебе; г-н Мальтус поэтому называет его заработную плату высокой реальной заработной платой. Так как признано, что, когда хлеб производится так легко, стоимость его будет низка, то я говорю, что высокая заработная плата в хлебе будет иметь низкую стоимость, и, следовательно, реальная заработная плата будет низка; доказательство этого заключается в том, что рабочий будет получать только небольшую долю продукта. 166. Стр. 303. «Так как во все времена капитал растёт быстрее, чем число рабочих, прибыль на капитал будет понижаться; и если бы происходил прогрессивный рост капитала, между тем как в силу какой-нибудь скрытой причины рост населения от ного отставал, то, несмотря на плодородие почвы и обилие пищи, прибыли стали бы постепенно уменьшаться, пока, после ряда последовательных сокращений, способность накопления и воля к накоплению не перестали бы действовать». Рабочие пользовались бы монополией, и цена их труда зависела бы только от спроса. 167. Стр. 305. «Денежная цена хлеба и денежная заработная плата были бы, может быть, так же высоки, как если бы они стоили двойного или тройного количества труда» <Эта цитата из труда Мальтуса приведена Рикардо полностью, но примечание его относится, видимо, к предшествующим строкам: «Возможно, что в связи с лёгкостью производства в земледелии и с большим удельным весом лиц, занятых в промышленности и торговле, экспорт был бы велик, а стоимость денег была бы очень низка». — Ред.>. Возможно ли думать, что деньги понизились бы так сильно в стоимости в силу подобной причины? Если бы было так, то какое значение это имело бы? <всё это примечание заменяет первоначальное: «Я не понимаю, что автор хотел сказать этими словами». — Прим. англ. ред.> 168. Стр. 305. «Следствия, очевидно, вытекающие из сделанных нами двух предположений <уменьшение населения и ограниченность земельной площади.— Ред.>, ясно доказывают, что возрастающее количество труда, необходимого для обработки всё новых земель низкого качества, теоретически не является необходимым, чтобы понизить прибыль с самого высокого до самого низкого уровня». В этом случае землевладельцам принадлежала бы полная монополия, и цена хлеба поднялась бы до предела <в рукописи слова «до предела» вставлены взамен слова «пропорционально». — Прим. англ. ред.> способности потребителей платить за него. 169. Стр. 305. «Рабочим классам, естественно, может показаться несправедливым, что из большой массы продуктов, полученных от земли, капитала и труда в стране, на их долю приходится столь незначительная часть. Но это распределение в настоящее время определяется, и должно всегда определяться в будущем, законами спроса и предложения, действия которых избежать нельзя». Всё это прекрасно сказано; следует возможно чаще и яснее внедрять это в сознание рабочих классов. 170. Стр. 307. «Стоимость долгосрочной государственной ренты проявляет естественную и неизбежную тенденцию понижаться по мере приближения к сроку погашения. Таково положение, которое, я думаю, никто не склонен оспаривать; но, полностью признавая его правильность, было бы весьма ошибочно исчислять стоимость ценных бумаг этого рода только оставшимися до срока годами. Хорошо известно, что из сравнительно короткого срока в 90 лет иногда проходила столь значительная часть, как, например, 20 лет, а стоимость этих бумаг не только не уменьшалась, а фактически увеличивалась». Неужели г-н Мальтус представляет себе, будто кто-либо сомневается в той истине, что прибыли подвержены изменению? 171. Стр. 308. «Точно так же проявляемая прибылями с прогрессом общества естественная и необходимая тенденция к падению вследствие возрастающей трудности добывания пищи есть положение, которое мало кто будет оспаривать; но попытка исчислить норму прибыли в какой-нибудь стране с учётом действия одной только этой причины за десять, двадцать или даже пятьдесят лет подряд, т. е. за периоды достаточно длительные, чтобы оказать наибольшее влияние на процветание страны, привела бы неизбежно к величайшим ошибкам на практике. Всё же, несмотря на безусловную недостаточность этой единственной причины для объяснения существующих явлений, в своей очень остроумной главе о прибыли г-н Рикардо не остановился ни на какой другой причине». Г-н Мальтус выдвигает здесь против меня обвинение, которое ему было бы очень трудно доказать. Он сам на стр. 294 <см. цитату в примечании 161. — Ред.> отдела первого настоящей главы установил две причины падения прибыли. Я вполне согласен с его мыслью, что прибыль всегда изменяется только в силу той или другой из этих причин. Однако я старался показать, что они могут быть подведены под одну категорию, так как в обоих случаях рабочий получал либо большую, либо меньшую долю всего продукта. Если он получал большую долю, я называл его заработную плату высокой, если меньшую — низкой. Итак, прибыль высока, когда низка заработная плата, и низка, когда заработная плата высока. Так вот, г-н Мальтус не будет отрицать, что обе упоминаемые им причины высокой или низкой прибыли сводятся к выдаче большей или меньшей доли продукта рабочему. Когда рабочий получает крупную долю продукта, он не назовёт её высокой заработной платой, потому что измеряет стоимость количеством, а не пропорциями; но здесь г-н Мальтус расходится со мной только относительно названия; мы подразумеваем, и он знает, что мы оба подразумеваем одно и то же. Я неизменно утверждал, что высокая или низкая прибыль зависит от низкой или высокой заработной платы; как же можно говорить, что единственной причиной высокой или низкой прибыли я признаю лёгкость или трудность доставления пищи для рабочего. Я утверждаю, что я признавал также и другую причину — отношение численности населения к капиталу, что представляет второй великий регулятор заработной платы. В главе о прибыли (на стр. 110—111, 2-ое изд.) я говорю: «Если бы, следовательно, заработная плата осталась прежней, то и прибыль фабриканта осталась бы прежней; но если — а это безусловно произойдёт — вместе с повышением цены хлеба повысится и заработная плата, то прибыль необходимо упадёт» <Д. Рикардо, Начала политической экономии и налогового обложения, т. I, стр. 98. — Ред.>. На стр. 115 я говорю: «Таким образом, во всех случаях прибыль как в земледелии, так и в промышленности понижается при повышении цены сырых материалов, если оно сопровождается повышением заработной платы» <Там же, стр. 102. — Ред.>. Я читал первый и второй отделы пятой главы труда г-на Мальтуса с большим удовольствием; в них с большой ясностью и талантом изложены доктрины, которые кажутся мне правильными по отношению к прибыли; я, правда очень несовершенно, пытался сам объяснить те же принципы в своём труде и потому испытал большое удовольствие, читая столь талантливое изложение их г-ном Мальтусом. Я был, однако, немного разочарован, найдя в конце отдела, что г-н Мальтус думал, будто излагаемая им доктрина существенно отличается от моей. На стр. 308 он говорит, что существуют две причины, влияющие на прибыль, и что я остановился исключительно на одной, которая не могла вызвать последствия, в действительности имевшие место. Надеюсь, что я удовлетворительно ответил на это обвинение. На стр. 309 он говорит: «Невозможно в таком случае согласиться с выводом, к которому приходит г-н Рикардо в своей главе о прибыли, что «во всех странах и во все времена прибыль зависит от количества труда, требующегося для снабжения рабочих предметами первой необходимости, на той земле или с тем капиталом, которые не приносят никакой ренты» <Д. Рикардо, Начала политической экономии и налогового обложения, т. I, стр. 110. — Ред.>». Но ведь это не что иное, как доктрина г-на Мальтуса, выраженная другими словами. Я не говорю, что заработок рабочего будет всегда один и тот же, но каков бы он ни был, прибыль будет всегда зависеть от того отношения, в котором находится её стоимость ко всей стоимости, произведённой на земле, последней поступившей в обработку. Известное количество труда необходимо, чтобы получить весь продукт, а прибыль зависит от доли всего количества, которая может быть необходима для обеспечения заработка рабочих; только остаток составляет прибыль. «Это просто трюизм, — говорит г-н Мальтус, — что если стоимость товаров разделить между заработной платой и прибылью, то чем больше доля одной, тем меньше останется для другой, или, другими словами, прибыль падает, когда поднимается заработная плата, или повышается, когда последняя падает». Если это трюизм, то это не ошибка, почему же отмечать его как таковую? Это трюизм, однако г-н Мальтус к великому изумлению не всегда его признаёт. Иногда он не соглашается с принципом, как я покажу ниже, но в общем он возражает против терминологии: Он говорит, например, что прибыль и заработная плата могут повышаться и часто действительно повышаются одновременно. Я говорю, что этого никогда не может быть. Почему? Потому что стоимость измеряется пропорциями, и высокая стоимость означает крупную долю всего продукта. Когда одна доля целого возрастает, другая должна уменьшаться. Г-н Мальтус говорит, что стоимость измеряется не пропорциями, а количеством. Увеличьте количество, и, хотя вы измените пропорции, обе стороны могут получить больше. «Мы мало знаем о законах, определяющих прибыль, если только в добавление к причинам, повышающим цену предметов первой необходимости, не объясняем причин того, почему каждому рабочему предоставляется больше или меньше этих предметов первой необходимости». Верно, это и есть тот важный принцип, который я желаю установить, и я не признаю себя виновным в том, будто приписываю предоставление рабочему большей или меньшей доли. предметов первой необходимости только одной причине, именно уменьшению производительности. Обвинение г-на Мальтуса фактически сводится к следующему. «Вы признали, что прибыль зависит от заработной платы; кроме того, вы сказали, что на заработную плату влияют две причины — трудность доставлять постоянно растущее количество продовольствия для возрастающего населения и изменчивое отношение между капиталом и населением, что необходимо должно оказывать воздействие на заработную плату; но вы придаёте слишком много значения первой причине и слишком мало — последней». Мои принципы в таком случае правильны, но я недостаточно точно взвесил значение каждой из этих причин. Примечание. Заглянув в мою главу о заработной плате, я нахожу: На стр. 94. «Рыночная цена труда есть та цена, которая действительно платится за него в силу естественного действия отношения между предложением и спросом: труд дорог, когда он редок, и дёшев, когда имеется в изобилии» <Д. Рикардо, Начала политической экономии и налогового обложения, т. I, стр. 86. — Ред.>. На стр. 94—95. «Несмотря на тенденцию заработной платы сообразоваться с её естественной нормой, рыночная норма заработной платы может быть в прогрессирующем обществе выше естественной в течение неопределенного периода» <там же. — Ред.>. На стр. 97. «Независимо от изменений в стоимости денег, которые необходимо отражаются на заработной плате, но на действие которых мы до сих пор не обращали внимания, так как принимали, что деньги постоянно имеют одинаковую стоимость, заработная плата, повидимому, подвержена повышению или падению в силу двух причин: 1) предложения и спроса на рабочие руки; 2) цены товаров, на которые расходуется заработная плата» <там же, стр. 88. —Ред.>. Так вот, следует заметить, что обе эти причины как раз те самые, о которых г-н Мальтус упоминает, как о действующих на прибыль, на стр. 294 своего труда. Смотри также стр. 215 и 216, гл. 16. 172. Стр. 314. «Второе обстоятельство, которое способствовало бы достижению того же эффекта <речь идёт о противодействии падению нормы прибыли. Первое обстоятельство — это улучшение обработки земли, включая усовершенствованно сельскохозяйственных орудий. — Ред.>, это увеличение напряжённости труда рабочих. Напряжённость труда совершенно различна в разных странах и в одной и той же стране в различные периоды. Дневной труд индийца или южноамериканского индейца не может сравниться с трудом англичанина; и говорили даже, что, хотя денежная цена рабочего дня в Ирландии составляет немного больше половины денежной цены рабочего дня в Англии, в действительности работа ирландца обходится не дешевле, чем работа англичанина, хотя прекрасно известно, что попадающие в Англию ирландские рабочие, поощряемые хорошим примером и достаточной заработной платой, способны трудиться так же напряжённо, как их английские товарищи». Все эти обстоятельства относятся к общей, уже отмеченной, причине, а именно «доля продукта, предоставляемая рабочему» <первоначально редакция первых строк была следующей: «Все эти обстоятельства входят в одно общее обстоятельство, а именно: какая доля продукта будет дана рабочему. Прибыль зависит от заработной платы». — Прим. англ. ред.>. Перечисленные здесь обстоятельства, несомненно, влияют на заработную плату, а потому влияют и на прибыль. Г-н Мальтус признаёт, что рабочий день индийца или жителя Южной Америки не может сравниться с рабочим днём англичанина; справедливо ли тогда со стороны г-на Мальтуса предполагать, что, когда я говорил о количестве труда, регулирующем цену и прибыль, я не придавал никакого значения тому, есть ли это труд индийца, ирландца или англичанина. Я применяю свою доктрину только к одной и той же стране и останавливаюсь на масштабе, общепринятом в этой стране. Я не стал бы измерять прибыль в Англии трудом индийца или в Индии — трудом англичанина, если только у меня не имелось бы способа свести их к одному общему масштабу. 173. Стр. 315. «Однако в начале этой главы было сказано, что прибыли зависят от цен продуктов сравнительно с издержками производства и поэтому должны изменяться в силу всех причин, влияющих на цены, хотя бы они и не влияли вместе с тем на издержки производства, а также в силу всяких причин, влияющих на издержки производства без соответствующего влияния на цены». На протяжении всего своего труда г-н Мальтус пользуется словом «издержки» весьма двусмысленно. Включает ли он прибыль на капитал в издержки производства товара или не включает? Здесь он явно её исключает. 174. Стр. 315. «Когда цены на хлеб и труд повышаются и приводят к изменению стоимости денег, цены многих отечественных товаров подвергнутся очень значительному изменению в течение некоторого времени в силу неравномерного давления налогов и различий в размере основного капитала в их производстве; вместе с тем цены на иностранные товары и на товары, производимые в стране из иностранного сырья, останутся сравнительно низкими». Я не понимаю, что подразумевается под словами «цены на хлеб и труд повышаются и приводят к изменению стоимости денег». Цена хлеба может повыситься в связи с возросшей трудностью его производства; это повысит стоимость хлеба по отношению к другим предметам, но стоимость денег останется без изменения. Цена хлеба может повыситься, потому что падает стоимость денег; тогда повысятся цены также на все другие товары, но на реальную заработную плату и прибыль не будет оказано никакого влияния, так как повышение будет совершенно номинальным. 175. Стр. 316. «Повышение цены хлеба и труда в стране не повлечёт за собой пропорционального повышения цены таких продуктов <производимых в стране из иностранного сырья. См. предыдущую цитату. — Ред.>, а поскольку эти продукты составляют какую-то часть капитала фермера, этот капитал станет более производительным, но кожа, железо, дерево, мыло, свечи, ткани хлопчатобумажные и шерстяные и т. д. — всё более или менее входит в капитал фермера или в заработную плату рабочего, и на цены всех этих предметов в большей или меньшей степени влияет ввоз». Если это будет действительным повышением цены хлеба и труда, а не падением стоимости денег, это не поднимет цены иностранных продуктов. Но как подействует это на цену отечественных продуктов? Цена некоторых повысится, а цена других понизится согласно тому, больше или меньше основного капитала употреблено на их производство. То, что г-н Мальтус говорит в этом параграфе, сводится вкратце к следующему: «Прибыль не упадёт так сильно, как можно было бы ожидать от повышения цены хлеба, потому что, хотя заработная плата рабочего возрастёт, ей помешают сильно вырасти сравнительно низкие цены других потребляемых им предметов первой необходимости». Против этого нельзя спорить, и никто этого не оспаривал. 176. Стр. 318. «Начиная со вступления па престол Георга II в 1727 г. до начала войны в 1739 г. ссудный процент стоял немного выше 3. Процент по государственным ценным бумагам, который был понижен до 4, значительно поднялся после этого понижения... В 1750 г., по окончании войны, процент по 4-процентным бумагам был на 7 лет снижен до 3 1/2, и с этого времени он всегда оставался на уровне 3». Никто не может отрицать, что усовершенствования в земледелии и в приложении труда к земле оказывают на рост прибыли такое же влияние, как повышение плодородия земли. 177. Стр. 320. «Различные нормы процента и прибыли в течение указанных нами двух периодов прямо противоречат теории прибыли, основывающейся на естественных качествах земель, последними поступивших в обработку. На основе этой теории не только нельзя объяснить эти неопровержимые факты, но, если ссылаться исключительно или главным образом на неё, эти факты, вероятно, окажутся прямой противоположностью тому, чем они являются в действительности». Это недобросовестно. Кто выдвигал «теорию прибыли, основывающуюся на естественных качествах земель, последними поступивших в обработку?» Теория говорит, что прибыль зависит от производительности земли, последней поступившей в обработку, независимо от того, объясняется ли эта производительность естественными качествами земли или экономией и мастерством в приложении труда к земле. Прибыль увеличивается либо путём уменьшения количества труда, затраченного на землю, последней поступившей в обработку и доставляющую данный продукт, либо путём увеличения продукта при данном количестве труда. Г-н Мальтус, я уверен, не скажет, что я когда-либо отрицал этот принцип; он не скажет, что я не выдвигал его отчётливо. 178. Стр. 320. «Природа этих фактов и положение вещей в периоды, когда эти факты имели место (в одном случае — состояние мира и слабый спрос на продукты земледелия; в другом — состояние войны и необычайный спрос на эти продукты), показывают со всей очевидностью и ясностью относительный избыток или недостаток капитала, по всей вероятности имеющий связь с этими фактами». Что понимает г-н Мальтус под относительным избытком капитала? Мне не нравится этот термин; но, оставляя в стороне это возражение, при всяком возрастании капитала, если население растёт ещё быстрее, а цена труда понижается, население будет избыточно в сравнении с капиталом; а если население растёт медленнее, чем капитал, последний будет относительно избыточным в сравнении с населением. Это иной способ констатировать, что прибыль будет высока или низка, смотря по тому, низка или высока заработная плата. 179. Стр. 321. «В первый из двух отмеченных нами периодов <см. выше, цитату в примечании 176. — Ред.> цена хлеба, как известно, понизилась; однако заработная плата рабочих не только не понизилась в той же пропорции, но даже повысилась, как утверждают некоторые авторитеты... Но даже если допустить неизменность цены труда при понижении цены хлеба, можно сейчас же найти объяснение уменьшению прибыли в земледелии». Какое название ни давал бы г-н Мальтус этому явлению, это есть высокая цена труда, потому что, как он сам показывает, это есть достающаяся рабочему увеличившаяся доля продукта, полученного с земли, последней поступившей в обработку. Г-н Мальтус вынужден называть такую заработную плату высокой, особенно потому, что измеряет стоимость количеством, и говорит нам, что рабочий получит большее количество хлеба, которое г-н Мальтус называет увеличенной реальной заработной платой. Прибыль в этом случае падает, потому что заработная плата поднимается; обстоятельства сделали положение рабочего благоприятным. По сравнению с капиталом предложение труда недостаточно. Если бы денежная заработная плата была выше, чем прежде, то этим можно было бы объяснить падение торговой прибыли. Если бы она не была выше, деньги не могли бы сохранять прежнюю стоимость: их стоимость должна была бы возрасти, и цены товаров снизились бы. 180. Стр. 322. «Во-первых, несомненно, что в продолжение этих двадцати лет <с 1793 по 1813 г. — Ред.> в земледелии было введено много улучшений как в отношении общего ухода за землёй, так и в отношении орудий обработки или приёмов, каким-либо способом облегчающих доставку земледельческих продуктов на рынок. Во-вторых, распространение практики сдельной оплаты в течение этих двадцати лет, вместе с расширением применения женского и детского труда, бесспорно сильно повысило напряжённость труда, и прежнее число лиц и семейств выполняло больше работ, чем в прошлом. Этим двум причинам повышения производительности труда явно благоприятствовала обстановка того времени, и некоторым образом их действие было вызвано такими обстоятельствами, как высокая цена хлеба, побуждавшая вкладывать в землю больший капитал с применением наиболее эффективных методов его использования, и возросший спрос на труд, вследствие того что армия и флот требовали много людей, в то время как они, больше чем когда-либо, нужны были для работы в земледелии и промышленности». Г-н Мальтус постоянно ссылается на деньги, причём на деньги с неизменной стоимостью, хотя он прежде так категорически отвергал их как меру стоимости. Если бы денежные цены были, как их называет г-н Мальтус, всегда номинальными ценами и сильно отличались от реальных цен, то высокие денежные цены не представляли бы никакого стимула для увеличения производства отдельного товара. Только высокая реальная стоимость доставляет подобный стимул. Я желал бы, чтобы г-н Мальтус держался собственного стандарта и объяснял принципы политической экономии, исходя из него. Если цена хлеба поднимается с 4 до 5 ф. ст. за квартер, он называет это повышением цены хлеба; если цена труда повышается с 10 до 12 шилл. в неделю, он говорит о повышении цены труда, но иногда он называет то же самое падением реальной стоимости труда. Правда, он сказал бы, что рабочий получает больше денег, но за эти деньги получает меньше хлеба. Как узнать, имеет ли он в виду высокую или низкую реальную стоимость, когда говорит о высокой цене труда? 181. Стр. 323. «Третьей причиной, вызывавшей значительный эффект, даже в большей степени, чем обычно думают, было повышение денежной цены хлеба без соответствующего повышения цен продуктов в торговле и промышленности». Это один из тех случаев, когда мне кажется, что г-н Мальтус приходит к неправильному выводу, смешивая две меры стоимости — стоимость в хлебе и денежную цену. Он предполагает, что цена хлеба растёт по отношению к другим товарам и что заработная плата растёт по отношению к другим товарам, но падает по отношению к хлебу, и делает из этого вывод, что прибыль повысится. Во-первых, каким образом может повыситься прибыль промышленника? Заработная плата в товарах выше, чем прежде, поэтому промышленник удерживает для себя меньшее количество промышленных изделий, после того как отдал остаток в качестве заработной платы. Относительная стоимость промышленных изделий не изменилась, и поэтому на своё уменьшившееся количество товаров он может получить только уменьшившееся количество всех других промышленных изделий. Но относительная стоимость промышленных товаров ниже, чем стоимость хлеба. Если бы у него было прежнее количество товаров, он получил бы за них меньше хлеба; но поскольку у него этих товаров стало меньше, это меньшее количество хлеба уменьшится ещё сильнее. В таком случае его прибыль, оцениваемая в товарах или хлебе, будет меньше, чем прежде. Почему повышается относительная стоимость хлеба? Потому что стало труднее производить его или потому что спрос увеличился по сравнению с предложением. Спрос не мог увеличиться, потому что, как предположено, рабочие потребляют меньше. Предложение могло уменьшиться в результате плохого урожая; прибыль фермера при таких условиях будет случайной и временной, и, кроме того, повышению прибыли противодействует то, что фермер получит повышенную цену за меньшее количество. Единственной постоянной причиной в этом случае будут повысившиеся издержки производства. С земли, поступившей позже всех в обработку, будет получено меньше продуктов, и, несмотря на уменьшение количества, отданного рабочему, это будет более значительная доля целого. Всё полученное фермером количество может иметь и будет иметь не более значительную стоимость в промышленных изделиях, чем прежде; из этой неизменной стоимости фермер должен уплатить рабочим более значительную долю и, следовательно, более значительную стоимость, также оцениваемую, если угодно, в промышленных изделиях. Каким же образом могла тогда увеличиться его прибыль? Она упадёт до уровня прибыли промышленника. На лучших землях рента повысится, что вызовет соответственное падение прибыли фермеров, обрабатывающих эти земли. 182. Стр. 324. «В то же время следует допустить, что большой спрос на отечественный хлеб должен сильно благоприятствовать усовершенствованиям в земледелии». При системе свободного ввоза хлеба на отечественный хлеб существовал бы достаточный спрос, чтобы поощрять усовершенствования в земледелии. 183. Стр. 324 <В рукописи не указана цитата, к которой относится примечание Рикардо, но из текста видно, что Рикардо возражает против следующих слов Мальтуса: «...большой спрос на рабочие руки должен создать у существующего населения стимул к труду; и если к этим двум обстоятельствам мы прибавим неизбежное влияние повышения цены хлеба вследствие роста богатства без пропорционального повышения цен на другие товары, вероятность повышения производительной силы труда, достаточного для уравновешивания эффекта от введения в обработку добавочных земель, будет настолько велика, что при нынешнем положении большинства стран в мире или при вероятном их положении в ближайшие столетия мы вполне можем рассчитывать на действие этих обстоятельств, когда представится случай». — Ред.>. Г-н Мальтус говорит о повышении цены хлеба вследствие роста богатства. Если это повышение вызвано не повышением издержек производства, то почему оно должно оказать на хлеб более сильное действие, чем на другие товары? Если это так, то либо цена хлеба не повысится, либо будет происходить пропорциональное повышение цен других товаров, и тогда к падению стоимости денег может быть отнесено всё, что не окажет никакого действия на прибыль. 184. Стр. 325. «Например, я нисколько не сомневался бы, что норма прибыли в Англии в течение двадцати лет подряд в начале XX в. могла бы увеличиваться по сравнению с наступающим ныне двадцатилетием, при условии, что этот ближайший период <в XIX в. — Ред.> будет периодом глубокого спокойствия, мира и избытка капитала, а будущий период <в XX в. — Ред.> — периодом недостатка капитала по сравнению со спросом на него вследствие войны, сопровождающейся ростом торговли и ростом спроса на продукты земледелия, подобно тому, что мы испытали в период с 1793 по 1813 г.». Как много условий! Значение имеет только одно условие, а именно избыток или недостаток капитала в сравнении со спросом на него. Другими словами, если бы в начале XX столетия сравнительное соотношение между капиталом и трудом было таково, что рабочие были бы не в состоянии распоряжаться большой долей продукта, полученного с земли, поступившей в обработку в последнюю очередь, прибыли были бы тогда выше. При таких условиях нельзя отрицать сделанный вывод. Будут ли условия таковы или нет, должно зависеть от усовершенствований в земледелии или от разрешения законодательным путём неограниченного ввоза хлеба из других стран. 185. Стр. 325. «Но в этом случае следует, что при современном состоянии большинства стран земного шара и в течение непродолжительных периодов норма прибыли будет фактически зависеть от причин, влияющих на относительное изобилие или недостаток капиталов в большей мере, чем от естественных сил земли, поступившей в обработку в последнюю очередь. И, следовательно, если подробно останавливаться на последнем пункте как единственной или даже главной причине, определяющей прибыль, это должно привести к самым ошибочным заключениям». Безосновательное обвинение — смотри примечание к стр. [ ] <пропуск в рукописи. Видимо, примечание 171 к стр. 308. — Прим. англ. ред.>. О Т Д Е Л Ч Е Т В Ё Р Т Ы Й 186. Стр. 326. «Согласно г-ну Рикардо, прибыль регулируется заработной платой, а заработная плата — качеством земли, поступившей в обработку в последнюю очередь». Это изложение моего мнения значительно отличается от данного г-ном Мальтусом на стр. 309, но то, что он теперь говорит, не вполне верно. Я не говорю, что прибыль регулируется заработной платой, а заработная плата — качеством земли, поступившей в обработку в последнюю очередь, безотносительно к её производительности, так как именно производительность этой земли регулирует прибыль, если предполагается, что заработная плата обладает неизменной стоимостью. 187. Стр. 329. «Г-н Рикардо никогда не рассматривает понижение цен как причину уменьшения прибыли, хотя фактически во многих случаях понижение прибыли, вероятно, происходит по этой причине. Представим себе процветающий торговый город, в котором прекрасно развиты некоторые отрасли промышленности и который покупает весь нужный ему хлеб за границей. Сначала и, быть может, в течение значительного времени цены его промышленных изделий на иностранных рынках по сравнению с ценой ввозимого хлеба могли бы быть достаточно высоки, чтобы приносить высокую прибыль; но по мере накопления капитала и вложения его в производство экспортных товаров эти товары, в силу принципа спроса и предложения, вероятно, понизятся в цене. Тогда за данное количество хлеба придётся отдавать большее количество промышленных изделий, и прибыли неизбежно понизятся». Во всех замечаниях, предшествовавших этому отрывку, г-н Мальтус ясно показал, что никакое мерило, которое можно выбрать, ни при каких условиях не может даже предполагаться как точная мера стоимости. Я не только признаю это, но и сам это подчёркивал. Я не возражаю против любых коррективов, которые должны быть внесены с целью исправления неизбежных несовершенств в самой совершенной мере стоимости, какая только может быть придумана. Это может оказать на некоторые товары одно влияние, на другие — иное, однако общая средняя не будет особенно затронута. Общий принцип ни в малейшей степени не страдает от неизбежных несовершенств меры. Я не защищаю никакой иной доктрины, кроме той, которая была прекрасно объяснена г-ном Мальтусом в двух первых отделах пятой главы. Его собственные заявления иногда противоречат этой доктрине; мои, мне кажется, никогда ей не противоречат. Теперь, однако, мне придётся иметь дело с цитатой, приведённой в начале этого примечания. Вместо того чтобы предположить, что весь хлеб, нужный этому процветающему и торговому городу, ввозится из-за границы, предположим, что ввозятся три четверти этого количества и что продолжает обрабатываться только земля, доставляющая такое обилие хлеба, что фермер может пустить свой хлеб в продажу по низкой цене, по которой хлеб импортируется, и получить существующую норму прибыли. Г-н Мальтус тогда, вероятно, согласится со мною, что прибыль не может понизиться, пока мы можем ввозить хлеб по той же цене, потому что до её повышения никакая худшая земля не может поступить в обработку. Если бы обрабатывалась худшая земля, количество продукта на этой земле не находилось бы в таком же отношении к затраченному труду, как прежде, и поэтому либо хлеб должен повыситься в цене, либо товары должны понизиться в цене, чтобы сохранить равновесие прибылей. Если бы обрабатывалась худшая земля, я сказал бы, что естественная стоимость <в рукописи первоначально «естественная цена». — Прим. англ. ред.> хлеба повысилась, в какой бы денежной стоимости она ни измерялась. Если бы хлеб не повысился в цене, а товары понизились, я подумал бы, что повысилась стоимость денег. Так вот, это повышение стоимости денег либо представляет явление, общее для всех стран, либо свойственно только данной стране. Если это повышение свойственно всем странам, то в то время, как цена хлеба осталась без изменения в нашей стране, она понизилась бы в других странах; если же цена хлеба повысилась в нашей стране, она останется без изменения в других странах. Действительная причина изменения здесь состоит в том, что больше труда требуется для производства последних необходимых партий хлеба, но за границей не было подобной причины, и поэтому хлеб вывозился бы из-за границы в нашу страну до тех пор, пока относительные цены не были бы восстановлены до уровня, на котором они стояли до того, как была взята в обработку худшая земля. Предположим теперь, что спрос увеличился, если вам угодно, — удвоился. Тогда вопрос сводится к тому, могут ли другие страны доставить это дополнительное количество, не вводя в обработку новую землю. Если они могут сделать это, я не вижу никаких оснований для повышения цены их хлеба; если же не могут, цена их хлеба будет повышаться, и результатом будет падение прибыли в обеих странах. Так вот, пока цена хлеба в Англии оставалась низкой, цены товаров не могли понизиться в силу того уже приведённого основания, что, если бы они повысились, прибыль в земледелии отличалась бы от прибыли в обрабатывающей промышленности, и капитал переместился бы из земледелия в промышленность. Но спрос на иностранный хлеб может быть так велик, что другая страна может не быть в состоянии доставлять его или может не пожелать делать это; она может отказаться принимать в дальнейшем те товары, которые в конечном счёте мы только и можем предложить в обмен на хлеб. Англия, однако, нуждается в хлебе и поэтому должна согласиться вывозить свои деньги в обмен на хлеб. Это накопление денег повысит цену хлеба в другой стране, но не повысит в такой же степени цену английских товаров, и поэтому, поскольку отношение между ценами на хлеб и на другие товары в другой стране не будет уже прежним, у Англии будет меньший стимул покупать у неё хлеб. Вывоз денег в Англию действовал бы в обратном направлении: он понизил бы как стоимость хлеба, так и стоимость других товаров. Это помешало бы как ввозу хлеба, так и вывозу промышленных товаров, так как стоимость их в обеих странах была бы примерно равной. Если бы потребность Англии в хлебе была велика, она либо согласилась бы ввозить его на новых условиях, либо возделывала бы его сама; в том и в другом случае её прибыль понизилась бы, ибо, если бы рабочему было дано прежнее или даже меньшее количество хлеба, это всё же представляло бы большую долю количества хлеба, произведённого данным количеством труда. Эти результаты вызываются ограниченным спросом другой страны на товары, которые мы могли бы дать в обмен на хлеб. Наш спрос на её хлеб был не столь ограничен, и вследствие этого у данной страны создаётся нечто вроде монополии, направленной против нас. Прибыли во всех странах должны зависеть главным образов от количества труда, отдаваемого за хлеб, как возделываемый в своей собственной стране, так и воплощённый в промышленных изделиях, на которые хлеб покупается в других странах. Я говорю — зависят главным образом, потому что думаю, что заработная плата зависит главным образом от цены на хлеб. После замечания г-на Мальтуса о других причинах, которые могут повлиять на труд, я должен сам остерегаться, чтобы нельзя было предположить, будто я отрицаю влияние этих других причин на заработную плату. Итак, приводимый г-ном Мальтусом случай только подтверждает общую доктрину. То, что он называет падением цены промышленных изделий, есть в действительности повышение выраженной в труде цены продовольствия. Я признаю результаты этого, но думаю, что я дал им верное объяснение. 188. Стр. 330. «Исходя из того же принципа, т. е. предполагая цены товаров неизменными, г-н Рикардо держится мнения, что, если бы цены нашего хлеба и труда понизились, пропорционально выросли бы прибыли нашей внешней торговли. Но что именно определяет цены товаров на иностранных рынках, спрошу я». Я отвечаю: издержки производства в другой стране. Когда Англия даёт в этом году Португалии за вино то же количество металлических изделий, какое давала в прошлом году, она получит от этой торговли повышенную прибыль, если металлические изделия стоили ей гораздо меньше труда и если производящий их рабочий не получит более щедрого вознаграждения. 189. Стр. 330. «Но если, как, несомненно, происходит в действительности, эти цены, как в среднем, так и для настоящего момента, определяются спросом и предложением, что может помещать тому, чтобы рост предложения, вызванный конкуренцией не находящего применения капитала, не понизил быстро цены и не уменьшил вместе с тем норму прибыли?» Дело в том, что вы не можете уменьшить прибыль в земледелии. Если реальная цена хлеба и труда низка, прибыль в земледелии должна быть высока, высока также должна быть прибыль на все другие капиталы, ибо, как г-н Мальтус замечает на стр. 296, «прибыли в одной и той же стране стремятся к уравниванию». Смотри [ ] <в рукописи пропуск. Очевидно, примечание 162 к стр. 296. -- Прим. англ. ред.>. 190. Стр. 330. «Если в течение последних двадцати пяти лет удавалось удерживать цену хлеба на уровне около 50 шилл. за квартер и если возрастающий капитал страны находил применение главным образом в производстве экспортных товаров для покупки иностранного хлеба, я весьма склонен полагать, что прибыль на капитал понижалась, а не повышалась». Другими словами, мы не должны были бы дёшево ввозить хлеб, так как под дешевизной я подразумеваю цену, дешёвую по отношению к вывозимым товарам. Если бы это было верно, то мы должны были бы предпочесть возделывание хлеба у себя, и в этом случае прибыли были бы точно такими же, как теперь. 191. Стр. 331. «Г-н Рикардо никогда не подчёркивал того влияния, которое прочные усовершенствования в земледелии оказывают на прибыль с капитала, хотя это одно из наиболее важных положений в сфере политической экономии, так как эти усовершенствования бесспорно открывают наиболее широкое поле для приложения капитала без уменьшения прибыли. Г-н Рикардо отмечает: «Как бы обширна ни была страна, земля которой недостаточно плодородна и куда ввоз жизненных припасов запрещён, самое умеренное накопление капитала будет сопровождаться там значительным понижением нормы прибыли и оыстрым повышением ренты. И, наоборот, небольшая, но плодородная страна, особенно если она разрешает свободный ввоз пищевых продуктов, может накоплять капитал в изобилии без значительного уменьшения нормы прибыли или значительного возрастания земельной ренты» <Д. Рикардо, Начала политической экономии и налогового обложения, т. I, стр. 111. — Ред.>». Я должен ещё лишний раз повторить, что придаю величайшее значение влиянию прочных усовершенствований в земледелии. Цитированное г-ном Мальтусом место относится к такому положению вещей, когда не вводятся никакие усовершенствования, и, следовательно, аргумент, предполагающий такие улучшения, но построенный на этой цитате, совершенно не обоснован. 192. Стр. 333. «Страна, накопляющая быстрее, чем её соседи, могла бы веками поддерживать тот же уровень прибыли, если бы она успешно вводила прочные усовершенствования в земледелии; но если, при той же скорости накопления, эта страна зависела бы главным образом от импортного хлеба, ее прибыли наверное не преминули бы уменьшиться; это уменьшение было бы, вероятно, вызвано не повышением слитковой цены хлеба в портах Европы, а понижением слитковых цен экспортных товаров, на которые данная страна покупает хлеб». Значение этого вопроса ничтожно, но я мало сомневаюсь в том, что, если бы это вообще случилось, то было бы вызвано повышением слитковой цены хлеба. Изменение стоимости денег важно для отдельных лиц, но оказывает незначительное влияние на интересы страны. 193. Стр. 334. «Нужно, следовательно, признать, что, рассматривая изменение отношения между трудом и его продуктами, вызывающее понижение прибыли, мы исследовали бы вопрос только наполовину, если бы касались исключительно повышения заработной платы рабочих, оставляя в стороне понижение товарных цен» <в рукописи к этой цитате нет никакого примечания. — Прим. англ. ред.>. Примечание к Главе шестой. О различии между богатством и стоимостью
194. Стр. 339. «Однако следует признать, что богатство не всегда увеличивается пропорционально возрастанию стоимости, потому что возрастание стоимости может иногда иметь место при фактическом уменьшении количества предметов первой необходимости, удобств и предметов роскоши». Таково моё мнение, но оно абсолютно не согласуется с теорией г-на Мальтуса. На стр. 60 он говорит: «Нам нужна какая-либо оценка, которую можно было бы назвать реальной меновой стоимостью, указывающая количество предметов первой необходимости и жизненных удобств, которым мог бы распоряжаться владелец заработной платы, доходов или товаров». На одной странице нам говорят, что стоимость пропорциональна изобилию предметов первой необходимости и удобств, а на другой нас уверяют, что возрастание стоимости может иметь место при фактическом уменьшении количества предметов первой необходимости и удобств. 195. Стр. 343. «Г-н Рикардо говорит (гл. XX): «Неизменной стоимостью обладал бы только тот товар, на производство которого во все времена требуется одинаковое количество труда и усилий» <Д. Рикардо, Начала политической экономии и налогового обложения, т. I, стр. 228. — Ред.>. Что означает здесь слово «неизменный»? Оно не может означать неизменный в своей меновой стоимости, так как г-н Рикардо сам признал, что товары, требующие одинаковой затраты труда и усилий, не часто обмениваются друг на друга. В качество меры меновой стоимости этот стандарт гораздо более изменчив, чем другие, отвергнутые г-ном Рикардо, и нелегко сказать, в каком ином смысле следует понимать это слово». Я признал, что рыночные цены могут быть различны, но я говорю, что товары, требующие одинаковой затраты труда и усилий, будут иметь одну и ту же естественную цену и будут поэтому проявлять постоянную тенденцию согласовываться также в рыночной стоимости, так как естественная цена представляет великий регулятор рыночной цены. Примечание к Главе седьмой. О непосредственных причинах прогресса богатстваК первым двум отделам этой главы Рикардо не сделал никаких примечаний. - Прим. англ. ред. 196. Стр. 352. «Без сомнения, возможно путём экономии сразу отдать большую, чем обычно, долю продукта какой-нибудь страны на содержание производительных рабочих; и совершенно верно, что производительные рабочие являются потребителями так же, как и рабочие непроизводительные. И что касается рабочих, при этом не произойдёт уменьшения ни потребления, ни спроса. Но выше уже было показано, что потребление и спрос лиц, занятых производительным трудом, никогда не могут быть достаточным мотивом для накопления и приложения капитала». Потребление и спрос лиц, занятых в производстве какого-либо определённого количества богатства, никогда не могут быть достаточным мотивом для производства его, если эти лица должны получить все произведённые товары и должны дать за них только труд, который произвёл эти товары; но предположим, что они получают семь восьмых этих товаров, а их наниматель удерживает только одну восьмую, с помощью которой он может снова нанять добавочно пять или десять человек, которые опять возьмут семь восьмых всех произведённых ими товаров, оставляя предпринимателю средства для найма добавочного числа рабочих в следующем году. Не могут ли такие накопления продолжать совершаться до тех пор, пока земля, поступившая в обработку в последнюю очередь, будет доставлять больше пищи, чем потребляется лицами, обрабатывающими эту землю? Если земля не будет давать столько пищи, то при любой системе будет положен конец всякому накоплению. Но если бы общество состояло только из землевладельцев, фермеров, владельцев предприятий по производству предметов первой необходимости и рабочих, накопление могло бы происходить до этого момента при условии, что население возрастает достаточно быстро. Если бы капитал возрастал слишком быстро по сравнению с населением, то, вместо того чтобы распоряжаться семью восьмыми продукта, население могло бы распоряжаться 99/100 <в рукописи вычеркнуто «или даже всем продуктом». — Прим. англ. ред.>, и таким образом не было бы никакого мотива для дальнейшего накопления. Если бы каждый человек был расположен накоплять каждую часть своего дохода, за исключением того, что необходимо для удовлетворения неотложных нужд, создалось бы именно такое положение, потому что принцип народонаселения недостаточно могущественен, чтобы удовлетворить такой большой спрос на рабочих, какой тогда существовал бы. Но положение рабочего было бы тогда весьма благоприятным, так как, что может быть лучше, чем положение человека, имеющего для продажи товар, на который существует почти неограниченный спрос, тогда как предложение ограничено и возрастает сравнительно медленно. Всё это соответствует общему принципу, о котором часто упоминали. Прибыль была бы низка, потому что была бы высока заработная плата, и продолжала бы оставаться низкой до тех пор, пока население не возрастёт и цена труда снова не упадёт. Г-н Мальтус спрашивает: «Как можно предположить, что возросшее количество товаров, добытое увеличенным числом производительных рабочих, нашло бы покупателей без такого падения цены, которое, вероятно, понизило бы их стоимость ниже издержек производства или по меньшей мере весьма сильно уменьшило бы как способность, так и волю к сбережению?» На это я отвечаю, что способность и воля к сбережению значительно ослабеют, ибо это должно зависеть от доли продукта, предоставляемой фермеру или промышленнику. А по другому вопросу — где найдут товары покупателя — я отвечу: если бы они отвечали нуждам тех, кто обладает покупательной способностью, они не преминули бы найти покупателей, даже без всякого падения цены. Если бы были произведены тысяча шляп, тысяча пар обуви, тысяча сюртуков, тысяча унций золота, они все обладали бы по отношению друг к другу относительной стоимостью, и эта относительная стоимость была бы сохранена, если бы они отвечали нуждам общества, независимо от того, достанется ли наибольшая доля рабочим или нанимателям. Если заработная плата низка, пожалуй, только половина этих товаров может быть отдана рабочим. Если она высока, то три четверти, — но, будут ли они в руках хозяев или рабочих, стоимость этих товаров не будет различной. Если 500 ф. ст. в деньгах были бы в руках хозяев, а 500 шляп, 500 квартеров пшеницы и т. д. и т. д. и все остальные товары в руках рабочих, относительная стоимость продукта была бы той же, как и в том случае, если бы 600 ф. ст. денег были в руках хозяев, а 600 <единиц. — Ред.> всякого другого товара и все остальные товары в руках рабочих. Как будет распределён продукт на деле, зависит от соотношения между капиталом и трудом, но как бы то ни было, на цены не будет оказано никакого влияния, если товары отвечают нуждам тех, кто может купить их. Если товары не отвечают нуждам покупателей, то в интересах производителей приспособить их к этим нуждам. Итак, из всего сказанного здесь мною следует, что, если произведённые товары будут отвечать нуждам покупателей, они не могут существовать в таком изобилии, чтобы не находить рынка. Люди могут ошибаться, и могут быть произведены товары, не отвечающие спросу; рынок может быть ими переполнен, они могут не быть проданы по обычной цене, но тогда это вызывается ошибкой, а не недостатком спроса на продукты. На каждую произведённую вещь должен найтись собственник, будь то хозяин, землевладелец или рабочий. Всякий владелец товара необходимо предъявляет спрос; либо он желает сам потребить этот товар, тогда нет нужды в покупателе; либо он желает продать свой товар и купить на деньги какой-либо другой, который будет потреблён им или использован для будущего производства. Товар, которым он владеет, даст ему другой товар или не даст. Если да, то цель достигнута, и товар его нашёл рынок. Если нет, то что это доказывает? Что он не сумел приспособить свои средства к этой цели, что он просчитался. Он нуждается, например, в хлопчатобумажных тканях и произвёл сукно с целью получить их. На рынке либо имеются хлопчатобумажные ткани, либо их нет; если они имеются, собственник желает продать их единственно с целью купить какой-нибудь другой товар; но он хочет получить не сукно, а шёлк, полотно или вино. Это сразу свидетельствует о том, что собственник сукна неудачно выбрал средство, с помощью которого он сможет приобрести хлопчатобумажные ткани; ему нужно было бы произвести шёлк, полотно или вино; если бы он это сделал, то на рынке не было бы излишка ни одного товара, между тем как теперь наверняка имеется излишек одного, а именно сукна, а возможно и двух, потому что хлопчатобумажные ткани, может быть, не требуются никому другому. Но на рынке, может быть, не имеется никаких хлопчатобумажных тканей, что же должен был бы производить тот, кто в них нуждается? Если не будет никакого товара, с помощью которого он мог бы купить их (самое нелепое предположение), то вместо того, чтобы производить сукно, в котором он не нуждается, он сможет сам производить хлопчатобумажные ткани, которые ему нужны. Я хотел бы особенно обратить внимание читателя на то, что во все времена специфическим злом является не изобилие товаров, а неправильное приспособление произведённых товаров к нуждам людей. Спрос ограничивается единственно желанием и возможностью покупать. Всякий, кто обладает товарами, имеет возможность потреблять, а так как людям удобно делить между собой занятия, отдельные лица будут производить один товар с целью купить другой; этот обмен обоюдно выгоден, но не абсолютно необходим, так как каждый человек мог бы употреблять свои средства и находящийся в его распоряжении труд в производстве именно тех товаров, которые он и его рабочие намерены потреблять: в этом случае не будет никакого рынка, и, следовательно, не может быть переполнения рынка. Раздел продукта между хозяином и рабочими — одно; обмен между теми, кому продукты в конечном счёте достаются, — другое. Я исследовал этот вопрос так подробно потому, что он представляет наиважнейший предмет обсуждения <первоначально в рукописи здесь стояло: «и то, что я считаю ошибочным мнением, упорно выдвигается г-ном Мальтусом во всех частях его сочинения». — Прим. англ. ред.> в сочинении г-на Мальтуса. Если его взгляды на этот вопрос правильны, если товары могут умножиться в такой мере, что никто не будет расположен покупать и потреблять их, тогда средство, которое он неуверенно рекомендует, несомненно, вполне пригодно. Если тот, кто имеет возможность потреблять, не будет ни сам потреблять произведённые им товары, ни содействовать их потреблению другими с целью воспроизводства; если из двух необходимых для спроса вещей — воли и возможности купить — будет отсутствовать воля к покупке и в результате последует всеобщий застой торговли, мы не можем сделать ничего лучшего, чем последовать совету г-на Мальтуса и обязать правительство изыскать средства для покрытия нужд населения. В этом случае нам следовало бы обратиться с петицией к королю, чтобы он уволил своих нынешних министров по экономическим делам и заменил их другими, которые успешнее содействовали бы важнейшим интересам страны, поощряя расточительность правительства. Мы являемся, повидимому, нацией производителей, среди нас мало потребителей, и это зло приобрело, наконец, такие размеры, что мы будем осуждены на безнадёжную нищету, если парламент или министры не примут немедленно эффективного плана расходов. 197. Стр. 354. «Отнюдь неверно на деле, что товары всегда обмениваются на товары. Огромная масса товаров обменивается непосредственно на труд, производительный или непроизводительный, и совершенно ясно, что эта масса товаров в силу избытка может понизиться в стоимости по сравнению с трудом, на который она должна обмениваться, так же точно, как любой товар в силу избытка предложения его понижается в стоимости по сравнению с трудом или деньгами». Совершенно верно: товары могут существовать в таком изобилии по сравнению с трудом, что стоимость их, оцениваемая в труде, понизится настолько, чтобы не давать никакого стимула для их дальнейшего производства. В этом случае труд будет распоряжаться большим количеством товаров. Это как раз то, что г-н Мальтус позже отрицает. Если г-н Мальтус имеет в виду, что может наступить такой избыток товаров, который сделает их разорительно дешёвыми при оценке в труде, то я согласен с ним, но это значит, другими словами, будто цена труда так высока, что он поглощает весь тот фонд, который должен принадлежать прибыли, и поэтому капиталист не будет заинтересован в продолжении накопления. А каково будет положение рабочего? Будет ли оно жалким? 198. Стр. 354. «В предположенном случае <продолжение предшествующей цитаты из книги Мальтуса. См. примечание 197 к стр. 354. — Ред.> на рынке было бы, видимо, необычайное количество товаров всякого рода, потому что и непроизводительные рабочие в силу накопления капитала стали бы производительными; поскольку общее число рабочих останется прежним, а покупательная способность и воля к покупке у землевладельцев и капиталистов, как предположено, уменьшатся, стоимость товаров в сравнении с трудом неизбежно понизится, так что прибыли сведутся почти к нулю, и на некоторое время дальнейшее производство прекратится. Но именно это понимают под выражением «переполнение рынка», которое в данном случае носит явно не частичный, а общий характер». Никто этого не отрицает. Понизилась бы трудовая стоимость товаров, но не их денежная стоимость. 199. Стр. 355. «Если бы продукты сравнивались только друг с другом и обменивались только друг на друга, то было бы действительно верно, что, если бы стоимость всех этих товаров увеличивалась в любой степени с сохранением надлежащей пропорции между отдельными товарами, относительная стоимость всех товаров сохранилась бы; но если сравнивать их, как, несомненно, следует, с численностью и нуждами потребителей, то большое возрастание количества продуктов при сравнительно стабильной численности потребителей и при сокращении их потребностей в силу бережливости должно необходимо вызвать большое понижение стоимости этих продуктов, оцениваемых в труде. Таким образом, хотя тот же продукт мог стоить прежнее количество труда, он не мог бы купить столько же труда, сколько прежде; и это сильно нарушило бы возможность накопления и ослабило бы стимулы к последнему». Я отрицаю, что потребности потребителей вообще уменьшаются в силу бережливости; вместе со способностью потреблять эти потребности переходят к другой группе потребителей. Я признаю, что будут нарушены способность и стимул капиталиста к накоплению. Примечание. Я отрицаю одно и признаю другое, как сказано выше, при предположении, что население растёт не с такой же быстротой, как фонды, которые предназначены, чтобы дать ему занятие. 200. Стр. 355. «Утверждают, что платёжеспособный спрос есть не что иное, как предложение обменять один продукт на другой. Но всё ли это, что необходимо для платёжеспособного спроса? Хотя производство каждого товара, возможно, стоило одного и того же количества труда и капитала, и товары являются точными эквивалентами в обмене, почему же всё-таки не может быть такого изобилия обоих товаров, чтобы они оба были в состоянии покупать не больше, или лишь немногим больше, того количества труда, какого они стоили? И в этом случае, будет ли спрос на эти товары платёжеспособным? Будет ли он достаточен, чтобы содействовать их непрерывному производству? Бесспорно, нет. Возможно, что их соотношение не изменилось, но их отношение к нуждам общества, их отношение к слиткам и их отношение к труду в стране и за границей могли претерпеть огромнейшие изменения». Если я дам унцию золота за квартер пшеницы, то эти товары, как допускает г-н Мальтус, эквивалентны друг другу в обмене. Но он спрашивает: «Не может ли быть такого изобилия обоих товаров, чтобы они оба были в состоянии покупать не больше, или лишь немногим больше, того количества труда, какого они стоили? Будет ли спрос на эти товары платёжеспособным? Будет ли он достаточен, чтобы содействовать их непрерывному производству?» Я отвечаю вместе с г-ном Мальтусом: бесспорно, нет. Но разве в этом предмет спора? Это значит только, иными словами, что, когда труд чрезмерно дорог в сравнении с товарами, прибыли будут так низки, что не будут служить стимулом к накоплению. Кто отрицает это положение? Первоначальное положение г-на Мальтуса заключалось в следующем: если капитал накоплен и произведено большое количество товаров, последние не будут свободно обмениваться друг на друга на рынке; на них не будет спроса. Могут ли два положения быть столь различны, как эти? Так как товары настолько изобильны, что не могут покупать больше труда, неужели обложение народа налогами и возрастание расходов правительства могли бы повысить прибыль, единственную вещь, желательную для обеспечения непрерывного производства товаров? 201. Стр. 356. «Большая трудность состоит именно в том, чтобы производить или добывать товары этого рода <обладающие меновой стоимостью выше обычной по отношению к затраченному на них труду. — Ред.>, и они, конечно, не представляют естественного и необходимого следствия накопления капитала и увеличения количества товаров, в особенности, когда такое накопление капитала и увеличение количества товаров вызваны экономией в потреблении или отказом от потворства таким вкусам и потребностям, которые являются главными элементами спроса». Г-н Мальтус говорит «об экономии в потреблении и отказе от потворства таким вкусам и потребностям, которые являются главными элементами спроса». Вся сущность спора сконцентрирована в этих словах. Г-н Сэй, г-н Милль и я говорим, что не будет ни экономии в потреблении, ни прекращения спроса. Как представляет положение дела сам г-н Мальтус? «Товары столь изобильны, что они в состоянии покупать не больше, или лишь немногим больше, того количества труда, какого они стоили». Но если большое количество товаров будет покупать малое количество труда, каждый рабочий будет иметь возможность потреблять большое количество товаров. Воля к потреблению существует всегда, когда есть возможность потреблять. Г-н Мальтус доказывает, что эта возможность не уничтожается, а переносится к рабочему. Мы согласны с ним и говорим, что всегда, когда есть возможность потреблять и есть воля к потреблению, неизбежно будет и спрос. 202. Стр. 357. «Хотя г-н Рикардо утверждает в качестве общего положения, что капитал не может быть в избытке, он вынужден сделать следующую уступку. Он говорит: «Есть только один случай, да и тот временный, в котором накопление капитала при низкой цене пищевых продуктов может привести к падению прибыли. Это бывает тогда, когда фонды на содержание труда возрастают гораздо быстрее, чем население: заработная плата в этом случае будет высока, а прибыль низка. Если бы каждый человек отказался от потребления предметов роскоши и думал только о накоплении, то возможно, что было бы произведено такое количество предметов насущной необходимости, которое не могло бы немедленно найти потребителей. За этим, несомненно, могло бы последовать общее переполнение рынка товарами, число которых ограничено, и, значит, могло бы не быть спроса на добавочное количество их, а применение дополнительного капитала не дало бы прибыли. Если бы люди перестали потреблять, они перестали бы производить». Затем г-н Рикардо прибавляет: «Это допущение не опровергает общего принципа» <Д. Рикардо, Начала политической экономии и налогового обложения, т. I, стр. 241. — Ред.>. Я не совсем согласен с этим его замечанием». Я действительно говорю, что «было бы общее переполнение рынка товарами, число которых ограничено». Но могло ли существовать такое положение вещей? Разве было бы произведено только такое ограниченное число товаров? Это невозможно, потому что рабочие были бы рады потреблять предметы комфорта и роскоши, если бы могли получить их, и в предположенном случае для достижения главной цели хозяев в интересах последних было бы производить такие товары, которые их рабочие имеют желание и возможность оплачивать. 203. Стр. 358. «Другая основная ошибка, в которую, повидимому, впадают названные авторы и их сторонники, заключается в том, что они не принимают во внимание влияние столь общего и важного принципа человеческой натуры, как беспечность или любовь к праздности. Было предположено, что, если бы известное число фермеров и известное число фабрикантов обменивались друг с другом излишками продовольствия и одежды и если бы их производительность внезапно настолько увеличилась, что и те и другие могли бы при помощи того же числа рабочих производить в дополнение к прежним продуктам ещё предметы роскоши, спрос не представлял бы ни малейшего затруднения, так как часть предметов роскоши, производимых фермером, обменивалась бы на часть предметов роскоши, производимых фабрикантом; и единственным, весьма благоприятным результатом было бы то, что обе стороны были бы лучше снабжены и получали бы больше благ. Но при этом обмене считаются доказанными две вещи, которые как раз и являются спорными пунктами. Считается доказанным, что люди всегда предпочитают роскошь праздности и что каждая из сторон потребляет свою прибыль как доход». Здесь г-н Мальтус снова изменяет своё положение. Мы не говорим, что праздность не может быть предпочтена роскоши. Я думаю, что может, и поэтому, если вопрос относился к мотивам производства, то между нами не было бы разногласия. Но г-н Мальтус предполагает, что этот мотив достаточно силен для производства товаров, а затем утверждает, что, когда товары произведены, для них не будет рынка, так как на них не будет никакого спроса. Именно это положение мы отрицаем. Мы не говорим, что товары будут производиться при всяких условиях, но, если они производятся, мы утверждаем, что всегда найдётся кто-либо, у кого будет желание и возможность потреблять их или, другими словами, на них будет спрос. Г-н Мальтус выдвигает пример общества, не накопляющего, предпочитающего праздность роскоши, не предъявляющего спроса на труд, не обрабатывающего земли, как доказательство плохих последствий, которые в действительности были бы результатом противоположного образа действий; такому обществу он противопоставляет другое, где капитал накоплялся бы, где активность заняла бы место праздности, где был бы величайший спрос на труд и где земли были бы сделаны наиболее производительными, ибо всё это включается в слово «накопление». Люди предпочтут праздность роскоши! Предметы роскоши тогда не будут производиться, потому что их нельзя произвести без труда, этой противоположности праздности. Если они не будут произведены, они не могут нуждаться в рынке и не может быть никакого переполнения ими рынка. 204. Стр. 360. «Г-н Рикардо говорит, что «если человеку, имеющему 100 тыс. ф. ст., дадут ещё 10 тыс. ф. ст. в год, то он не спрячет их в сундук: он или увеличит свои расходы на 10 тыс. ф. ст., или употребит их производительно, или, наконец, отдаст их для той же цели кому-нибудь другому взаймы. И в том и в другом случае спрос возрастёт, хотя и на различные предметы. Если бы он увеличил свои расходы, то его платёжеспособный спрос, вероятно, направился бы на такие предметы, как дома, мебель или какие-нибудь другие предметы комфорта. Но если бы он употребил свои 10 тыс. ф. ст. производительно, то его платёжеспособный спрос направился бы на предметы пищи, одежду и сырой материал, с помощью которых новые рабочие могли бы взяться за работу. Это опять-таки создаст спрос» <Д. Рикардо, Начала политической экономии и налогового обложения, т. I, стр. 240. — Ред.>. Согласно этому принципу предполагается, что, если бы более богатая часть общества отказалась от своих обычных удобств и предметов роскоши с целью накопления, единственным следствием этого было бы направление почти всего капитала страны в производство предметов первой необходимости, что привело бы к большому расширению обработки земли и росту населения. Но, если не предположить полной перемены в обычных мотивах к накоплению, это не могло бы случиться». Здесь обсуждается вопрос о мотивах накопления; не это является предметом спора, мы говорили только о следствиях накопления. Существует весьма отчётливое различие между этими двумя вопросами. 205. Стр. 361. «Само определение плодородной земли состоит в том, что это земля, могущая доставлять средства существования более значительному числу лиц, чем то, которое требуется для её обработки; если вместо того, чтобы расходовать этот излишек на удобства и предметы роскоши и на непроизводительных потребителей, землевладелец употребил бы его на то, чтобы занять обработкой земли столько рабочих, сколько он мог бы прокормить на свои сбережения, ясно, что он не только не обогатился бы, а, следуя по этому пути, он разорился бы...». Со всем этим я согласен, но это не имеет никакого отношения к вопросу. 206. Стр. 363. «Ясно, что без расходов, которые были бы стимулом для торговли, промышленности и для непроизводительных потребителей, или без аграрного закона, рассчитанного на изменение обычных мотивов накопления, у землевладельцев не было бы достаточного стимула для хорошей обработки земли, и такая страна, как Англия, из богатой и населённой, при таких привычках к бережливости, неизбежно стала бы бедной и сравнительно мало населённой». Другими словами, поскольку не было бы никакого мотива к бережливости и накоплению, при таких ограниченных потребностях не было бы ни бережливости, ни накопления, и, следовательно, страна с такими привычками к бережливости стала бы бедной и сравнительно мало населённой. 207. Стр. 363. «Пока фермеры были бы расположены потреблять предметы роскоши, производимые фабрикантами, а фабриканты — потреблять предметы роскоши, производимые фермерами, всё шло бы гладко; но, если бы одна из сторон или обе принялись сберегать, чтобы улучшить своё положение и обеспечить в будущем свои семьи, положение вещей стало бы совершенно иным. Вместо того чтобы приобретать ленты, кружева и бархат, фермер довольствовался бы более простой одеждой, но этой экономией он лишил бы фабриканта возможности покупать у него прежнее количество продуктов». Это верно, но не стали бы рабочие фабриканта покупать эти продукты или то, что было бы произведено вместо них? 208. Стр. 365. «Нужно было бы только незначительное население, чтобы при помощи хороших машин доставить простую одежду для такого общества, и оно поглощало бы только маленькую часть надлежащего прибавочного продукта с плодородных и хорошо обрабатываемых земель. Поэтому наблюдался бы, очевидно, общий недостаток спроса как на продукты, так и на рабочие руки». Особенная нужда была бы в рабочих. «Для фермера, — говорит г-н Мальтус, — было бы совершенно бесполезно продолжать обрабатывать свою землю только с целью доставить пищу и одежду своим рабочим, если бы он не мог сам ни потребить произведённый им прибавочный продукт, ни реализовать его в форме, в которой он мог бы передать этот прибавочный продукт своим потомкам». Что, кроме недостатка населения, могло бы помешать ему реализовать этот прибавочный продукт в форме, в которой он мог бы быть передан потомкам? Я — фермер, имеющий 1000 квартеров пшеницы, и моя цель — накопление состояния для моей семьи. С помощью этой пшеницы я могу нанять известное число людей для обработки арендованной мною земли, и после уплаты ренты за первый год я реализую 1 300 квартеров, или 300 квартеров прибыли. В следующем году, если на рынке много рабочих, я могу нанять большее число их, чем прежде, и мои 1 300 квартеров превратятся в 1 700, и так из года в год я буду увеличивать количество пшеницы, пока не доведу его до 10 тыс. квартеров, и если цена труда сохранится на прежнем уровне, я смогу распоряжаться в десять раз большим количеством труда, чем тогда, когда я начал свои операции <Когда у меня была 1 тыс. квартеров, всё это количество было потреблено в течение года, и так было в каждый последующий период — всё количество всегда потребляется и воспроизводится. Слово «накопление» вводит в заблуждение многих людей, и иногда я думаю, что оно вводит в заблуждение и г-на Мальтуса. Многие предполагают, что пшеница накопляется; между тем, чтобы сделать этот капитал производительным и увеличить богатство, пшеница должна постоянно потребляться и воспроизводиться. [Сноска Рикардо, написанная на отдельном листке. — Прим. англ. ред.]>. Разве я не накопил тогда состояние для своей семьи? Разве я не дал ей возможность пользоваться трудом рабочих каким ей угодно способом и наслаждаться плодами его? И что может помешать мне сделать это, кроме повышения цены труда или уменьшения производительных сил земли? О последнем мы уже говорили; это необходимо ограничивает всякое накопление. О повышении цены труда я также говорил; если рост населения не идёт наравне с увеличением капитала, цена труда повысится, и количество пшеницы, которое я должен был бы получать ежегодно, вместо того чтобы возрастать в отношениях 1 000, 1 300, 1 700 и т. д., могло бы в результате приносимых мною жертв ради получения требующихся рабочих увеличивать мой капитал только в отношениях 1 000, 1 200, 1 300 и т. д. Тогда действительная причина того, что моё накопление идёт медленным темпом, будет в том, что налицо недостаток рабочих рук; каким же образом может тогда г-н Мальтус утверждать, что «будет поэтому общий недостаток спроса как на продукты, так и на рабочие руки». Г-н Мальтус мог бы действительно сказать, что мои операции увеличат количество пшеницы скорее, чем это потребуется для прокормления существующего населения. Я соглашаюсь с этим, но если моей целью является накопление, то почему я должен производить именно пшеницу, а не какой-либо другой товар, на который может оказаться спрос? 209. Стр. 366. «Я уже сказал в одной из предшествующих глав, что стоимость капитальных затрат очень часто понижается не пропорционально падению стоимости продукта, полученного при помощи этого капитала, и часто одним этим можно объяснить низкий уровень прибылей. Но независимо от этого соображения очевидно, что по отношению к производству всех товаров, кроме предметов первой необходимости, теория совершенно проста. Вследствие отсутствия спроса эти продукты могут быть очень дёшевы, и большая доля всей произведённой стоимости может достаться рабочему, хотя он будет плохо оплачен в предметах первой необходимости, и его заработная плата может быть определённо низка как по отношению к получаемому им количеству пищи, так и по отношению к труду, нужному, чтобы её произвести». Существует большое желание накоплять капитал. Таково предположение. Следствием, согласно г-ну Мальтусу, будет то, что рабочий «будет плохо оплачен, и его заработная плата может быть определённо низка как по отношению к получаемому им количеству пищи, так и по отношению к труду, нужному, чтобы её произвести». Другими словами, я желаю накоплять капитал из своего дохода; если я употребляю свой доход как капитал, я буду нуждаться в рабочих; рабочий может производить в избытке, и всё же он будет плохо оплачиваем в товаре, который он производит, и в конечном счёте я не буду получать высокой прибыли и не смогу разбогатеть. 210. Стр. 367. «Если бы было сказано следующее: «вследствие того, что большая часть стоимости промышленных продуктов, согласно нашему предположению, поглощается заработной платой, можно утверждать, что причиной падения прибыли является высокая заработная плата», я наверное протестовал бы против такого явного злоупотребления словами. Единственным оправданным основанием для принятия нового термина или для употребления старого в новом смысле может быть желание сообщить читателю более точную информацию; но ссылаться в данном случае на более высокую заработную плату, а не на падение цены товаров значило бы поступать так, как будто у автора есть специальное намерение возможно больше скрывать от читателя действительное положение вещей». При предположенных условиях рабочий либо получил бы крупную долю хлеба, произведённого на земле, поступившей в обработку в последнюю очередь, или не получил бы крупной доли товаров, произведённых фабрикантом. Фермер, обрабатывающий участок земли, последним поступивший в обработку, есть фабрикант хлеба, он не платит ренты. В какой бы пропорции ни делился между хозяевами и рабочими продукт в обрабатывающей промышленности, в такой же пропорции будет разделён хлеб, продукт земледелия. Цена труда не может быть высока в обрабатывающей промышленности и низка в земледелии, и точно так же прибыль. Я думаю, что цена труда будет высока в обоих случаях, но г-н Мальтус протестует против того, чтобы заработную плату рабочего называли высокой из-за того, что он хорошо вознаграждается в товарах. Так вот, от г-на Мальтуса меньше всего можно было бы ожидать подобного возражения; от него мы не должны были бы слышать, что «это есть употребление старого термина в новом смысле или принятие нового, и это создаёт впечатление, будто у автора есть специальное намерение возможно больше скрывать от читателя действительное положение вещей». Я считаю, что г-н Мальтус — последний человек, который мог это сказать, потому что он говорил нам, что денежная заработная плата есть только номинальная заработная плата, что реальная заработная плата рабочего состоит в изобилии предметов первой необходимости и удобств, возможность приобрести которые рабочему даёт заработная плата. В действительности только эти удобства и предметы первой необходимости составляют реальную стоимость, а всё остальное есть стоимость номинальная. Итак, я нахожу, что рабочий хорошо оплачивается в реальной стоимости; когда же я говорю, что его заработная плата поэтому высока, г-н Мальтус серьёзно заявляет мне, что я употребляю термин в новом смысле, а это может только ввести в заблуждение и создать путаницу. Пусть не предполагают, что я принимаю в данном случае меру г-на Мальтуса; заработная плата высока как в его мере, так и в моей. Рабочий получит большую долю продукта, и поэтому я говорю, что его заработная плата высока. Его заработная плата будет высока в деньгах, если только деньги не изменились в стоимости, так как те самые причины, которые побуждают фермера и фабриканта давать высокую заработную плату в своих товарах, должны побуждать держателя денег давать высокую заработную плату в деньгах. Не выдвинуто достаточных соображений, почему относительная стоимость денег, хлеба и промышленных изделий должна измениться. 211. Стр. 367. «Г-н Рикардо признаёт, что приложению капитала к земледелию может быть поставлен предел ограниченными потребностями общества, независимо от истощения почвы. В предположенном случае этот продел по необходимости должен быть очень узким, так как кроме земледельцев почти нет людей, могущих предъявить эффективный спрос на продукты. При таких условиях мог бы быть произведен хлеб, который потерял бы характер и свойство богатства, и, как я уже отмечал раньше, все части продукта обладали бы неодинаковой стоимостью». Мог бы быть произведён хлеб, который потерял бы характер богатства! Тогда он был бы чрезвычайно дёшев; дёшев по сравнению с промышленными изделиями, дёшев по сравнению с трудом, и всё же г-н Мальтус говорит, что заработная плата может быть определённо низка. Низка в каком выражении? Не в хлебе, реальной мере стоимости г-на Мальтуса. Смотри стр. 357. 212. Стр. 368. «Я должен ещё заметить, что, если в связи с уменьшением спроса на хлеб земледельцы изымали бы свои капиталы, с тем чтобы установить лучшее соотношение между предложением и тем количеством, которое может быть оплачено надлежащим образом; если они все же не могли бы дать изъятому из земледелия капиталу никакого другого применения, а согласно прежнему предположению они не смогут найти ему применения, то, несомненно, что последствия для них как земледельцев были бы во всех отношениях таковы, как если бы произошло общее уменьшение всего их капитала, хотя в течение некоторого времени они могли бы извлекать достаточную прибыль из той небольшой части капитала, которую они будут попрежнему применять в земледелии». Фермеры, говорит г-н Мальтус, не могли бы употребить свои капиталы иначе, как на обработку земли. Я утверждаю, что они употребили бы их иным образом, так как иначе их капиталы не приносили бы прибыли. Либо капиталисты, либо рабочие имели бы право предъявлять спрос на продукт труда. То, на что они предъявили бы спрос, было бы произведено. 213. Стр. 369. «Если бы в процессе сбережения всё, что было потеряно капиталистом, было бы выиграно рабочим, препятствие, поставленное росту богатства, было бы только временным, как говорит г-н Рикардо, и не пришлось бы опасаться последствий этого. Но если превращение дохода в капитал, перешедшее за известный предел вследствие уменьшения платёжеспособного спроса на продукты, должно оставить рабочих без работы, то очевидно, что зашедшие слишком далеко привычки к бережливости могут сопровождаться сначала самыми гибельными последствиями и затем вызвать чувствительный и постоянный упадок богатства и сокращение населения». Здесь разногласие между мною и г-ном Мальтусом констатировано совершенно верно. Читатель должен сам судить, на чьей стороне истина. 214. Стр. 369. «Бережливость, или превращение дохода в капитал, может иметь место без всякого сокращения потребления, если первым возрастает доход». Я говорю, что это всегда происходит без всякого сокращения потребления. Г-н Мальтус усложняет это положение условием: «если первым возрастает доход». Я не понимаю, что подразумевает г-н Мальтус под условием «если первым возрастает доход». Прежде чего? 215. Стр. 370. «Всё, что я хочу сказать, сводится к тому, что никакая нация не может стать богатой путем накопления капитала в результате перманентного сокращения потребления, потому что, поскольку такое накопление значительно превысит размеры, нужные для удовлетворения эффективного спроса на продукты, часть его очень скоро потеряет свою полезность и стоимость и перестанет носить характер богатства». Под накоплением капитала из дохода подразумевается рост потребления производительными рабочими вместо непроизводительных. Потребление несомненно как в одном, так и в другом случае; разница заключается только в количестве продуктов. 216. Стр. 371. «Но г-н Рикардо не удовольствовался показом того, что трудность добывания пищи для рабочего есть единственная абсолютно необходимая причина падения прибыли, в чём я готов вполне и целиком с ним согласиться; но далее он сказал, что при настоящем положении вещей нет никакой иной причины падения прибылей, носящей сколько-нибудь перманентный характер». Разве я не сказал, что прибыль во всех случаях зависит от заработной платы? Я ссылаюсь с уверенностью на мою главу о заработной плате, чтобы показать, что, кроме трудности производства пищи, я допускал и другие причины повышения заработной платы также и для периодов значительной продолжительности. 217. Стр. 372. «Хотя г-н Рикардо следовал совершенно иным путём <чем Мальтус в «Опыте о народонаселении». — Ред.>, я думаю, что тот же ход рассуждения должен быть применён к норме прибыли и к развитию капитала. Вполне признавая, что вряд ли в четырёх частях света существует страна, где не было бы недостатка капитала, причём в большинстве стран этот недостаток очень велик по отношению к территории и даже к численности населения; вполне признавая в то же время крайнюю желательность роста капитала, я сказал бы, что там, где спрос на товары не таков, чтобы доставить производителю нормальную прибыль, и капиталисты не знают, где и как с выгодой применить свои капиталы, сбережение из дохода с целью ещё больше увеличить капитал привело бы только к преждевременному ослаблению стимула к накоплению и ещё больше затруднило бы положение капиталистов при очень малом увеличении полноценного и рентабельного капитала». Здесь снова сказано, что капитал может быть недостаточен, население избыточно и, следовательно, заработная плата низка и всё же употребление капитала не будет приносить производителю товаров справедливую прибыль. Я был бы рад, если бы г-н Мальтус сказал нам, что именно подразумевает он под низкой заработной платой в этом случае. Я называю заработную плату во многих случаях высокой, хотя номинально она низка, если выплачивается человеку, который выполняет небольшую работу или не выполняет никакой работы. Если бы я сказал, что желательно продолжать накопление капитала, когда он не приносит производителю никакой прибыли, то могло бы ещё быть некоторое основание для такого обвинения. Это нежелательно для капиталиста, но никогда не бывает убыточно для страны; было бы столь же разумно жаловаться на слишком большое производство, как на слишком большое обилие воды или воздуха. Я говорю только, что при таких обстоятельствах капитал не будет накопляться. 218. Стр. 372. «Первое, что требуется в обоих этих случаях недостатка капитала и недостаточной численности населения, — это эффективный спрос на товары, т.е. спрос тех, кто способен и желает платить за них надлежащую цену». Что подразумевается здесь под недостатком капитала? Если капитал недостаточен, может ли происходить какой-нибудь вред от накопления капитала путём сбережения из дохода, от увеличения того, в чём существует недостаток? Не имеет ли г-н Мальтус в виду недостаточную прибыль на капитал? При недостатке капитала прибыль была бы высока. 219. Стр. 375. «Хотя поэтому можно признать, что законы, регулирующие рост капитала, не так ясны, как законы, регулирующие рост населения, всё же несомненно верно, что и те и другие однородны; продолжать превращать доход в капитал с целью постоянного возрастания богатства, когда нет надлежащего спроса на продукты этого капитала, столь же напрасно, как продолжать поощрять браки и деторождение при отсутствии спроса на рабочих и без увеличения фондов для их прокормления». Соблазн увеличивать капитал возникает не из спроса на его продукты, так как этот спрос никогда не отсутствует, но из прибылей, возникающих вследствие продажи продуктов. Высокая заработная плата может совершенно уничтожить эти прибыли. То, что г-н Мальтус называет спросом на капитал, я называю высокой прибылью; капитал не покупается и не продаётся, его занимают из процентов, и высокий процент дают, когда прибыль высока. Язык г-на Мальтуса кажется мне в данном случае "новым и необычным" <намёк на то, что на стр. 215 Мальтус назвал «необычным» язык Рикардо. -- Ред.> О Т Д Е Л Ч Е Т В Ё Р Т Ы Й 220. Стр. 377. «Говорят <речь идёт о Рикардо. См. Д. Рикардо, Начала политической экономии и налогового обложения, т. I, стр. 241. — Ред.>, что лица, имеющие в своём распоряжении пищу и предметы первой необходимости, не будут долго испытывать нужду в рабочих, которые сделают их обладателями наиболее полезных и желательных для них предметов, но это положение, повидимому, находится в прямом противоречии с опытом». Это замечание относилось к Англии, а не к странам, только наполовину цивилизованным. 221. Стр. 378. «Однако, если взять в качестве примера отдельного рабочего и предположить, что он обладает в данной степени активностью и мастерством, будет совершенно бесспорно, что, чем меньше его рабочего времени тратится на добывание пищи, тем больше времени он сможет посвятить приобретению удобств и предметов роскоши; но нельзя применять эту истину к нации в целом и делать отсюда вывод, что, чем легче получать пищу, тем лучше население будет снабжаться удобствами и предметами роскоши; это было бы одним из тех поспешных и неправильных заключений, которые часто делают в силу недостатка должного внимания к изменению предпосылок, вызываемому применением положения, основывающегося на этих предпосылках». Если бы заработная плата рабочего была высока, он мог бы поступать как ему угодно, мог бы предпочесть безделие или роскошь; но если заработная плата низка, а прибыль высока <первоначальная редакция конца этого примечания в рукописи была следующей: «он должен производить удобства и предметы роскоши для своего хозяина, если он может с большой лёгкостью и за короткий промежуток времени произвести предметы первой необходимости, могущие ему самому потребоваться». — Прим. англ. ред.>, у него нет выбора, он должен производить удобства и предметы роскоши для своего хозяина или умереть с голоду; количество и качество этих предметов зависят от лёгкости производства и от времени, которое может потребоваться на их производство. 222. Стр. 379. «Очень мало удобств и предметов роскоши было бы у общества, если бы у главных агентов производства не было более могущественного мотива для деятельности, чем желание наслаждаться ими. Именно нужда в предметах первой необходимости главным образом побуждает рабочих производить предметы роскоши; и если бы этот стимул был устранён или значительно ослаблен так, чтобы можно было получить предметы первой необходимости при затрате очень небольшого труда, то есть все основания полагать, что на производство удобств затрачивалось бы не больше времени, а меньше». Не думает ли г-н Мальтус, что при современном положении Англии положение рабочего улучшилось бы, если бы он мог производить больше предметов первой необходимости в то же время и при помощи того же количества труда? Встревожился ли бы он, если бы следствием этого была любовь к праздности? 223. Стр. 380. «Но что мы видим в действительности, когда изучаем положение отсталых стран? Мы видим там, почти без исключения, что в обработке земли занята несравненно большая часть населения, чем в странах, где рост населения сделал необходимой обработку менее плодородных земель, а производству удобств и предметов роскоши в отсталых странах уделяется не больше, а меньше времени». На аргумент относительно технического мастерства, положения и мощи наиболее развитой страны отвечают ссылкой на положение отсталых стран, которые не знают ни мастерства, ни даже комфорта, доставляемого самыми обыкновенными удобствами. Правда ли, что все эти страны получают пищу с большей лёгкостью? Если они не знают наших технических усовершенствований, они не знают также некоторых известных нам способов производить с меньшей затратой труда. Г-н Мальтус говорит, что в Англии в земледелии занята меньшая часть населения, чем где-либо. Это очень возможно и весьма удовлетворительно, если это верно, но мы не должны забывать, что при обработке земли в Англии употребляется значительно большее число лошадей и рогатого скота; они подходят под название рабочих, потому что замещают последних, и их существование, так же как и существование рабочих, поддерживается продуктами питания. Примечание. К этому следует прибавить и более усовершенствованные машины, употребляемые в земледелии в Англии. 224. Стр. 381. «По подсчётам Зюсмильха, исчислившего по различным странам удельный вес населения, живущего в городах и не занятого в земледелии, самое высокое отношение составляет 7 : 3, т. е. на семь человек, живущих в деревнях, приходится три человека в городах; между тем в Англии удельный вес лиц, занятых в обработке земли, по сравнению с остальным населением составляет меньше чем 2 : 3. Этот необычный факт представляет разительное доказательство того, насколько опасно в политической экономии делать выводы из физических свойств материала, не обращая внимания ни на моральные, ни на физические качества агентов производства». Кто делал когда-либо выводы из физических свойств почвы без учёта её продуктивности соразмерно количеству затраченного на неё труда? Г-н Мальтус тратит очень много времени, стараясь опровергнуть то, чего никто никогда не выдвигал. Он предполагает, будто я сказал, что прибыли во всех странах зависят от плодородия земли, поступившей в обработку в последнюю очередь, и много трудился над доказательством того что это мнение не обосновано. Я никогда не держался такого мнения и не знаю, кто его придерживается. В каждой стране прибыли пропорциональны производительности труда на земле, поступившей в обработку в последнюю очередь, при непременном условии, что рабочие в каждой стране довольствуются одним и тем же количеством предметов первой необходимости; но, поскольку этого не бывает, так как в силу различных причин вознаграждение за труд меняется, прибыли зависят от той доли всего продукта земли, поступившей после всех в обработку, которая должна быть отдана, чтобы получить этот продукт. 225. Стр. 382. «... Человек, могущий раздобыть для своей семьи необходимую пищу, работая два дня в неделю, обладает физической возможностью трудиться гораздо дольше, чтобы добыть удобства и предметы роскоши, по сравнению с человеком, вынужденным затратить четыре дня, чтобы обеспечить себе пропитание; но если легкость добывания пищи порождает привычку к беспечности, последняя может заставить человека предпочесть роскошь безделья или кратковременного труда удовольствию от обладания удобствами и комфортом; в этом случае он может употребить меньше времени на труд ради удобств и комфорта и получит их в меньшем количестве, чем в том случае, если бы он вынужден был работать больше, чтобы получить пищу. Среди массы стран, нынешним положением которых можно было бы более или менее иллюстрировать и подтвердить истину этих положений, ни одна, пожалуй, не представляет более разительного примера, чем испанские владения в Америке, ценное описание которых недавно опубликовано г-ном Гумбольдтом». Здесь г-н Мальтус ещё раз старается доказать то, чего никто не оспаривает. Производство всех стран теперь всегда соразмерно их средствам производства! Допустим, но какой вывод хочет из этого сделать г-н Мальтус? Хочет ли он сказать, что он враг новых льгот для производства хлеба в Англии, потому что это сделает население беспечным, и эти льготы заставят людей потерять вкус к предметам роскоши и довольствоваться простейшим столом? Он должен иметь в виду именно это, или его аргумент бьёт мимо цели. Посмотрите на следствия дешевизны средств производства в Южной Америке, взгляните на беспечную расу жителей этой страны! К чему нам смотреть на них, разве только как на пример и предостережение, если станем прислушиваться к опасным проектам тех, кто хотел бы сделать хлеб дешёвым в нашей стране? Моя большая претензия к г-ну Мальтусу состоит в том, что он постоянно уклоняется от предмета спора. Сперва он начинает оспаривать положение о том, сделают ли известные меры хлеб дешевле, но, не закончив своей аргументации, старается доказать, что удешевление хлеба было бы нецелесообразно ввиду возможного морального влияния этого на народ. Это два совершенно различных положения. Г-н Сэй прекрасно сказал, что не дело политико-эконома давать советы; он должен сказать вам, как стать богатым, но не обязан советовать вам, чтобы вы предпочитали богатство беспечности или беспечность богатству. 226. Стр. 388. «Невозможно сомневаться хотя бы на одно мгновение, что беспечность туземцев значительно усугубляется их политическим положением; но, несмотря на такое политическое положение, беспечность их легко уступает под действием обычных побуждений; об этом свидетельствует быстрое развитие земледелия по соседству с новыми рудниками, где создаётся оживлённый и эффективный спрос на рабочие руки и продукты». Этот факт, относящийся к рудникам, показывает, как мало весь аргумент касательно Южной Америки применим к Англии. Действительно, меня поражает, как можно выдвигать его в оправдание того мнения, что и капитал и население могут быть в Англии избыточными в одно и то же время. Поскольку о нашей стране и о сходных с нею странах я сказал: «Если бы в моём распоряжении были пища и предметы первой необходимости, я недолго испытывал бы нужду в рабочих, которые доставили бы мне некоторые из предметов, наиболее полезные или наиболее желательные мне», г-н Мальтус облекает это положение в наиболее общую форму и пишет: «Говорят, что лица, имеющие в своём распоряжении пищу и предметы первой необходимости, не будут долго испытывать нужду в рабочих» <см. примечание 220 к стр. 377. — Ред.> и т. д. и т. д. Затем он ссылается на Южную Америку и старается показать, что там существуют лица, располагающие пищей и предметами первой необходимости, но не нанимающие рабочих, во-первых, потому, что не нуждаются в удобствах и предметах роскоши; во-вторых, потому, что рабочие не имеют никакой сноровки в изготовлении этих предметов, если бы даже нужда в них существовала, и, кроме того, они представляют беспечную расу, которую только с большим трудом можно заставить работать; и в-третьих, потому, что рынок товара, который легче всего производить, настолько ограничен, что всегда переполнен. Можно было бы дать ответ на многое из того, что здесь сказано о Южной Америке; можно показать, что всё совершенно согласуется с принципами, для опровержения которых выдвинуто положение г-на Мальтуса, но всё это так мало применимо к странам с плотным населением, с обилием капитала, технического мастерства, торговли и обрабатывающей промышленности и со склонностью ко всем удовольствиям, которые могут быть доставлены природой, искусством или наукой, что не требует серьёзного рассмотрения. 227. Стр. 389. «За исключением местностей по соседству с рудниками и вблизи больших городов, эффективный спрос на продукты не таков, чтобы побуждать крупных землевладельцев подвергать надлежащей обработке свои колоссальные земли; численность населения, с трудом добывающего средства существования, очевидно, в общем превышает спрос на труд, т. е. то число людей, которым страна может регулярно и постоянно давать работу при современном состоянии её земледелия и промышленности». Мне кажется, здесь налицо прямое противоречие. «Эффективный спрос на продукты не таков, чтобы побуждать крупных землевладельцев подвергать надлежащей обработке свои колоссальные земли». Разве нельзя ничего получить за продукт? Нельзя ли получить в обмен на него труд? И разве нельзя получить все богатства при помощи труда? Г-н Мальтус должен ответить на эти вопросы. «Население с трудом добывает средства существования, и, очевидно, численность его в общем превышает спрос на труд, т. е. то число людей, которым страна может регулярно и постоянно давать работу при современном состоянии её земледелия». Вот страна, степень плодородия которой почти баснословна и невероятна, с многочисленным населением, которое с трудом добывает средства существования и готово обменивать свой труд на продукты, и всё же существует такой малый спрос на продукты, что не создаётся стимула для обработки земель. 228. Стр. 390. «Такие землевладельцы <подобные тем, о которых говорит Гумбольдт. У Гумбольдта сказано: «небольшому числу могущественных семей принадлежит большая часть площади около Вера-Крус и Сан-Луис Потоси, и никакой закон не вынуждает этих богатых землевладельцев продавать свои майоратные земли, если они упорно не желают обрабатывать свои огромные владения». — Ред.> могут часто отказываться от обработки своей земли по капризу или беспечности. В общем, однако, можно было бы ожидать, что эта тенденция уступит, по крайнеи мере в значительной степени, более сильному влиянию личного интереса. Но порочное распределение земельной площади мешает тому, чтобы этот личный интерес действовал с такой силой, как он должен был бы действовать, чтобы дать толчок расширению площади обработки». Если это так, то не отсутствию спроса на продукт мы должны приписать оставление земли без обработки. «Порочное распределение земельной площади мешает тому, чтобы этот личный интерес действовал с такой силой, как он должен был бы действовать, чтобы дать толчок расширению площади обработки». Это я могу понять, но не так обстоит дело в Европе. Г-н Мальтус прежде говорил, что личный интерес не существует, потому что нет спроса на продукты. 229. Стр. 392. «Гумбольдт замечает, что «лица, серьёзно размышлявшие о богатстве мексиканской почвы, знают, что при более тщательной обработке земли и даже без чрезвычайно больших работ по орошению полей часть земли, поступившая в обработку, могла бы доставить средства существования для населения в восемь—десять раз более многочисленного»». Г-н Мальтус говорит: «Затем он <Гумбольдт. — Ред.> прибавляет совершенно справедливо: «Если плодородные равнины Аталиско, Холулы и Пуэблы не приносят более обильных урожаев, то главную причину следует искать в недостатке потребителей»». Может ли быть верно, что в такой стране существует слабый спрос на труд и что народу тяжело добывать средства существования? Смотри стр. 389 <примечание 227. — Ред.>. 230. Стр. 394. «Характерная черта Ирландии состоит в присущей ей способности содержать население, гораздо больше того, какому она может предоставить работу, и естественное и необходимое последствие такого положения вещей выражается в общем преобладанием привычек к праздности». Может быть, верно, что Ирландия содержит большее население, чем то, которому она даёт работу, но она содержит не большее население, чем то, которому она имеет возможность предоставить работу. Того, кто ест, если он здоров, можно заставить работать, если у него нет никаких других средств получения пищи. Из заявления г-на Мальтуса явствует, что в Ирландии выполняют весьма мало работ, хотя содержится большое население. В таком случае в этой стране за количество выполненного труда платится большая цена; капиталист получает только умеренную долю продукта, и потому, согласно моей теории, прибыль не очень высока; она не высока по отношению к дешевизне пищи. Г-н Мальтус отрицает этот вывод. Он утверждает, что землевладельцы и капиталисты владеют большим количеством пищи и предметов первой необходимости, и всё-таки они не в состоянии получить в обмен наиболее полезные и желательные им предметы. Прибыли зависят не от количества, а от пропорций. Почему капиталисты не в состоянии получить наиболее полезные и желательные им предметы за то количество пищи и предметов первой необходимости, которым они владеют? Потому, что, во-первых, при нынешнем состоянии технического мастерства и трудолюбия в Ирландии большое количество пищи или, что то же самое, стоимость большого количества пищи должна быть уплачена за результат очень умеренного технического мастерства и трудолюбия; и, во-вторых, потому, что пища и предметы первой необходимости, производимые в Ирландии, не имеют большой ценности в других странах, и, следовательно, они не будут обмениваться на сколько-нибудь большое количество продуктов технического мастерства и трудолюбия других стран. Я не говорил, что пища и одежда, достаточные для 100 человек, доставят средства для получения одного и того же количества полезных и желательных предметов в Англии, Ирландии или Южной Америке, но я сказал, что они доставят полезные и желательные предметы соразмерно состоянию технического мастерства и трудолюбия в соответственных странах. Если в стране не развито техническое мастерство и производимые товары не имеют ценности для других стран, в данной стране будет мало стимулов для накопления капитала; или же, если в стране техническое мастерство встречается редко и обходится дорого, то и это может быть также основанием, почему нет быстрого накопления капитала. Но какое отношение имеют все эти предположения к Англии, к стране, о которой я особо говорил? Существует ли здесь недостаток технического мастерства и прилежания? Разве здесь нет полезных и желательных предметов для тех, у кого есть средства распоряжаться трудом? Что, кроме цены труда, ограничивает их возможность доставать эти полезные и желательные предметы? Если цена труда высока, в распоряжении рабочих будут средства, чтобы получить часть этих предметов роскоши; если же она низка, почти всё достанется тем, кто имеет средства на наём рабочих. В случае с Ирландией г-н Мальтус измеряет её богатство не её способностью распоряжаться трудом — его стандартной мерой стоимости, а полезными и желательными предметами, возможность достать которые ей даст эта способность распоряжаться трудом. Какая польза в мере стоимости, если мы никогда не измеряем ею стоимость? 231. Стр. 398. «Сумма капитала, который может быть вложен в Ирландии в производство экспортных товаров, должна, очевидно, зависеть от состояния иностранных рынков; а сумма капитала, который можно было бы вложить в производство товаров для потребления внутри страны, должна, очевидно, точно так же зависеть от внутреннего спроса». Если бы в производстве товаров Ирландия была столь же искусна, как другие страны, и цена труда её рабочих была бы низка действительно, а не номинально; если бы большое количество труда могло быть получено за очень малое количество денег, какой предел был бы для продаж на иностранных рынках? Если бы Ирландия продавала, то разве она не стала бы также покупать? Разве она не может успешно соперничать со всеми другими странами в части добротности и дешевизны своих товаров? Если бы масса народа только и делала, что работала, не было бы никакого недостатка во внутреннем спросе. Недостаток спроса возникает только вследствие недостатка платёжных средств. Как только труд даёт свои результаты, найдутся не только желание, но и средства потреблять их. 232. Стр. 401. «Можно поэтому сказать, что положение Ирландии приводит почти к тем же выводам, что и положение Новой Испании, и оно доказывает: что способность содержать рабочих может часто существовать в гораздо большем размере, чем желание делать это». Это должно относиться к капиталисту, а не к рабочему и, по моему мнению, неприменимо к Ирландии. Есть ли там какой-либо не занятый капитал? 233. Стр. 401 <продолжение предшествующей цитаты. — Ред.> «...что необходимость уделять только незначительную часть времени производству пищи не всегда вызывает затрату более значительной части времени на добывание удобств и предметов роскоши». Конечно, нет, если бы выбор принадлежал рабочим, в каковом случае их заработная плата должна быть высока или, скорее, они должны получать хорошую плату за свой труд. И точно так же, конечно, да, если цена труда низка, а выбор в руках капиталистов. Предположить другое — значит предположить, что значительная часть капитала не найдёт применения. 234. Стр. 401 <продолжение предшествующей цитаты. — Ред.> «...что недостаток богатства в плодородной стране может скорее вызываться недостатком спроса, а не недостатком капитала». Верно, если заработная плата действительно высока; неверно, если она низка. 235. Стр. 401 <продолжение предшествующей цитаты. — Ред.> «...и вообще, что плодородие земли само по себе не представляет достаточного стимула для постоянного возрастания богатства». Верно, если народ беспечен, если его труд хорошо оплачивают и если его легко удовлетворить. 236. Стр. 404. «Извлечение капитала из одной отрасли <речь идет о высвобождении капитала в связи с изобретением машин. — Ред.> с целью вложения его в другую почти всегда сопровождается значительным убытком. Даже если весь остаток будет немедленно пущен в дело, сумма его уменьшится». Верно, что извлечение капитала из одной отрасли с целью помещения его в другую обычно влечёт за собой значительные убытки; но в предположенном случае эти убытки никогда не могут сравниться с выгодой, проистекающей из изобретения новой машины. Отдельный человек может пострадать, но общество выиграет. Верно, что, если весь капитал страны оценить в деньгах или в труде, после изобретения машин он стоил бы меньше, чем прежде, но из того, что капитал, оцениваемый по рыночной цене труда, имеет меньшую стоимость, мы не должны ещё вместе с г-ном Мальтусом делать вывод, будто он действительно будет давать работу меньшему числу рабочих. Способность давать работу зависит не от стоимости капитала, но именно от количества продукта, который он будет доставлять ежегодно. Я не могу поэтому согласиться с г-ном Мальтусом, что, «хотя капитал может доставить более значительный продукт, он не будет распоряжаться таким же количеством труда, как прежде; и если не будет увеличено число домашней прислуги, многие рабочие останутся без работы. Таким образом, способность всего капитала распоряжаться прежним количеством труда будет, очевидно, зависеть от возможного наличия незанятого капитала, который будет полностью извлечён из старых отраслей и немедленно найдёт эквивалентное применение в других отраслях». Насколько я понимаю г-на Мальтуса, он говорит следующее: предположим, что у меня 20 тыс. ф. ст. в хлопчатобумажном производстве, причём хлопчатобумажные ткани производятся усовершенствованными машинами так дёшево, что я считал бы целесообразным оставить эту отрасль; при этом впредь будет находить применение труд не такого же большого числа рабочих, если только я не смогу продать свою собственность в хлопчатобумажной фабрике, реализовать свои 20 тыс. ф. ст. в деньгах и затем найти для них эквивалентное применение в каком-нибудь другом деле. Из этих 20 тыс. ф. ст., возможно, 10 тыс. состоят из машин, которые могут быть совершенно бесполезны во всякой иной отрасли. Поэтому практически было бы невозможно вынуть из дела больше, чем 10 тыс. ф. ст. Следует помнить, что вопрос состоит не в том, можно ли изъять такую большую стоимость, а в том, может ли найти применение такое большое, как прежде, количество труда при уменьшенном капитале. Так вот, очевидно, что в данной отрасли всё количество находящего применение труда было пропорционально не 20, а 10 тыс. ф. ст. Нельзя было употребить больше труда, чем могли бы оплатить 10 тыс. ф. ст.; нет повода, чтобы было употреблено меньше труда и после изобретения усовершенствованной машины. Действительно, я допускаю, что человек, вынужденный изъять свой капитал, получит прибыль только на 10 тыс. вместо 20 тыс. ф. ст., но вопрос в том, будет ли находить применение меньшее количество труда и не выиграет ли общество больше, чем потеряет отдельное лицо; по этому пункту нет нужды приводить какие-либо дальнейшие аргументы, чтобы удовлетворить г-на Мальтуса, потому что он допускает это; он признаёт, что весь капитал стал бы доставлять продукт в большем размере. Так вот, общество заинтересовано главным образом именно в этом пункте; желательно, чтобы увеличилось наличие средств для достижения благ и чтобы при распределении этих благ на долю наиболее многочисленного класса народа не пало меньшее количество их. Мы видели, что на содержание труда будет употреблён прежний денежный капитал, а так как не предполагается, что население возросло или уменьшилось, то денежная заработная плата останется прежней. Но товары будут производиться уже в большем изобилии и дешевле; следовательно, заработная плата каждого человека доставит ему больше благ. Я нарочно представил дело в наиболее неблагоприятном для меня самого виде, предположив, что потеряют всякую стоимость 10 тыс. ф. ст. в основном капитале, который при новых обстоятельствах не может больше найти применение в хлопчатобумажной промышленности. Если, что вполне вероятно, он мог бы быть использован в какой-либо другой отрасли промышленности, он будет и дальше содействовать увеличению количества продуктов, что было бы ещё более благоприятно для потребителей. Если только при помощи труда стоимостью в 10 тыс. ф. ст. не могло бы быть произведено столько хлопчатобумажных тканей, сколько прежде при помощи труда стоимостью в 10 тыс. ф. ст. и основного капитала стоимостью в 10 тыс. ф. ст., ткани не могли бы так сильно понизиться в цене, чтобы стало целесообразным отказаться от 10 тыс. ф. ст. основного капитала как ничего не стоящего, так как, если цена хлопчатобумажных тканей была завышена при использовании старых машин на 1 500 ф. ст., она должна понизиться на 1 500 ф. ст., прежде чем в интересах фабриканта будет выгоднее отказаться от этих машин. Когда это случится, он получит только 15% прибыли на один из своих капиталов, и, как предположено, он сможет получить эту прибыль путём приложения своих 10 тыс. ф. ст. в какой-либо другой отрасли промышленности. Г-н Мальтус говорит: «Если для того, чтобы проверить принцип, мы пошли бы дальше и предположили, что без всякого расширения внешнего рынка для наших товаров мы могли бы посредством машин получить все товары, которые теперь используются, при помощи одной лишь трети применяемого теперь труда, то вероятно ли в какой-нибудь степени, что масса свободного капитала могла бы быть употреблена с выгодой или что масса рабочих, лишившихся работы, могла бы найти средства распоряжаться соответствующей долей национального продукта?» <эта цитата и следующие, приведённые в настоящем примечании, находятся на стр. 404—406 работы Мальтуса. — Ред.>. Я отвечаю: да. Предположим, три человека нанимали каждый по десять человек; один — в производстве обуви, другой — в производстве чулок и третий — в производстве сукна; все эти товары требуются и потребляются в обществе. Предположим теперь, что каждый из них изобретает усовершенствованный процесс, с помощью которого каждый может производить прежнее количество своего товара при помощи труда пяти человек; будут ли они, имея средства, чтобы употребить труд десяти человек, продолжать давать работу остальным пяти, конечно, не в производстве сукна, обуви и чулок, а в производстве какого-нибудь из многочисленных товаров, которые полезны и желательны людям? Поскольку это будет в их власти, не будут ли они производить шляпы, вино, пиво, мебель или какие-нибудь другие товары, к которым они могут иметь большую склонность? Ошибка г-на Мальтуса, мне кажется, заключается в том, что он думает, будто ничего не могло бы быть сделано без расширения внешней торговли. Разве мы все пресыщены нашими собственными продуктами? Разве никто из нас не хотел бы иметь больше одежды и лучшего качества, больше мебели, больше экипажей и лошадей, домов более удобных и большего размера? Пока у нас нет всех этих вещей в избытке, мы не можем безразлично относиться к лёгкости производства. «Крестьянин, которого можно было бы побудить работать дополнительное число часов ради чая или табака, может предпочесть праздность новому верхнему платью». В предположенном случае никто не был бы призван работать дополнительное число часов; он мог бы получить табак или чай и новое платье без дополнительного труда, а если бы у него не было ничего больше, то было бы у его хозяина. Чтобы обеспечить ему занятие, необходимо только, чтобы у его хозяина были потребности, которые, по мнению г-на Мальтуса, так трудно создать у рабочего. «Промышленник или торговец, который продолжал бы своё дело, чтобы иметь возможность пить и угощать гостей кларетом и шампанским, может считать, что увеличение производства отечественных товаров отнюдь не стоит такого постоянного внимания»! Он оставит тогда своё дело и будет жить на проценты с капитала, который, несмотря на это, будет употреблён так же производительно и с таким же старанием его преемником, ещё Не получившим достаточной части отечественных продуктов. «Там, где сумма доходов страны зависит в значительной степени от приложения труда, активности и внимания, в товарах должно быть нечто настолько желательное, чтобы уравновесить эти усилия, не то эти усилия прекратятся». Это, несомненно, верно, но в такой стране, как наша, есть сотни и тысячи людей, которые были бы счастливы при любых усовершенствованиях, какие только можно считать вероятными, проявить активность и внимание, необходимые для получения достаточно желательных для них товаров при помощи чужих средств, если бы последние были им доверены для этой цели, даже если предположить, чему я далеко не верю, что предметы недостаточно желательны, чтобы стимулировать усилия самих владельцев. «Очень мало кто просиживал бы в конторе шесть или восемь часов в день, чтобы купить товары, не обладающие другим достоинством, кроме затраченного на них количества труда». Я не стал бы особенно восхищаться мудростью этих людей, но это встречается очень часто. Откуда получают свою высокую стоимость золотая утварь, ювелирные изделия и кружева, если не из количества труда, которое было на них затрачено? И всё же есть люди, не жалеющие никакого труда, чтобы добиться их. 237. Стр. 405. «Если бы существовали другие отрасли внешней торговли, которые можно было бы сильно развить при помощи оставшихся незанятыми капитала и рабочих рук, положение сразу изменилось бы в корне, и доход от этой торговли мог бы создать достаточные стимулы, чтобы поддержать величину национального дохода. Но, если бы можно было добиться прироста производства только отечественных товаров, следовало бы опасаться ослабления напряжённости труда». Аргументация г-на Мальтуса здесь немного противоречива. Вы не могли бы, говорит он, найти занятие для ваших рабочих с капиталами, освободившимися вследствие применения машин, Я ожидал, что после этого он станет распространяться о нищенском положении этого класса и на этом основании выскажется против неограниченного применения машин. Как раз наоборот. Положение рабочего, сочувствовать которому нас призывает г-н Мальтус, якобы совершенно иное; рабочий будет взвешивать в уме, не предпочтёт ли он праздности новую одежду в добавление к чаю или табаку. Мелкий арендатор не будет знать, на что потратить свой прибавочный продукт, а забота торговца или промышленника будет состоять в том, сумеет ли он найти внешний рынок, где он мог бы обменять отечественные товары на кларет и шампанское, так как его положение будет настолько блестящим, что ничто, кроме этих тонких напитков, не сможет побудить его к продолжению обычной для него деятельности. Если в этом заключаются все страдания, которые обрушатся на нас вследствие недостатка спроса на отечественные товары, то я готов перенести их и не забочусь о том, скоро ли они начнутся. 238. Стр. 406. «Тем не менее верно, что, когда в стране создан большой доход в форме массы рент, прибылей и заработной платы, будет оказано большое сопротивление всякому существенному понижению стоимости этого дохода». В каком смысле употреблено здесь слово стоимость? 239. Стр. 408. «Если помимо этих соображений <Мальтус доказывает, что Англия может ввозить огромное количество предметов комфорта и роскоши только благодаря вывозу продуктов, производимых машинами, т. е. благодаря расширению внешних рынков. — Ред.> мы примем во внимание состояния, нажитые в отраслях промышленности, рынок для которых непрерывно увеличивается и которые непрерывно требуют больше капитала и больше рабочих рук; и если сопоставить это положение вещей с постоянной необходимостью изыскивать новые способы приложения того же капитала и тех же рабочих, часть которых оказывается незанятой в результате каждого нового изобретения, — мы должны убедиться, что положение Англии было бы совершенно отлично от нынешнего и что она никогда не приобретала бы такого дохода в ренте, прибылях и заработной плате, если бы в изобретении машин было проявлено то же искусство, но без расширения рынка для сбыта произведённых продуктов». Это есть лишь утверждение, что большие выгоды были достигнуты путём расширения рынка для товаров, которые мы смогли производить с значительной лёгкостью благодаря изобретению и употреблению машин и большой изобретательности нашего народа. Это замечание вполне справедливо, и, за исключением г-на Спенса и немногих его последователей, я не знаю никого, кто отрицал бы эти выгоды. Во всяком случае меня нельзя заподозрить в недооценке выгод свободной торговли. Торговля есть взаимный обмен удобствами и предметами роскоши. Пропорционально расширению рынка население каждой страны имеет возможность установить наиболее правильное разделение труда и наиболее выгодное использование своих сил. Это не только даёт ему возможность получать лучшие и более дешёвые товары, которые в случае отсутствия иных средств получения их оно само может производить, но и доставляет ему средства получения других товаров, которых без внешней торговли оно вовсе не получало бы, так как климат страны не пригоден для их производства. Таким образом, выгоды, извлечённые нами из внешней торговли, нашли полное признание. Усовершенствования в машинах вместе с обширным внешним рынком будут для нас гораздо выгоднее, чем усовершенствования без этого преимущества, так как это даст нам возможность посвятить своё время и внимание исключительно производству товара, в выделке которого мы обладаем превосходством. Не в этом, однако, предмет спора. Мы хотели бы знать, могут ли усовершенствования при каких-либо обстоятельствах быть для нас невыгодными. По аргументации г-на Мальтуса выходит, что это именно так. 240. Стр. 409. «Во время последней войны могучим помощником нам были паровые машины, давшие нам возможность распоряжаться громадным количеством иностранных продуктов и иностранных рабочих. Но, насколько было бы ослаблено действие этих машин, если бы мы не могли вывозить свои хлопчатобумажные ткани, сукно и металлические изделия?» Выгоды от паровых машин и т. д. в этом примере, по моему мнению, г-ном Мальтусом преувеличены. Введение более дешёвых средств производства товаров понизило цены последних и, следовательно, мы были вынуждены отдавать большее их количество другим странами обмен на данное количество их товаров. Таким образом, для других стран выгоды от наших усовершенствований после очень короткого промежутка становятся столь же большими, как для нас. Они представляют общий выигрыш для всех потребителей товаров, которые их покупают. Предположим, что страна изобрела усовершенствованные машины, с помощью которых она произвела товар, предназначавшийся целиком для иностранного рынка и не потребляемый внутри страны; в этом случае вся выгода от усовершенствования получена будет другой страной и ничего не достанется на долю страны, где были изобретены и использованы усовершенствованные машины, за исключением, правда, того преимущества, что никакой иной способ, быть может, не дал бы ей возможности использовать с лучшим эффектом свою промышленность как средство получения иностранных товаров, которые она желает купить. Это заключение, по моему мнению, не могут отрицать те, кто согласен со мною, что цены товаров в стране, а следовательно и за границей, понижаются пропорционально лёгкости их производства. Странно, что г-н Мальтус, так верно оценивающий выгоду, получаемую от расширения рынка, так сильно недооценивает выгоды, которые были бы извлечены из свободной торговли хлебом. Расширение рынка и свободная торговля — это два названия одного и того же, ибо что может дать более значительное расширение рынка для наших хлопчатобумажных тканей, сукна и металлических изделий, чем свободный доступ товара, с помощью которого другие страны могут покупать с наибольшим удобством наши товары? 241. Стр. 410. «Я спросил бы, есть ли малейшее основание говорить, что капитал, когда-либо сэкономленный на этих фабриках, не только будет сохранён и найдёт применение в другом месте, но и будет применён столь же выгодно и создаст такую же меновую стоимость, какую он мог бы создать в Манчестере и Глазго при расширяющемся рынке? <Мальтус указывает на рост населения и богатства в центрах машинной индустрии, в Манчестере, Лидсе, Глазго и др., и ставит его в связь с расширением рынка. — Ред.> Короче говоря, есть ли какое-либо основание для утверждения, что если бы экспорт хлопчатобумажных тканей, достигающий теперь 20 млн. ф. ст. в год, прекратился либо вследствие иностранной конкуренции, либо в связи с прямым запрещением, то нам было бы нетрудно найти для нашего капитала и для рабочих рук применение, столь же выгодное для отдельных лиц в смысле прибыли и представляющее для страны такую же возможнрсть обогащения в смысле меновой стоимости её дохода?» Я один из тех, кто думает, что капитал был бы применён в другом месте и притом с той же нормой прибыли, и всё же я не сомневаюсь, что, если бы экспорт хлопчатобумажных тканей был прекращён и мы были бы вынуждены вложить капитал, который был до того занят в этой отрасли промышленности, в другую отрасль, мы сильно пострадали бы от такой комбинации. Норма прибыли зависит не от внешней торговли, а от оплаты труда на земле, поступившей в обработку в последнюю очередь внутри страны, и от распределения продукта. Предположим, что всё это остаётся неизменным и что при переходе от внешней торговли к внутренней ничто не может вызвать изменения; тогда сохранится прежняя норма прибыли. Если прежде с капиталом в 20 тыс. ф. ст. я получал 2 тыс. ф. ст. прибыли в год, я продолжал бы получать ту же сумму, но при помощи своих 2 тыс. ф. ст. я не был бы в состоянии распоряжаться тем же количеством иностранных и отечественных товаров. Весь доход страны сохранил бы прежнюю денежную стоимость и, я сказал бы, прежнюю реальную стоимость, но поскольку эта стоимость была бы представлена меньшим количеством товаров, так как цена многих из них повысилась бы, то на тот же реальный доход можно было бы купить меньшее количество благ. Г-н Мальтус и я не расходимся по существу в этом вопросе. Он думает, что будет получена меньшая денежная прибыль, а цена товаров останется без изменения. Я думаю, что будет получена прежняя денежная прибыль, но цена товаров повысится. Наше кажущееся разногласие объясняется различием меры, которой мы измеряем стоимость. 242. Стр. 411. «Каждая страна, бесспорно, способна потребить все, что производит, как бы ни было велико количество произведённых товаров; каждый здоровый человек способен использовать свои умственные и физические качества в производительном труде в течение десяти или двенадцати часов в день. Но всё это сухие утверждения о силах страны, не ведущие к каким-нибудь практическим выводам относительно возрастания богатства. Если бы мы не имели возможности вывозить наши хлопчатобумажные ткани, несомненно, мы не желали бы потребить их все в стране, хотя и имели бы власть сделать это; сохранение нашего богатства и национального дохода зависело бы целиком от того обстоятельства, можно ли будет найти такое применение для капитала, изъятого из хлопчатобумажной промышленности, чтобы производились товары, ценимые столь же высоко и потребляемые так же жадно, как те иностранные товары, которые ввозились раньше». Требуется некоторое усилие, чтобы использовать свои умственные и физические качества в производительном труде в течение десяти или двенадцати часов в день, но не требуется совершенно никакого усилия, чтобы потребить всё, что было в муках человеком произведено. Одно доставляет муки, другое — наслаждение. Как можно считать одинаковыми столь различные вещи? В предположенном случае у нас не было бы, может быть, желания потребить все выработанные нами хлопчатобумажные ткани, но производящий их труд мог бы производить другие вещи, которые мы были бы склонны потреблять. 243. Стр. 412. «Во внешних рынках нет ничего магического. Конечный спрос и конечное потребление должны всегда реализоваться внутри страны, и внешние рынки были бы бесполезны, если бы можно было производить в стране товары, которые побуждали бы народ работать столько же часов в сутки, доставляли бы такие же блага и порождали бы потребление такой же стоимости». Счастье страны зависит от количества вещей, которыми она может наслаждаться, а не от «стоимости» этих товаров. В конце концов трудно понять, чего собственно желал бы г-н Мальтус в смысле применения машин. Мир можно рассматривать как одну большую страну; при такой точке зрения г-н Мальтус не возражает против самого широкого употребления машин, и в этом пункте я согласен с ним. Мы расходимся, повидимому, в следующем: я убеждён, что народ, живущий на самой ограниченной территории, по какой-то случайности никогда не имевший в прошлом и не могущий никогда иметь в будущем каких-либо сношений с иноземными странами, всё же будет извлекать бесспорные выгоды от «накопления капитала, повысившегося плодородия почвы и изобретений, экономящих труд». Г-н Мальтус думает, что во многих случаях это будут дары, гибельные по своим последствиям; по его мнению, чтобы быть благодетельными, они должны сопровождаться спросом. А так как я думаю, что спрос зависит только от предложения, по моему мнению, средства, ведущие к изобилию товаров, не могут не быть благодетельными. 244. Стр. 413. «Мы видели, что производительные силы, насколько бы они ни были развиты, сами по себе недостаточны, чтобы обеспечить создание соответственного богатства. Чтобы призвать эти силы к действию, необходимо, повидимому, ещё кое-что, а именно такое распределение продукта и такое приспособление его к нуждам будущих потребителей, чтобы меновая стоимость всей массы продукта постоянно увеличивалась». Это верно; неправильное распределение привело бы к таким последствиям, но какую лучшую гарантию от этого можно предоставить, нежели дозволение каждому человеку производить то, что ему угодно, и потреблять товар, который он сам произвёл, или обменивать его на продукт труда других людей. Его способность предъявлять спрос на товары должна зависеть от его умелого выбора предметов для производства. 245. Стр. 414. «Таким же образом наиболее сильным стимулом к постоянному производству всей совокупности товаров является увеличение меновой стоимости всей их массы, прежде чем на их производство будет затрачено больше капитала и больше труда, а этот рост стоимости вызывается таким распределением фактического продукта, которое наилучшим образом приспособлено к удовлетворению существующих потребностей общества и к созданию новых». Что подразумевается под «увеличением меновой стоимости всей массы товаров, прежде чем на их производство будет затрачено больше капитала и больше труда?» Если под этим подразумевается, что товары обладают большей стоимостью сравнительно с трудом, это окольная манера говорить, что стоимость труда понизилась <в первоначальной редакции: «...говорить, либо что повысилась стоимость товаров без соответствующего повышения стоимости труда, либо что определённо понизилась стоимость труда». — Прим. англ. ред.>. Так как г-н Мальтус измеряет стоимость труда количеством товаров, заработанных рабочим <в первоначальной редакции: «товарами, а не их стоимостью». — Прим. англ. ред.>, то в тех случаях, когда в силу какой-либо причины за труд даётся больше товаров, можно сказать, что повысилась цена труда, а в тех случаях, когда за труд даётся меньше товаров, можно сказать, что цена его понизилась. 246. Стр. 415. «После того как облегчились возможности распределения, повысились цены сельских продуктов и некоторых видов лондонских товаров, которые посылались в деревню для обмена; и это повышение было сильнее, чем понижение цен сельских продуктов на лондонских рынках или понижение цен лондонских продуктов на сельских рынках. Следовательно, стоимость всего продукта, т. е. товаров, доставляемых вместе Лондоном и деревней, значительно увеличилась; в то время как расширение спроса стимулировало, таким образом, приложение большей суммы капитала, вызванное этим расширением временное повышение прибылей должно было бы сильно содействовать доставлению требуемого добавочного капитала». В предположенном случае свободного обмена между Лондоном и деревней я сказал бы, что такой обмен сопровождался бы падением стоимости труда. Если бы можно было с большей лёгкостью перевозить хлеб из провинции в Лондон, его стоимость упала бы в Лондоне, а так как хлеб есть регулятор цены труда, то понизилась бы, вероятно, также стоимость труда и возросли бы прибыли. Но почему падает цена хлеба в Лондоне? Потому что меньшее количество труда необходимо от начала до конца, чтобы вырастить хлеб и привезти его в Лондон. Лёгкость сношений понизила бы цену сельских продуктов в Лондоне и лондонских продуктов в провинции, но цены сельских продуктов не повысились и не понизились бы в деревне, так же как цены лондонских продуктов — в Лондоне. В местностях, где они производятся, и в других местностях их цены регулировались бы издержками их производства. Примечание. В издержки производства я всегда включаю прибыль по существующей норме. 247. Стр. 417. «Во всех случаях, когда спрос на продукты велик, т. е. во всех случаях, когда меновая стоимость всей массы товаров будет покупать по прежней цене большее количество труда, чем обычно, есть такое же основание ожидать общего увеличения количества всех продуктов, как рассчитывать на увеличение количества отдельных продуктов, когда повышается их рыночная цена. И с другой стороны, всякий раз, когда понижается в стоимости продукт страны, измеряемый трудом, который он может купить, очевидно, что одновременно должны уменьшиться возможность и желание купить то же количество труда, и эффективный спрос на добавочный продукт должен на некоторое время уменьшиться». Как можно заметить, г-н Мальтус не упускает случая подчеркнуть значение спроса в деле стимулирования стран к напряжённому труду и всегда боится недостатка этого стимула. Поэтому желательно точно установить, какое значение он придаёт слову «спрос». Большой спрос на товары, по его словам, означает, что меновая стоимость массы товаров будет покупать по прежней цене большее количество труда, чем обычно. Предположим, что у меня есть шляпы, башмаки, чулки и т. д., стоимостью в 1 тыс. ф. ст. и что труд стоит 2 шилл. в день; тогда масса моих товаров будет стоить 10 тыс. дней труда. Если цена труда упадёт до 1 шилл. 8 пенсов в день, мои товары будут попрежнему продаваться за 1 тыс. ф. ст., но за них можно будет купить 12 тыс. дней труда. В таком случае, согласно г-ну Мальтусу, спрос на мои товары увеличился бы, и этот увеличенный спрос повлёк бы за собой расширение производства столь же неизбежно, как повышение рыночной цены отдельного товара повлекло бы за собой увеличение производства этого товара. Вместо того чтобы назвать это увеличением спроса и вместо того чтобы сказать, что стоимость товаров повысилась потому, что за них можно купить большее количество труда, — быть может, только вследствие избытка населения, ибо ничто другое не может вызвать понижение цены труда, выраженной в товарах, — я сказал бы, если мне позволено будет это выражение, что стоимость товаров не изменилась, а понизилась стоимость труда и что вследствие падения стоимости труда повысилась прибыль. Спрос на товары не стал бы ни больше, ни меньше, но хозяева имели бы право потреблять больше, а рабочие — меньше. Эти высокие прибыли могли бы повлечь за собой дальнейшее расширение производства или не повлечь его, смотря по тому, станут ли хозяева накоплять или тратить свои возросшие доходы. Когда прибыли повсеместно высоки, искушение производить большее количество товаров весьма отлично от того искушения расширять производство отдельного товара, какое вызывает высокая рыночная цена его. В последнем случае высокая прибыль может быть получена только путём производства этого одного товара; в первом же случае высокую прибыль получают все. Было бы к тому же ошибкой предполагать, что теперь были бы заняты рабочие, которые могут выполнить 12 тыс. дней труда, так как товары, оцениваемые в труде, стоили бы теперь 12 тыс. дней труда вместо 10 тыс.; это было бы верно, если бы хозяева употребляли производительно всё, что получили и что сберегли, но это не необходимое следствие. Если бы приятель в Португалии подарил мне бочку портвейна, стоящую 1 тыс. дней труда, стоимость товаров Англии повысилась бы на 1 тыс. дней труда, но, если я выпью это вино вместе со своей семьёй, ни один добавочный рабочий не получит работы. Я не хотел бы видеть, как «меновая стоимость массы товаров покупает по прежней цене большее количество труда», ибо как бы высоко я ни ценил выгоды, проистекающие из высоких прибылей, я не желал бы, чтобы эти прибыли возрастали за счёт рабочего класса. Я уверен, что г-н Мальтус питает на этот счёт то же чувство, что и я, и не замечает, что это есть условие, связанное с возросшей стоимостью массы товаров без увеличения их количества. Чего мы должны желать, так это увеличения количества товаров без увеличения их стоимости. Денежная стоимость массы товаров может в таком случае остаться прежней, и, если цена труда понижается с 2 шилл. до 1 шилл. 8 пенсов в день, положение рабочего может быть лучше, потому что на 1 шилл. 8 пенсов он может получить больше, чем прежде на 2 шилл. Норма прибыли повысится, как и прежде, но это произойдёт не за счёт рабочего класса; это будет только следствием увеличившейся производительности труда. 248. Стр. 417. «В главе о стоимости и богатстве г-н Рикардо сказал, что «известное количество предметов одежды и пищевых продуктов будет содержать и давать занятие тому же числу человек для выполнения того же количества работы независимо от того, произведены ли эти предметы трудом 100 или 200 человек. Разница только в том, что они будут стоить вдвое больше, если на их производство затрачен был труд 200 человек» <Д. Рикардо, Начала политической экономии и налогового обложения, т. I, стр. 230—231. — Ред.>. Но, если даже принять его собственную меру стоимости, это положение только в редких случаях окажется правильным. Предметы одежды и пищевые продукты, которые стоили только 100 дней труда, не могли бы никогда, кроме совершенно неестественных случаев, обеспечить выполнение такого количества работы, как если бы они стоили 200 дней труда». Я знаю это и радуюсь этому. Если бы это было возможно, то вся выгода досталась бы на долю прибыли. В высшей степени желательно, чтобы часть пошла на увеличение количества благ для рабочего. 249. Стр. 418. «В случае внезапного увеличения числа производительных рабочих в силу быстрого превращения дохода в капитал или в случае внезапного повышения производительности труда прежнего числа рабочих данная часть предметов первой необходимости, несомненно, не сможет привести в движение прежнее количество труда; и если меновая стоимость продукта понизится в большей степени, чем увеличится его количество (что весьма возможно), то в этом случае прежнее количество труда не будет приведено в действие увеличенным количеством предметов первой необходимости, и прогресс богатства приостановится». Я — фермер и произвожу 100 квартеров пшеницы, из которых 50 отдаю своим рабочим. Я улучшаю производительность своей земли, нанимая не больше рабочих, и получаю 120 квартеров; теперь я даю рабочим 55 квартеров. Шляпочник, суконщик, сапожник также совершенствуют своё ремесло и делят получаемый ими продукт между собой и своими рабочими в такой же пропорции. Разве общество не стало богаче? Разве оно не находится в лучшем положении, чем прежде? Называйте стоимостью что угодно, говорите о повышении или понижении товарных цен, но разве положение общества не улучшится? Г-н Мальтус говорит <в первоначальной редакции: «Может ли г-н Мальтус быть прав, когда говорит, что...». — Прим. англ. ред.>, что «в случае внезапного повышения производительности труда прежнего числа рабочих данная часть предметов первой необходимости, несомненно, не сможет привести в движение прежнее количество труда». Кому будет принадлежать продукт? Хозяевам или рабочим. Если первым, то они получат возможность распоряжаться большим количеством труда. Если последним, то, хотя будет применяться иное количество труда, чем прежде, рабочие будут в избытке, и при меньшем числе рабочих хозяева будут в таком же хорошем положении, как прежде. В этом случае будет ли г-н Мальтус считать злом, что данная часть предметов первой необходимости не сможет привести в движение прежнее количество труда? Весьма желательно, чтобы не смогла. 250. Стр. 418. «Такая приостановка <прогресса богатства. — Ред.> была бы ещё более очевидным следствием уменьшения спроса на продукт в результате упадка внешней торговли или в силу какой-либо другой причины. При этих обстоятельствах как количество, так и стоимость продукта скоро уменьшились бы, и, хотя в силу недостатка спроса труд был бы очень дёшев, капиталисты скоро потеряли бы как желание, так и возможность употреблять труд в таком же количестве, как и прежде». Сколь ошибочным кажется мне это заключение! 251. Стр. 419. «Во всех случаях непрерывное увеличение стоимости продукта, оцениваемой в труде, кажется абсолютно необходимым для постоянного и непрерывного роста богатства, ибо ясно, что без такого увеличения стоимости невозможно привести в движение новое количество труда». Боюсь, что утомляю читателя, так долго останавливаясь на этом предмете, но утверждение г-на Мальтуса в этом случае должно означать следующее: если страна удваивает производство всех видов товаров, она не станет богаче, если не сможет распоряжаться большим количеством труда. Я сказал бы, что её прибыль могла бы быть по стоимости не выше, но на неё можно было бы купить двойное количество благ, и богатство страны удвоилось бы. Г-н Мальтус соглашается, что богатство и стоимость не одно и то же, и всё же здесь он утверждает, что «непрерывное увеличение стоимости продукта кажется абсолютно необходимым для постоянного и непрерывного роста богатства». Не возрастёт ли богатство страны, если без применения большего количества труда вы сумеете удвоить количество товаров? 252. Стр. 419. «Оно <сбережение дохода с целью увеличить капитал без уменьшения стоимости продукта. — Ред.> может иметь место, и в действительности почти всегда имеет место вследствие предшествовавшего увеличения стоимости или дохода, и в этом случае сбережение может быть осуществлено не только без всякого уменьшения спроса и потребления, но и при фактическом повышении спроса, потребления и стоимости в течение всего процесса». Это, несомненно, один из путей. 253. Стр. 421. «Богатство страны приобретается в общем при помощи тех же средств, что и богатство торговцев, хотя и более медленно, т. е., несомненно, путём сбережений, но сбережений из выросших прибылей, и эти сбережения отнюдь не предполагают уменьшения расходов на предметы роскоши и комфорта». Приходится признать, однако, что отдельный человек может увеличить своё состояние путём уменьшения расходов на предметы роскоши и комфорта. Почему страна не может сделать то же самое? 254. Стр. 421. «Не один торговец составил крупное состояние, хотя в период приобретения этого состояния не было, быть может, ни одного года, когда он не увеличивал бы своих расходов на предметы роскоши, комфорта и на благотворительность». Это верно, но его собрат торговец, который, при прежних прибылях, избегал увеличения расходов на предметы роскоши, комфорта и на благотворительность, разбогатеет скорее, чем первый. 255. Стр. 422. «Быть может, скажут, что так подчёркивать роль распределения и измерять спрос меновой стоимостью совокупного продукта — значит ставить валовой доход страны выше её чистого дохода и высказываться в пользу такой системы земледелия и промышленного производства, когда в производстве всякого предмета употребляется больше всего рабочих рук». Здесь снова спрос измеряется меновой стоимостью товаров. Меновой стоимостью в чём? В труде? Предположим, вы прибавили бы 20% к количеству всех товаров страны и при помощи более высокой заработной платы дали бы рабочему классу возможность покупать все эти дополнительные товары — разве вы тогда не увеличили бы стоимость товаров, потому что на большее количество их можно будет купить только то же количество труда, что и прежде? Разве спрос не вырастет потому, что эти товары смогут располагать не большим количеством труда, хотя каждый рабочий будет иметь возможность и желание требовать и потреблять добавочное количество товаров! «Не в интересах производителя доставлять товары на таких условиях» — это не ответ, они доставлены. Мы не отрицаем, что у капиталиста нет стимула производить товары, на которые нельзя будет купить большее количество труда, чем то, которое было затрачено на их производство, но если он действует против своих интересов, то каким образом наносит он ущерб своей стране? Зачем сомневаться в спросе и потреблении уже произведённых товаров? Почему необходимо рекомендовать этому человеку не продолжать производства? Разве его собственныи интерес не подскажет ему, что он производит для того, чтобы другой потреблял? И, прежде всего, как может ему помочь налоговое обложение? Поскольку он не получает прибыли на часть своего капитала, кое-что должно быть взято у него или у рабочего, которого он нанимает. Не могу отгадать, как это может ему помочь. 256. Стр. 425. «...В различных странах, обладающих продуктом одинакового количества и одной стоимости, можно свободно располагать большей или меньшей долей продукта. В этом отношении страна с плодородной землёй обладает, несомненно, огромными преимуществами перед теми странами, чьё богатство зависит почти исключительно от промышленности. При одинаковом населении, одинаковой норме прибыли и при одинаковых количестве и стоимости продукта в стране, богатой землёй, можно свободно располагать гораздо большей частью богатства». Г-н Мальтус говорит, что «при одинаковом населении, одинаковой норме прибыли и при одинаковых количестве и стоимости продукта» в земледельческой стране по сравнению с промышленной страной «можно свободно располагать гораздо большей частью богатства». Я спрашиваю, каким образом эти страны могут иметь одинаковое население, одну и ту же норму прибыли и одинаковые количество и стоимость продукта? Сумма стоимости и количество продукта в промышленной стране должны быть разделены между заработной платой и прибылью, а в земледельческой — между рентой, заработной платой и прибылью. Если из одинаковой стоимости вы отдаёте заработной плате и прибыли одну и ту же стоимость, то что останется на долю ренты в земледельческой стране? 257. Стр. 425. «Из того, что было здесь сказано, читатель поймёт, что я ни в коем случае не могу согласиться со взглядами г-на Рикардо, высказанными им в главе о валовом и чистом доходе. Я ни на минуту не поколеблюсь сказать, что страна с чистым доходом от ренты и прибыли, представляющим средства пропитания и предметы одежды на 5 млн. человек, была бы, несомненно, более богата и более могущественна, если бы этот чистый доход был произведён трудом не 5, а 7 млн. человек, при предположении, что они одинаково хорошо живут. Весь продукт был бы больше, и из 2 млн. добавочных рабочих некоторые могли бы, без сомнения, свободно располагать частью своей заработной платы». Г-н Мальтус говорит: «Из 2 млн. добавочных рабочих некоторые могли бы, без сомнения, свободно располагать частью своей заработной платы». Тогда они получили бы часть чистого дохода. Я не отрицаю, что заработная плата может быть такова, чтобы дать рабочим часть чистого дохода; я ограничил моё положение случаем, когда заработная плата слишком низка, чтобы доставить рабочему какой-нибудь излишек сверх абсолютно необходимого. Г-н Мальтус цитировал меня неправильно. Я сказал: «Если 5 млн. человек могут производить столько предметов пищи и одежды, сколько необходимо для 10 млн., то пища и одежда для 5 млн. составляют чистый доход. Получит ли страна какую-либо выгоду, если для производства того же самого чистого дохода потребуется 7 млн. человек или, другими словами, если 7 млн. человек будут заняты производством одежды и пищи, достаточных для 12 млн. человек? Пища и одежда для 5 млн. продолжали бы оставаться чистым доходом. Использование более значительного числа людей не дало бы нам возможности увеличить число людей в армии и флоте ни на одного человека или внести хотя бы одну лишнюю гинею в виде налога. И если Адам Смит отдаёт преимущество такому употреблению капитала, при котором последний приводит в движение максимальное количество промышленного труда, то он это делает не потому, что, по его мнению, большое население доставляет какие-нибудь особенные выгоды или что при этом большее число человеческих существ может пользоваться благополучием. Нет, Адам Смит отдаёт предпочтение такому употреблению капитала только потому, что оно увеличивает могущество страны» <Д. Рикардо, Начала политической экономии и налогового обложения, т. I, стр. 285. — Ред.> и т. д. и т. д. Г-н Мальтус предполагает, что 7 млн. не потребуются. Это меняет моё положение, а не опровергает его <первоначальная редакция: «Это меняет мой аргумент». — Прим. англ. ред.>. Г-н Сэй тоже сделал замечание по поводу этого места, и, хотя я специально сделал оговорку, что я только отвечал на аргумент Адама Смита касательно способности платить налоги и т. д. и не рассматривал того, что, несомненно, было бы весьма достойно рассмотрения при каком-либо другом случае, а именно счастья столь многочисленных людей, он всё же говорит так, как будто это соображение не имеет в моей оценке никакого значения. Я уверяю его, что он несправедлив ко мне; ни на минуту я не забываю этого соображения и всегда придавал ему должный вес. 258. Стр. 426. «В общем, увеличение количества продукта и возрастание стоимости идут рядом, и именно это естественное и здоровое положение вещей больше всего благоприятствует прогрессу богатства». Редко случается иначе; все сбережения, сделанные за счёт расходов и прибавленные к капиталу, увеличивают сумму товаров и в то же время усиливают способность распоряжения трудом, мальтусовским критерием увеличения стоимости. Едва ли возможно, чтобы накопление могло происходить так быстро, что предложение труда не будет поспевать за ним. В этом случае масса товаров сможет распоряжаться не большим количеством труда. 259. Стр. 428. «Быстрому развитию Соединённых Штатов Америки в целом, несомненно, в сильной степени способствовала внешняя торговля и в особенности возможность продавать сырьё, добываемое при затрате небольшого количества труда, в обмен на европейские товары, стоившие гораздо большего количества труда». Для Америки совершенно неважно, стоят ли европейцам много или мало труда получаемые ею в обмен товары. Она заинтересована только в том, чтобы эти товары стоили ей меньше труда при приобретении их путём покупки, чем при самостоятельном производстве. 260. Стр. 429. «Мы знаем о большой роскоши государей и дворян в любой исторический период. Трудность не в том, чтобы внушить богатым вкус к роскоши, а в том, чтобы раздробить их огромные владения и создать большое число потребителей, которые имели бы возможность и желание покупать результаты производительного труда». Не всё ли равно, будет налицо один крупный потребитель или множество мелких? Недостаток чувствовался не в потребителях, а в производителях и в лицах, накопляющих капитал. Кроме того, требовались такие предметы, на которые можно было бы издержать доход <всё это примечание в рукописи перечеркнуто. — Прим. англ. ред.>. 261. Стр. 433. «Что касается эффекта от дробления собственности, то в настоящее время во Франции производится опасный эксперимент. Закон о наследовании в этой стране делит собственность всякого рода между детьми поровну, без учёта права старшего сына и без различия пола, и разрешает распоряжаться по завещанию только маленькой частью имущества. Этот закон существует еще недостаточно долго, чтобы можно было судить о влиянии, которое он, вероятно, будет оказывать на национальное богатство и на благополучие страны». Почему этот закон должен вызвать такое сильное дробление собственности? Ему будет противодействовать не только благоразумие в деле заключения браков, но и приобретение богатства каждым членом семьи. Эти приобретения, вероятно, дадут собственнику возможность оставить своим детям такое же большое наследство, какое он получил от своего отца. Его дети в свою очередь будут снова склонны и, вероятно, способны следовать примеру отца. Разве эта практика не господствует в настоящее время в Англии во всех семействах, кроме аристократических? Разве все торговцы, банкиры, фабриканты, фермеры, лавочники и т. д. и т. д. не делят свою собственность поровну между детьми и разве можно констатировать у нас какие-нибудь дурные последствия, ожидаемые г-ном Мальтусом во Франции? Из того, что земля может оказаться очень сильно раздроблённой в результате раздела её между детьми, вовсе не следует, что она должна была бы обрабатываться каждым из детей отдельно или что каждый из них должен оставаться собственником своей первоначальной доли земли. Будут осуществляться продажи, заключаться арендные договоры, и, как крупный землевладелец в настоящее время делит свою землю на отдельные фермы ради удобства и лучшей обработки, так и различные мелкие собственники смежных участков будут объединять свои мелкие земельные участки в одну крупную ферму для той же цели. 262. Стр. 434. «При таком положении вещей, когда естественное влияние собственности незначительно или вообще не существует и не ограничивает ни власти короны, ни неистовства народа, невозможно себе представить, чтобы могло быть сохранено такое смешанное правительство, какое теперь существует во Франции». Я не могу разделить опасений г-на Мальтуса за длительность существования свободного правительства при такой системе. 263. Стр. 442. «Если бы внутренняя торговля не содействовала увеличению стоимости национального продукта, ею не занимались бы. Именно из этого прироста стоимости оплачиваются торговцы; и если некоторые лондонские товары ценятся в Глазго не выше, чем в Лондоне, а некоторые глазговские товары ценятся в Лондоне выше, чем в Глазго, то торговцы, обменивающие товары, которыми торгуют эти города, не извлекут из этой торговли никакой выгоды, как не извлечёт её никто другой». Здесь, как и во многих других местах, г-н Мальтус, повидимому, думает, что торговля и обмен товаров в значительной степени увеличивают стоимость товаров и дают возможность торговцам увеличить сумму и стоимость своих прибылей и, затем, что из этого источника делаются все крупные сбережения и накопления. Несомненно верно, что если «некоторые лондонские товары ценятся в Глазго не выше, чем в Лондоне, а некоторые глазговские товары ценятся в Лондоне выше, чем в Глазго, то торговцы, обменивающие товары, которыми торгуют эти города, не извлекут из этой торговли никакой прибыли, как не извлечёт её никто другой» путём обмена этими товарами. Но доказывает ли это, что стоимость этих товаров увеличивается в результате обмена или что этот обмен доставляет добавочную прибыль на капитал торговцам, занятым пересылкой товаров из одного города в другой? Будет ли масса товаров в стране в результате этого обмена распоряжаться большим количеством труда, или будут ли товары обмениваться на большее количество какого-либо мерила известной стоимости? Цена металлических изделий в Лондоне зависит от их издержек производства, т. е. они будут производиться только при условии, что их цена возмещает все расходы на них вместе с обычной и средней нормой прибыли. Цена их, после незначительного промежутка времени, будет определяться тем, ограничится ли общий и обычный спрос на эти товары данным или десятикратным количеством. Г-н Мальтус мог бы сказать, что этот промежуток имеет большое значение, и если на товар будет спрос, то в течение этого промежутка фабрикант получит большую прибыль, и у него будет возможность сделать ценные сбережения. Я допускаю это, но за чей счёт будут созданы эти более значительные прибыли и увеличат ли они стоимость массы товаров? Если обычная цена известного количества металлических изделий составляет 100 ф. ст., а вследствие спроса я вынужден дать за них 110 ф. ст., торговец получит больше прибыли, но кто оплатит её? Г-н Мальтус обращает внимание только на фабриканта и желал бы заставить нас поверить, что последний получает большую прибыль, причём никто от этого не страдает, и, следовательно, для страны это представляет чистый выигрыш. Но я говорю, что платит потребитель, так как он должен выбрать один из трёх путей: или он должен удовольствоваться меньшим количеством металлических изделий; или должен отказаться от расхода 10 ф. ст. на какой-нибудь другой товар, который он обычно потребляет; или же, если он пользуется тем же количеством товаров, что и прежде, он не может увеличить свой капитал на 10 ф. ст. из сбережений в обычном для него размере. Если он сберегает 10 ф. ст. из своих расходов, он действительно даёт фабриканту металлических изделий возможность прибавить 10 ф. ст. к его капиталу из увеличившейся прибыли, но тот же результат получился бы, если бы при помощи других средств ему удалось бы сберечь 10 ф. ст. из своих расходов с той только разницей, что в одном случае они были бы прибавлены к его собственному капиталу, в другом — к капиталу фабриканта металлических изделий. В обоих случаях капитал страны увеличился бы на 10 ф. ст., и можно употребить больше труда, если стоимость последнего не возросла. И здесь я хотел бы ещё заметить, что это сбережение из возросших прибылей, по мнению г-на Мальтуса являющееся средством, при помощи которого создаются все большие состояния, в действительности представляет сбережение за счёт уменьшения расходов, за счёт источника сбережения, весьма сильно недооцениваемого г-ном Мальтусом, как это видно на стр. 421 его труда. Но вернёмся к непосредственному предмету нашего спора. Если покупатель металлических изделий покупает обычное количество товаров, он не в состоянии сберегать по 10 ф. ст., т. е. столько же, как прежде, и в этом случае сбережение может быть действительно сделано фабрикантом металлических изделий, но за счёт сбережений другого члена общества, и тогда ничего не будет прибавлено к капиталу страны. Если вы теперь предположите, что спрос торговца для глазговского рынка не повышает цены металлических изделий в Лондоне, но что тем не менее этот торговец может получить с глазговского потребителя высокую прибыль, то я могу сделать аналогичное замечание. Либо он получит на свой капитал обычную и среднюю прибыль, либо получит более высокую прибыль. Если он получит только обычную прибыль, нет никакого основания сказать, что этой сделкой он прибавил что-нибудь к капиталу страны. Если его прибыль высока, выше обычного уровня, она может оставаться таковой только до тех пор, пока другие капиталисты не станут конкурировать с этим торговцем, и тогда его прибыль и цена его товаров понизятся до своего естественного уровня. Мне могут опять сказать, что сбережения делаются и капиталы увеличиваются именно в тот период, который характеризуется высокой прибылью, но мой ответ будет таким же, как прежде. Когда цена металлических изделий падает в Глазго до своего обычного уровня, будут ли сбережённые покупателями этого товара средства затрачены на другие вещи или они будут прибавлены к капиталу? Если мне скажут, что они будут затрачены на другие вещи, то тогда я признаю, что перемещение 10 ф. ст. из кармана потребителя в карман торговца в сезон высокой прибыли может быть благоприятно для накопления капитала, так как мне известно, что один может быть расточителен, а другой, возможно, будет делать сбережения; но здесь снова нужно признать, что столь же благоприятные результаты были бы достигнуты, если бы при понижении цены товаров потребитель сберёг 10 ф. ст. из своих расходов и прибавил их к своему капиталу. Средняя прибыль страны зависит, как я часто указывал, от состояния заработной платы; когда заработная плата низка, прибыль должна быть высока, но взятая в отдельности прибыль отдельной группы фабрикантов или отдельной группы торговцев должна зависеть, каково бы ни было состояние заработной платы, от цены, которую они могут потребовать за своп товары от потребителей. Естественная цена известного количества сукна, известного количества башмаков, известного количества шляп и т. д. будет, по нашему предположению, 100 ф. ст. Если собственник сукна может получить за своё сукно 110 ф. ст., это должно быть сделано за счёт потребителя, а так как эти потребители могут купить этот особый товар только за тот товар, которым они владеют, то повышение его цены будет для них равносильно понижению цены их товара. Если до повышения цены сапожник отдавал половину башмаков за половину сукна, то теперь, когда цена сукна поднялась до 110 ф. ст., он должен давать на 1/10 больше, или 55% своих башмаков за прежнее количество сукна. Тогда во всех случаях излишек прибыли в отдельной отрасли промышленности будет получаться за счёт потребителя, и пропорционально тому, насколько при этом один торговец получает большую возможность увеличивать свой капитал, возможность другого торговца увеличить свой капитал уменьшается. Когда торговец получает крупную прибыль, продавая свои товары другим странам по высокой цене, то его прибыль есть прибыль для той страны, в которой он живёт, но она тем не менее получена за счёт потребителя, а в этом случае потребителем является иностранец, и прибыль перемещается из одной страны в другую. Из того, что я сказал, не следует делать вывод, будто я недооцениваю выгоды, которые произойдут от взаимного обмена товарами как для Глазго, так и для Лондона. Я только отрицаю, что эти выгоды проявятся в форме высокой прибыли и возросшей стоимости. Поскольку труд как в Лондоне, так и в Глазго будет направлен более производительно, оба эти города извлекут из этой торговли выгоду. Если бы Глазго производил для себя металлические изделия или Лондон — хлопчатобумажные ткани, в итоге каждый город получил бы при помощи данного капитала меньше металлических изделий и хлопчатобумажных тканей. При лучшем разделении труда хлопчатобумажные ткани будут дешевле в Лондоне и металлические изделия — дешевле в Глазго; тогда выгода для обоих городов заключается не в приросте стоимости, но в том, что при той же сумме стоимости оба в состоянии потреблять и использовать большее количество товаров, и, если у них не будет склонности покупать дополнительное количество товаров, у них останется больше средств для сбережения из своих расходов. Итак, не может быть верно, что «стоимость дохода будет больше или меньше соответственно рыночным ценам произведённых товаров», так как если предположить, что издержки производства товаров не изменяются, высокая рыночная стоимость одного товара в действительности означает низкую рыночную стоимость другого; товары покупаются на товары, и если стоимость сукна высока при оценке в шёлке, то шёлк должен иметь низкую стоимость при оценке в сукне. Если прибыль суконщика высока при оценке в шёлке и во всех других товарах, то только потому, что в эту прибыль вложена часть средств всех потребителей сукна. 264. Стр. 444. «В распределении товаров средства обращения каждой страны играют весьма важную роль; и, как я уже упоминал в одном примечании, мы не разъясним, а скорее затемним смысл наших рассуждений, если откажемся принять в соображение средства обращения. Без ссылки на средства обращения поистине нелегко определить, происходит ли распределение товаров страны таким образом, чтобы им была придана надлежащая стоимость». Для разъяснения правильных принципов не имеет значения, в каком мериле оценивается стоимость, при условии только, чтобы само мерило было неизменно. Деньги, хлеб, труд — все одинаково хороши. Мне кажется, что г-н Мальтус, употребляя в качестве мерила деньги, часто ошибочно принимает изменения в самих деньгах за изменения в товарах, о которых он говорит. Изменение в стоимости денег не оказывает никакого влияния на относительную стоимость товаров, так как оно повышает или понижает их цену в одинаковой пропорции, но именно изменение в относительной стоимости товаров, в особенности предметов первой необходимости и предметов роскоши, производит наиболее важный эффект с точки зрения политико-эконома. 265. Стр. 443. «Если фермер продавал свой продукт только за две трети цены, по которой он продавал его прежде, то очевидно, что он был совершенно не способен распоряжаться тем же количеством труда и применять то же количество капитала на своей ферме, как за год до того. И когда затем произошло большое падение денежной цены всех промышленных изделий, вызванное в значительной степени предшествовавшим падением цен на сырьё, то столь же очевидно, что фабриканты не могли впредь распоряжаться трудом такого же числа рабочих, как прежде». Будет ли фермер в следующем году распоряжаться тем же количеством труда, зависит от цены труда. Вероятно, фермер попал бы в очень затруднительное положение, даже если бы цена труда понизилась в некотором соответствии с ценой хлеба, потому что его контракт с землевладельцем обязывает его платить денежную ренту; эта рента остаётся той же, какова бы ни была цена продукта. Если, однако, фермер может использовать меньше рабочих, то землевладелец, если он получает ренту, может использовать больше. Г-н Мальтус думает, что уменьшится способность использовать труд и, следовательно, уменьшится спрос на него; он допускает, что цена главного потребляемого рабочим продукта — цена хлеба — упадёт, и всё же в своей аргументации он предполагает, что цена труда будет прежней. Г-н Мальтус прибавляет: «И когда затем произошло большое падение денежной цены всех промышленных изделий...». Но почему цена промышленных изделий должна упасть? Их издержки производства остались прежними, и хлеб понижается в цене по отношению к ним только потому, что налицо изобилие хлеба, он производится дёшево, а промышленные товары — дорого. Что случилось? Количество хлеба увеличилось, количество товаров в сравнении со всем населением фактически выросло, каков же будет результат, согласно г-ну Мальтусу? Всеобщая нужда всех классов. Я могу понять, почему попал бы в затруднительное положение фермер, как я уже объяснил. Но не каждый человек есть производитель хлеба, взявший на себя обязательство платить денежную ренту. Предположим, что заработная плата падает пропорционально сбережению средств, которое делает рабочий при покупке хлеба; он был бы всё-таки в состоянии купить столько же промышленных товаров, как и прежде; если бы его заработная плата не упала, он мог бы купить больше. Каждый фабрикант в свою очередь мог бы купить больше промышленных товаров у других фабрикантов. При уменьшении расходов на хлеб он мог бы больше расходовать на другие предметы; в том же положении был бы и землевладелец, и, хотя спрос на промышленные изделия со стороны земледельческого класса, несомненно, уменьшился бы, нельзя, я думаю, оспаривать того, что он возрос бы со стороны всех других классов; тогда денежная цена промышленных изделий не понизилась бы, и фабриканты могли бы распоряжаться трудом такого же количества рабочих, как и прежде; если бы цена труда упала, они могли бы нанять больше рабочих. 266. Стр. 446. «Среди изобилия предметов первой необходимости способность этих двух важных классов общества <фермеров и фабрикантов. — Ред.> давать рабочим занятие реально уменьшится, тогда как способность давать занятие рабочим увеличится у всех лиц с постоянным доходом, но при этом мало шансов на то, что усилится их воля к пропорциональному расширению спроса, и общий результат будет аналогичен действию такого частичного распределения продуктов, какой вызывается перерывом в привычных связях. В течение короткого времени могло бы быть произведено прежнее или большее количество товаров, но, поскольку распределение их не способствует тому, чтобы предложение всюду соответствовало спросу, понизится меновая стоимость всей совокупности товаров, и производство всей страны испытает определённый удар». Г-н Мальтус говорит: «Понизится меновая стоимость всей совокупности товаров». Что это значит? Понизится ли их денежная стоимость? Г-н Мальтус ответил бы утвердительно. Тогда я спрашиваю, будет ли эта денежная стоимость распоряжаться большим количеством труда? Г-н Мальтус говорит, что рабочие классы будут лишены работы; если так, то денежная стоимость будет распоряжаться большим количеством труда, чем прежде. Разве реальная стоимость товаров в таком случае не повысилась согласно тому определению реальной стоимости, какое даёт г-н Мальтус? 267. Стр. 447. «... Самые ясные принципы политической экономии показывают, что прибыль на капитал могла бы в течение любого периода быть ниже, чем это необходимо при данном положении страны». С земли, поступившей в обработку в последнюю очередь и с которой не платится рента, прибыль не может быть в течение любого периода времени ниже, чем это делает необходимым положение страны и вознаграждение рабочего. В таком случае должны бы существовать две нормы прибыли на капитал: одна норма для капитала, занятого в земледелии, и другая — для капитала, занятого в обрабатывающей промышленности, и всё же один капиталист мог бы свободно переместить свой капитал в сферу приложения другого. Может ли это быть? 268. Стр. 448. «Мотив, побуждающий людей заниматься внешней торговлей, в точности тот же, какой побуждает людей обмениваться товарами между отдалёнными частями одной страны, а именно: повышение рыночной цены местных продуктов; повышение прибыли, получаемой отдельным лицом, или предотвращение такого её понижения, какое произошло бы при использовании капитала внутри страны, следует рассматривать как пропорциональное увеличение стоимости национального продукта». Смотри примечание к стр. 442 <примечание 263. — Ред.>. 269. Стр. 449. «Г-н Рикардо начинает свою главу о внешней торговле, говоря, что «никакое расширение внешней торговли не может увеличить непосредственно сумму стоимостей в стране, хотя оно и будет очень сильно способствовать увеличению массы товаров и, следовательно, количества жизненных удобств» <Д. Рикардо, Начала политической экономии и налогового обложения, т. I, стр. 112. — Ред.>. Это положение вполне согласуется с его особой точкой зрения на стоимость, якобы зависящую единственно от количества труда, которого стоила вещь. Как бы ни была обильна выручка торговца и как бы ни превышала она стоимость его вывоза в обычном понимании слова, несомненно, что количество рабочих, занятых в производстве предметов вывоза, сначала останется прежним. Но поскольку ясен и неоспорим тот факт, что выручка от чрезвычайно выгодной торговли обменивается на чрезвычайно большое количество денег, труда и отечественных продуктов; поскольку именно эту возросшую возможность распоряжаться деньгами, трудом и продуктами имеет действительно в виду торговец, когда говорит о расширении внешнего рынка и о выгодной торговле, то мне кажется, что такое положение вещей, которое может длиться и часто действительно длится достаточно долго, чтобы привести к важнейшим результатам, является единственным и решающим доказательством того, что точка зрения на меновую стоимость как зависящую исключительно от издержек производства в корне неправильна и совершенно бесполезна для объяснения замечательных явлений, сопровождающих рост богатства». Я вполне согласен с г-ном Мальтусом, что это правильный критерий для суждения о прибылях торговцев, но я утверждаю, что эти прибыли не представляют чистого выигрыша, а часто делаются за счёт сбережений некоторых из сограждан. «Если иностранная держава, — говорит г-н Мальтус, — послала бы в дар отдельному торговцу товары нового рода, которые были бы проданы на лондонском рынке за 50 тыс. ф. ст., богатство этого торговца увеличилось бы на эту сумму; и кто, спросил бы я, стал бы беднее?» Это зависело бы от характера товаров и от фонда, из которого эти товары были бы куплены потребителями у торговцев. Если они были куплены из того фонда, который иначе был бы сбережён, и если купленные таким образом товары были немедленно потреблены, то благодаря этому дару капитал страны не увеличится; единственным следствием было бы увеличение количества благ в данном году. Если эти товары были куплены вместо какого-либо другого товара, если этот другой товар был дан торговцу в обмен на иностранный товар и употреблён им в качестве капитала, то в этом случае результатом этого дара было бы общее увеличение сбережений на 50 тыс. ф. ст. Этот пример ничем не отличается от примера Глазго и Лондона. Накопление сделано в результате более крупных сбережений из годового дохода страны. Вам были даны 50 тыс. ф. ст., которые вы решили сберечь и прибавить к своему капиталу. 270. Стр. 450. «Мно кажется, что, если бы первые две фразы г-на Рикардо в главе о внешней торговле имели основание, между странами не существовало бы таких торговых сношении». Г-н Мальтус не понимает меня. Я вовсе не думаю буквально, что ввозимый товар будет иметь не большую стоимость, чем товар вывозимый; стоимость первого должна быть больше стоимости второго по крайней мере настолько, чтобы оплатить труд, затраченный на его доставку, а также прибыль торговца за то время, когда был занят его капитал; в действительности это и составляет издержки производства этого товара. Но стоимость товара, посылаемого за границу, в силу тех же причин увеличивается на ту же стоимость, и, следовательно, если вы увеличили издержки производства и стоимость одного товара, вы также увеличили издержки производства и стоимость другого. Если я посылаю шляпы стоимостью в 100 ф. ст., которые продаются во Франции за 105 ф. ст., затем получаю кларет стоимостью в 100 ф. ст. и продаю его у нас за 105 ф. ст., то кажется, будто я дал 100 ф. ст. за 105 ф. ст., а французскому торговцу будет казаться, что он получил 105 ф. ст. вместо 100 ф. ст., но на деле оба дали и получили одинаковую стоимость, а 5 ф. ст. прибавлены, чтобы компенсировать расходы и прибыль на капитал. Любые 100 ф. ст., затраченные в то же время в стране и связанные с теми же расходами по перевозке или расходами какого-либо другого рода, также принесут 100 ф. ст. Таким образом, через посредство внешней торговли мы получили более желательный, но не более ценный товар. И разве я в таком случае не прав, говоря, что «никакое расширение внешней торговли не может увеличить непосредственно сумму стоимостей в стране, хотя оно и будет очень сильно способствовать увеличению массы товаров и, следовательно, количества жизненных удобств». 271. Стр. 451. «Что касается труда, замечу следующее: когда я говорю, что стоимость совокупного продукта страны может распоряжаться большим количеством труда, чем прежде, я имею в виду не большее число рабочих, а хочу сказать, что эта стоимость может купить больше труда по старой цене или лучше оплачивать прежних рабочих». Вот новое объяснение мальтусовской меры реальной меновой стоимости. Если бы мне нужно было знать, получаю ли я в этом году большую стоимость, чем в прошлом, я не могу установить этот факт путём сравнения числа рабочих, которым я мог дать занятие в прошлом году и могу дать в текущем, так как я получил бы также более значительную стоимость, если бы мог распоряжаться не большим количеством труда, а платил бы больше имеющимся рабочим. Если я правильно понимаю, это означает, что у меня будет большая стоимость, если я смогу обменять свои товары на большую сумму этой меры стоимости, — и у меня будет также большая стоимость, если я не смогу их обменять таким образом. 272. Стр. 452—53. «Хотя в случае ввоза иностранных товаров, вступающих непосредственно в конкуренцию с отечественными товарами, цена последних, несомненно, понизится и производители их временно будут терпеть ущерб, всё-таки очень редко может случиться, что понизится денежная стоимость других товаров, не страдающих от этой конкуренции, и денежная стоимость отдельных товаров упадёт не в такой степени, чтобы помешать повышению денежной цены совокупного продукта». Предположим, мы признаем это, но этим не решается вопрос о том, представляет ли выигрыш торговца новую стоимость или стоимость, полученную за счёт потребителей. Г-н Мальтус и я, мы оба признаём, что благодаря ввозу дешёвых или желательных иностранных товаров достигается выгода, но я говорю, что вся она должна принадлежать потребителю, и если в какое-либо время ею пользуется торговец, то только за счёт потребителя п при лишении последнего этои выгоды. В конечном счёте выгода должна достаться потребителю. 273. Стр. 454. «Я определённо не согласен с выводом г-на Рикардо, заключающимся в следующем месте его работы: «Следовательно, во всех случаях спрос на иностранные и отечественные товары вместе, поскольку дело касается стоимости, ограничивается доходом и капиталом страны. Если увеличивается спрос на один товар, то должен уменьшиться спрос на другие товары» <Д. Рикардо, Начала политической экономии и налогового обложения, т. I, стр. 113—114. — Ред.>. Мне кажется, во всех почти случаях успешной внешней торговли неоспорим тот факт, что спрос на иностранные и отечественные товары вместе определённо увеличивается, и увеличение стоимости иностранных продуктов не влечёт за собою соответственного уменьшения стоимости отечественного продукта». Если четыре человека располагают каждый 1 тыс. ф. ст. в год, они не могут издержать больше чем 4 тыс. ф. ст. в год. Чем большую стоимость они затрачивают на иностранные товары, тем меньше останется у них на покупку отечественных товаров. Для них в высшей степени важно будет покупать дёшево, т. е. получать много товаров за малую стоимость; а поскольку внешняя торговля и обширный рынок позволяют им делать это, то это выгодно для страны. Г-н Мальтус говорит: «Согласно моему взгляду на этот предмет, национальный доход, состоящий из суммы рент, прибылей и заработной платы, сразу решительно увеличивается на сумму возросшей прибыли торговцев, занимающихся внешней торговлей». Национальный доход увеличивается! Но в каком выражении? В большем количестве или лучшем качестве потребляемых товаров, но не в большей стоимости. Каким же образом проявляется эта выгода? Может быть, в течение короткого времени в увеличении прибылей торговца, но всегда в конце концов в дешевизне иностранного товара. Это в точности то же самое, что и в случае с фабрикантом, который изобрёл усовершенствованную машину для производства своих товаров. Пока конкуренция ещё не действует на него с полной силой и не заставляет его снизить цену товаров до уровня издержек производства, он получает большую прибыль, но в конечном итоге выгода от усовершенствования производства достанется целиком потребителю <окончание этого примечания написано Рикардо на отдельном листке и, по мнению редакторов издания 1951 г., ошибочно было прикреплено к другому примечанию. В издании 1928 г. оба последние абзаца даны в конце примечания, относящегося к стр. 455 работы Мальтуса (примечание 275). — Ред.>. В моей главе о внешней торговле аргументация основана на предположении, которого, по моему мнению, никто не оспаривал, что, за исключением коротких промежутков времени, прибыли во внешней торговле не могут подниматься выше средней нормы прибыли, а если они бывают выше, я придерживаюсь мнения и высказывал свои соображения в пользу этого мнения, что уравнение прибылей будет достигнуто путём понижения прибыли во внешней торговле, а не путём общего повышения прибылей в других отраслях. В течение того промежутка времени, когда прибыль во внешней торговле выше средней прибыли, занятые в ней лица будут получать больше, и никто не будет получать меньше, и постольку национальный доход возрастёт; но как только конкуренция других капиталистов понизит прибыли внешней торговли до общего уровня прибыли, то, хотя национальный доход при оценке в деньгах будет иметь меньшую, чем прежде, стоимость, ничто не будет потеряно для страны, а выгода, которую прежде пожинал торговец, будет теперь использована потребителем. Торговец продаёт по более низкой цене и получает меньше прибыли; потребитель покупает по более низкой цене, и его экономия в точности равняется сумме прибыли, которую прежде получал и получать которую перестал теперь торговец. Но в течение этого промежутка стоимость всего продукта страны была больше! Несомненно, продукт обладал большей рыночной стоимостью, но сопровождалось ли это какой-либо реальной выгодой для страны, поскольку, как только торговец перестал получать прибыль, ею пользуется в равной мере другая часть общества? Этот случай в точности аналогичен тому, когда человек изобретает новую машину и может в течение некоторого времени держать её в секрете; в течение этого времени он будет пользоваться большой прибылью, и годовой доход страны будет возрастать, пока он будет продавать свои продукты выше их естественной цены, но будет ли потеряна хотя бы одна частичка этой выгоды, когда его более дешёвый способ производства этого товара станет общеизвестным и потребитель сможет получить выгоду, в точности равную, и в действительности более чем равную той выгоде, которой перестаёт пользоваться отдельный фабрикант? Если желательна большая выгода для торговца, занятого во внешней торговле, или для отдельного фабриканта, то это аргумент в пользу общей системы монополий, системы, которая имеет в виду только прибыли капиталистов и мало заботится о выгодах и удобствах потребителей. 274. Стр. 454. «Все охотно признают, что увеличение количества продуктов представляет одно из наиболее желательных последствий внешней торговли; но я хочу особенно остановить внимание читателя на том, что почти во всех случаях этому сопутствует другое, чрезвычайно важное, следствие, категорически отвергаемое г-ном Рикардо, а именно увеличение суммы меновой стоимости. Это второе следствие настолько необходимо, чтобы породить постоянный стимул к производительной деятельности и поддерживать обильное предложение товаров, что в тех немногочисленных случаях, когда оно не проявляется, сейчас же становится заметным застой в спросе на рабочие руки, и прогресс богатства останавливается. С точки зрения г-на Рикардо расширение внешней торговли должно было бы, мне кажется, часто ставить нас в такое положение, в каком наша страна находилась в начале 1816 г., когда внезапное изобилие и дешевизна хлеба и других товаров в связи со слишком большим предложением сравнительно с недостаточным спросом настолько понизили стоимость национального дохода, что он не мог больше оплачивать прежнее количество труда по прежней цене; следствие этого было таково, что среди изобилия тысячи рабочих лишались работы». «Увеличение суммы меновой стоимости»! В каком мериле? Разве средняя и обычная прибыль на капитал не является достаточным стимулом к производительной деятельности? «Настолько понизили стоимость национального дохода, что он не мог больше оплачивать прежнее количество, труда по прежней цене; следствие этого было таково...» и т. д. и т. д, Но если товары понизились в цене и будут покупать прежнее количество труда по пониженной цене, кто пострадает от этого? Не предприниматели, потому что за прежнее количество товаров они смогут купить прежнее количество труда; не рабочие, потому что в обмен на свой труд они получали бы прежнее количество товаров. И если бы одни из них пострадали, соответственная выгода была бы получена другими. Это просто изменение в деньгах. 275. Стр. 455. «Г-н Рикардо, повидимому, всегда думает, что для рабочего совершенно безразлично, сможет ли он распоряжаться большим количеством предметов первой необходимости благодаря повышению денежной цены труда или понижению денежной цены жизненных припасов; но эти два случая, хотя внешне сходные по последствиям, могут быть и обычно бывают весьма различны по существу. Увеличение заработной платы рабочих, будь то номинальное или реальное, неизменно предполагает такое распределение существующего богатства, когда стоимость богатства увеличивается, обеспечивается полная занятость всем рабочим и создаётся спрос на новые продукты и на капитал, посредством которого их можно получить». Что сказать о системе политической экономии, которая то настаивает, что стоимость измеряется количеством труда, которым она может распоряжаться, то отвергает эту меру и показывает её недостаточность? Если денежная заработная плата остаётся без изменения и каждый товар, на который расходуется заработная плата рабочих, понижается в денежной цене, заработная плата рабочих реально повышается в мере стоимости г-на Мальтуса, а, если количество товаров не возросло, заработная плата должна понизиться в его мере реальной стоимости, потому что при таких условиях прежнее количество товаров не может распоряжаться прежним количеством труда. Если денежная заработная плата возрастает, а цене товаров не повышается, реальная заработная плата также возрастёт, и в этом случае, если количество товаров не увеличится, её реальная стоимость также упадёт. Разве обе эти причины не одно и то же? Я знаю, г-н Мальтус скажет, что повышение денежной цены заработной платы будет показателем возросшего количества товаров и возросшего спроса на труд, но падающая цена товаров при стабильной денежной заработной плате не свидетельствует об этом. Однако г-н Мальтус ничем не доказал этого. Разве стоимость денег не может увеличиться, и в этом случае не будет ли падение цены товаров при стабильной денежной заработной плате свидетельствовать об увеличении спроса на труд? Почему цена товаров должна вообще понижаться в силу какой-либо другой причины, кроме возросшей стоимости денег? Я не знаю никакой другой причины, которая могла бы вызвать такое действие, за исключением новых благоприятных условий в производстве всех товаров, кроме одних денег. 276. Стр. 455. «Г-н Рикардо, повидимому, всегда думает...» <это повторение начала предыдущей цитаты имеется в оригинале рукописи. — Прим. англ. ред.>. Г-н Мальтус понял меня неправильно. Я вполне соглашаюсь с ним в том, что повышение заработной платы предполагает полную занятость для всех рабочих, но к этому же приводит и падение денежной цены жизненных припасов без падения денежной заработной платы при условии, что понижение цены жизненных припасов вызывается не случайным переполнением рынка, а большей дешевизной их производства. Ошибка г-на Мальтуса заключается в предположении, что дешёвый хлеб и дешёвые товары необходимо предполагают переполнение рынка хлебом и товарами. Мы согласны, что такое переполнение рынка есть зло. Оно обычно предполагает производство без прибыли и иногда даже без возмещения затраченного капитала. Оно всегда возникает, по моему мнению, вследствие неправильного выбора предмета производства, но дешевизна в силу лёгкости производства, которую я считаю единственно законной дешевизной, всегда сопровождается наиболее благоприятными последствиями и отличается от переполнения рынка так же резко, как свет от тьмы. 277l. Стр. 456. «Читатель полностью отдаст себе отчёт в том, что большое снижение цены отдельных товаров либо вследствие усовершенствования машин, либо благодаря внешней торговле вполне совместимо с постоянным и большим увеличением не только меновой стоимости всего продукта страны, но даже меновой стоимости всей продукции самих этих отдельных товаров. Неоднократно отмечали, что общая стоимость хлопчатобумажных тканей, производимых в нашей стране, чрезвычайно возросла, несмотря на сильное снижение их цены». Одно совместимо с другим, но эти явления не существенны друг для друга и обычно происходят не в одно и то же время. Выгода от низкой цены хлеба вследствие облегчения производства или ввоза была бы велика, хотя можно ясно показать, что с уничтожением ренты денежная стоимость массы товаров упала бы, и по крайней мере временно эти товары не могли бы распоряжаться сколько-нибудь большим добавочным количеством труда. Примечание. Включить следующее: «А почему нет? Потому что спрос на труд значительно увеличился бы без соответствующего предложения; заработная плата была бы высока и положение рабочего было бы весьма хорошим». 278. Стр. 458. «Если бы можно было доказать, что при определённых обстоятельствах внешняя торговля всякого рода перманентно содействует ослаблению способности национального продукта распоряжаться трудом иностранных и отечественных рабочих, влияние такой торговли, несомненно, выразилось бы в перманентной задержке роста богатства и населения». Если бы это можно было доказать! А это, я думаю, ни в коем случае невозможно. Но не может ли национальный продукт обладать меньшей способностью распоряжаться трудом, причём богатство и население будут всё-таки возрастать? Если при прежнем продукте заработная плата повысилась бы, население, вероятно, также увеличилось бы, и хотя прибыль уменьшится, не может ли она быть всё же достаточно высока, чтобы допустить дальнейшие сбережения и дальнейшее приобретение богатства? Если моя прибыль понизилась с 1 тыс. ф. ст. до 500 ф. ст., я мог бы тем не менее увеличить своё богатство, если бы сберёг 100 ф. ст. 279. Стр. 458. «В качестве специфической и непосредственной причины этого общего увеличения эффективного спроса я указал бы на такое распределение продукта и на такое приспособление его к нуждам и вкусам общества, какое даст денежной цене, за которую он продаётся, большую возможность распоряжаться отечественным и иностранным трудом. И я склонен думать, что, если бы это мерило прилагалось ко всем бросающимся в глаза случаям, оказалось бы, что оно всегда или почти всегда безошибочно». Во всех случаях <в рукописи вычеркнуты следующие начальные строки: «Никто не может сомневаться в важности того, чтобы производимые товары отвечали общим нуждам; в этом одна из причин оживления в торговле и роста богатства». — Прим. англ. ред.> правильное распределение продукта и приспособление его к нуждам и вкусам общества имеют в высшей степени важное значение как фактор оживления торговли и накопления капитала. Отсутствие этого, по моему мнению, единственная причина застоя, испытываемого торговлей в различные периоды. Это можно приписать просчёту и производству товара, в котором нет нужды, вместо товара, в котором есть нужда. Но, признавая это, должны ли мы отрицать благотворные последствия, возникающие в результате падения цены товаров благодаря возросшей лёгкости их производства? Увеличьте эту лёгкость в десять раз, но если производимые вами товары соответствуют нуждам общества, на все эти товары будет спрос, а если они этим нуждам не соответствуют, то это доказывает только, что производители ошиблись на этот счёт и не выполнили условий, необходимых для обеспечения того оживлённого спроса, который неизбежно возник бы при более разумном отборе предметов производства. 280. Стр. 459. «Точно так же нельзя сомневаться, что с 1793 до 1814 г. меновая стоимость совокупного продукта в Англии, оцениваемая в отечественном или иностранном труде или в слитках золота, ежегодно сильно увеличивалась. Почти единодушно было признано, что именно расширение нашей внешней торговли было сильнейшим фактором роста стоимости и богатства, и, несомненно, вплоть до 1815 г. ничто, повидимому, не свидетельствовало о том, что увеличение стоимости нашего импорта сколько-нибудь содействовало сокращению стоимости отечественного продукта. Сильно росли как импорт, так и отечественный продукт, независимо от оценки в слитках или в труде». Если страна делает сбережения и употребляет большее количество труда в производстве, количество и стоимость её продуктов увеличатся. В таком случае несомненно, что страна может увеличить стоимость ввоза без какого-либо уменьшения стоимости отечественных товаров. Г-н Мальтус не мог предполагать, будто я намеревался сказать, что стоимость и количество иностранных и отечественных товаров не могут возрастать одновременно. 281. Стр. 460. «Но, в то время как во всех странах, на которые можно ссылаться, увеличение стоимости всегда сопровождает рост процветания и богатства, я склонен думать, что нельзя привести в качестве примера ни одной страны, ведущей успешную торговлю и обладающей возрастающим изобилием товаров, где стоимость всего продукта, оцениваемая в отечественном и иностранном труде, уменьшалась бы или даже оставалась бы стабильной. И из двух способов накопления капитала, о которых упоминает г-н Рикардо в главе о внешней торговле (а именно рост дохода вследствие увеличения прибыли или уменьшение расходов благодаря дешевизне товаров), второй, я думаю, никогда не был и никогда не станет действительным стимулом для постоянного и непрерывного роста богатства». Я думаю, что как раз наоборот. Я думаю, что это даже более могущественный стимул, чем тот, на который исключительно ссылается г-н Мальтус. Не противоречит ли это мнение г-на Мальтуса тому, которое он приводит в другой части своего труда — о благодетельном влиянии усовершенствований в земледелии на национальное богатство? Какое действие могли произвести эти усовершенствования кроме того, что дали нам возможность больше сберегать на расходах? Я не знаю другого способа сбережения, кроме сбережения за счёт непроизводительных расходов, чтобы прибавить сбережённые средства к производительным расходам. 282. Стр. 460. «Но я хочу особенно подчеркнуть естественную тенденцию внешней торговли к немедленному увеличению стоимости той части национального дохода, которая состоит из прибылей, без всякого пропорционального уменьшения в какой-либо другой отрасли, поскольку из всех видов обмена внешняя торговля лучше всего отвечает нуждам общества». У торговца есть тюк хлопчатобумажных тканей, которые он вывозит, причём получает в обмен 1 1/4 бочки вина; он продаёт бочку в Англии за тюк хлопчатобумажных тканей, оставляет себе четверть бочки в качестве прибыли и располагает ею, как считает наиболее удобным. Он открывает новый рынок, возобновляет операцию и за свой тюк хлопчатобумажных тканей получает не только 1 1/4 бочки вина, но ещё 100 ф. индиго. Если он всё ещё может обменять бочку вина на тюк хлопчатобумажных тканей в Англии, его прибыли возрастут; вместо четверти бочки вина он получит четверть бочки и кроме того индиго. Но предположим, что за тюк хлопчатобумажных тканей он должен отдать как 4/5 своего вина, так и 4/5 своего индиго; его прибыль в таком случае снизится до общего уровня прибыли, на котором, по моему предположению, она находилась в первом примере; но разве каждый человек, имеющий тюк хлопчатобумажных тканей или другие товары равной стоимости, не выигрывает на том, что отдаёт, и не будет ли он обладать точно такой же способностью к сбережению, как прежде? Вопрос кажется мне слишком ясным, чтобы можно было хотя бы на минуту усомниться в ответе. В обоих случаях у нас одинаковое количество английских и иностранных товаров; почему же в одном случае должно быть большее переполнение рынка товарами, чем в другом? Г-н Мальтус никогда не приводит характерного простого случая с целью проследить его со всех сторон. Если бы он сделал это, мы не расходились бы во мнениях так, как, повидимому, расходимся теперь. 283. Стр. 462. «Рассматривая вопрос о влиянии внешней торговли на меновую стоимость с совершенно иной точки зрения, чем г-н Рикардо, я настаиваю, что расширение рынков в его общей тенденции чрезвычайно благоприятствует тому росту стоимости и богатства, который возникает из распределения». Из того, что г-н Мальтус сам сказал о моих взглядах, он должен знать, что я, как и он, «настаиваю, что расширение рынков в его общей тенденции чрезвычайно благоприятствует тому росту стоимости и богатства, который возникает из распределения». Всё же его язык может заставить читателя предполагать другое. Я не сказал бы, что расширение рынков увеличит стоимость такого богатства, потому что, как известно читателю, я измеряю стоимость другим мерилом, чем г-н Мальтус. 284. Стр. 463. «Мы уже показали, что при быстром накоплении капитала или, точнее, при быстром превращении непроизводительного труда в производительный, спрос по сравнению с предложением материальных продуктов должен преждевременно оказаться недостаточным, и мотивы для нового накопления исчезнут раньше, чем накоплению станет мешать истощение почвы. Отсюда следует, что абсолютно необходимо, чтобы в стране, обладающей большой производственной мощью, существовала группа непроизводительных потребителей, причём не следует предполагать, будто производительные классы потребляют гораздо больше того, чем известно по опыту, особенно в периоды, когда они быстро накопляют доходы с целью увеличить капитал». Группа непроизводительных рабочих точно так же необходима и полезна с точки зрения будущего производства, как пожар, истребивший на складе фабриканта товары, которые иначе были бы потреблены этими непроизводительными рабочими. 285. Стр. 464. «Мы уже сказали, что политическая экономия как наука не даёт возможности определить, какие пропорции между производительными и непроизводительными классами общества доставляют наибольший стимул к непрерывному росту богатства». По моему мнению, это не трудно определить. Они <непроизводительные классы. — Ред.> могут быть полезны для других целей, но ни в какой степени для производства богатства. 286. Стр. 465. «Скажут, быть может, что не будет никакой нужды в непроизводительных потребителях, если те, кто занят в производстве, потребляют достаточно, чтобы поддержать стоимость продукта. Что касается капиталистов, занятых производством, они, несомненно, имеют возможность потреблять свои прибыли, или доход, получаемый ими благодаря приложению их капиталов; и если бы они потребляли весь этот доход, за исключением того, что было бы выгодно прибавить к капиталу с целью наилучшим образом обеспечить рост производства и рост потребления, не было бы никакой нужды в непроизводительных потребителях». Каким образом то обстоятельство, что человек потребляет мой продукт, не отдавая мне ничего взамен, даст мне возможность составить состояние? Я полагал бы, что вернее составлю себе состояние, если потребитель моего продукта будет отдавать мне за него эквивалентную стоимость. 287. Стр. 465. «Некоторые авторы установили как некую аксиому, что потребности человеческого рода можно считать всегда соразмерными их возможностям; но это положение не всегда верно, даже в тех случаях, когда состояние приобретается без труда, а что касается большинства капиталистов — опыт целиком противоречит этому положению. Почти все торговцы и фабриканты в периоды процветания делают сбережения гораздо быстрее, чем мог бы возрастать капитал страны, чтобы сохранить стоимость продукта. Но если это верно по отношению к торговцам и фабрикантам в целом, то вполне очевидно, что при их фактических привычках они не могут создавать друг для друга рынок путём обмена своими продуктами. Необходимо поэтому, чтобы существовал значительный класс других потребителей, иначе торговые классы не смогут продолжать расширять свои предприятия и реализовать прибыли». Я думаю, что это <положение, против которого возражает Мальтус. — Ред.> безусловно верно, но если предположить, что это неверно, какая выгода для меня в том, что другой человек, который мне ничего не даёт взамен, будет потреблять мои продукты? Каким образом подобное потребление даёт мне возможность реализовать прибыли? Я не могу выразить так сильно, как чувствую, своё удивление по поводу различных положений, выдвигаемых в этом отделе. Чтобы капиталисты имели возможность попрежнему делать привычные сбережения, говорит г-н Мальтус, «они должны либо потреблять больше, либо производить меньше». 288. Стр. 466. «Г-н Рикардо часто говорит о сбережении, как будто это цель, а не средство». Где? Я не могу припомнить, чтобы сказал это хотя бы в одном случае. 289. Стр. 467. «Однако если продукты имеются уже в таком изобилии, что часть их не потребляется, то сравнительно малое применение находит сбережённый таким образом капитал, задача которого состоит в дальнейшем увеличении изобилия продуктов и в дальнейшем понижении и без того низких прибылей». Каким образом непроизводительное потребление может увеличить прибыли? Товары, потребляемые непроизводительными потребителями, просто отдаются им, а не продаются за эквивалент. Они не имеют цены, каким же образом они могут увеличить прибыли? Г-н Мальтус определил спрос как волю и возможность потреблять. Какую возможность потреблять имеет непроизводительный потребитель? Если мы возьмём 100 штук сукна из склада суконщика и оденем в это сукно солдат и матросов, то разве это увеличит прибыль суконщика? Послужит ли это для него стимулом к производству? Да, таким же образом, как это сделал бы пожар. 290. Стр. 468. «Но, несомненно, было бы грубой ошибкой применять это положение <положение А. Смита, что «стремление к пище ограничивается у каждого человека небольшой вместимостью человеческого желудка, но стремление к удобствам и украшению... не имеет, повидимому, предела или определённых границ» (А. Смит, Исследование о природе и причинах богатства народов, т. I, М. 1935, стр. 148). — Ред.> в любом смысле, в каком его только можно понять, если бы сказали, что нет предела сбережению и употреблению капитала, кроме трудности добывания пищи. Это значит основывать своё учение на неограниченном стремлении людей к потреблению, а затем предположить, что это стремление ограничивается с целью сберечь капитал, и, таким образом, совершенно изменить предпосылки и всё-таки утверждать, что это учение верно». Пределом является собственно не трудность добывания пищи, а трудность раздобыть рабочие руки, куда входит и трудность добывания пищи; так как, если вы исчерпали свои возможности добывать пищу, то вы недолго будете способны увеличивать число занятых у вас рабочих. 291. Стр. 469. «Пусть производители или кто-либо другой всегда потребляют достаточно, чтобы сохранить и самым действительным образом увеличить меновую стоимость совокупного продукта; и я буду рад признать, что для употребления капитала страны, увеличивающегося только такими темпами, нет другого предела, кроме того, что ограничивает позможность поддерживать существование населения. Но в теории мне кажется совершенно очевидным, и это подтверждается всеобщим опытом, что употребление капитала, слишком быстро возрастающего благодаря привычкам к бережливости, может найти, и фактически часто находит, предел задолго до того, как становится действительно трудным добывать средства существования; как капитал, так и население могут одновременно и в продолжение очень долгих периодов быть в избытке сравнительно с эффективным спросом на продукты». Это всё то, что я отстаиваю. Но каким образом капитал и население могут быть оба избыточными, пока можно увеличивать предложение предметов первой необходимости, я совершенно не могу понять. Это противоречие в терминах. Это значит сказать, что есть незанятый капитал, потому что его собственник не может найти рабочих, и есть незанятые люди, потому что ни у кого нет капитала, чтобы дать им работу. Мы могли бы с таким же основанием сказать, что хлеб не может быть продан потому, что нет покупателей, и в то же время есть голодающие люди, имеющие средства и желание купить хлеб, но не могущие получить его, — оба положения не могут быть верны. 292. Стр. 469. «Основная часть вопроса о потребностях человеческого рода касается способности людей вызывать действия, необходимые для приобретения средств, подлежащих расходованию». Это верно. Я согласен с г-ном Мальтусом, что «трудность касается способности вызывать действия, необходимые для приобретения средств, подлежащих расходованию». Но ведь это не что иное, как утверждение, что человек должен производить прежде, чем получит право потреблять, и трудность заключается в том, чтобы побудить его производить; не будет никакой трудности побудить его потреблять после того, как он произвёл. 293. Стр. 471. «Если за недостатком других потребителей капиталисты были бы вынуждены потреблять всё, что не могло быть с выгодой прибавлено к капиталу страны, то мотивы, поддерживающие их в повседневной деятельности, должны были бы значительно ослабеть, и не были бы вызваны к жизни те же производительные силы». В этом случае тревога г-на Мальтуса относится не к обеспечению потребления; его пугает только то, что без потребления не будет достаточного мотива для будущего производства. Таким образом, от непотребления непосредственно не произойдёт никакой беды, а только отдалённо, в форме ослабления мотива к деятельности. 294. Стр. 471. «Как я уже сказал, никто не станет затрачивать свой капитал только в расчёте на спрос, предъявляемый теми, кто у него работает». Почему нет? Я могу нанять 20 рабочих, чтобы они доставили мне пищу и предметы первой необходимости для 25 человек, а затем я найму этих 25 рабочих, чтобы они доставили мне пищу и предметы первой необходимости для 30 человек; затем я снова найму этих 30 рабочих, чтобы они доставили пищу и предметы первой необходимости для ещё большего числа людей. Разве я не стану богаче, хотя я употребил капитал «только в расчёте на спрос, предъявляемый теми, кто у меня работает»? 295. Стр. 472. «Весьма желательно, чтобы рабочие хорошо оплачивались, в силу соображения более важного, чем все соображения, относящиеся к богатству, а именно ради счастья большинства общества. А тем, кто склонен говорить, будто непроизводительные потребители не могут быть необходимы в качестве стимула для увеличения богатства, если производительные классы потребляют справедливую долю того, что производят, я замечу, что, поскольку сильное увеличение потребления среди рабочих должно значительно повысить издержки производства, это должно понизить прибыли и ослабить или уничтожить мотивы к накоплению, раньше чем земледелие, промышленность и торговля достигнут сколько-нибудь значительной степени процветания». Ничто не может быть более справедливо, чем замечание, что «сильное увеличение потребления среди рабочих должно значительно повысить издержки производства, понизить прибыли и ослабить или уничтожить мотивы к накоплению, раньше чем земледелие, промышленность и торговля достигнут сколько-нибудь значительной степени процветания». Но поможет ли этому потребление непроизводительного класса? Что такое потребление производительного класса сверх разумного вознаграждения за труд? Это не что иное, как непроизводительное потребление, т. е. потребление без адэкватного возмещения. «Если бы каждый рабочий действительно потреблял в два раза больше хлеба, чем в настоящее время, то, вместо того чтобы послужить стимулом к увеличению богатства, такой спрос, вероятно, привёл бы к изъятию из обработки большой площади земли и к значительному сокращению как внутренней, так и внешней торговли». Если бы это оказало такое действие, то было ли бы это в силу какой-либо иной причины, кроме того, что половина этого потребления была бы непроизводительным потреблением? А это и есть то самое потребление, которое г-н Мальтус считает столь существенным для роста богатства. 296. Стр. 473. «Но, несомненно, невелика опасность того, что богатство уменьшится в силу этой причины <продолжение цитаты из примечания 295. — Ред.>. Благодаря действию принципа, регулирующего рост населения, все тенденции направлены в противоположную сторону, и есть гораздо больше оснований опасаться того, что рабочие будут потреблять слишком мало для собственного благополучия, чем того, что они будут потреблять слишком много, так что это не позволит богатству расти надлежащим образом». Что рабочие будут иметь слишком мало, а не слишком много, представляет действительно большую опасность, которой нужно бояться и от которой, если возможно, нужно беречься. 297. Стр. 480. «Поэтому влияние, оказываемое на богатство страны непроизводительными классами, существующими на средства от налогов, должно быть совершенно различным в разных странах и должно целиком зависеть от производственной мощи каждой из них и от способа взимания налогов. Поскольку без большого потребления вряд ли будут вызваны к жизни крупные производительные силы, а если они будут действовать, то вряд ли удастся поддерживать их деятельность, у меня почти не возникает сомнения, что есть практические примеры того, когда рост национального богатства сильно стимулируется потреблением тех, существование которых поддерживается налогами. Всё же налоги есть стимул, которым очень легко злоупотребить, и в интересах общества настолько абсолютно необходимо считать частную собственность священной, что следует проявлять величайшую осторожность, давая любому правительству в руки средства для перераспределения богатства с точки зрения всеобщего блага». Этот аргумент в пользу налогов вполне согласуется с мнением г-на Мальтуса о выгодах, вытекающих из непроизводительного потребления. Г-н Мальтус — в высшей степени влиятельный союзник канцлера казначейства. 298. Стр. 488. «Что касается капиталистов, то, хотя бы они были освобождены от большей части налогов, всё же весьма вероятно, что их привычки к сбережениям в соединении с сокращением числа людей, предъявляющих эффективный спрос, вызвали бы такое понижение товарных цен, что в результате значительно уменьшилась бы та часть национального дохода, которая зависит от прибылей; и я мало сомневаюсь в том, что пять лет спустя после такого события не только определённо уменьшилась бы меновая стоимость совокупного продукта при оценке в отечественном и иностранном труде, но было бы произведено и абсолютно меньшее количество хлеба, и на рынок поступало бы меньше отечественных и иностранных товаров». Я склонен думать, что г-н Мальтус, вероятно, единственный человек в Англии, способный ожидать таких последствий от такой причины. 299. Стр. 489. «Их <непроизводительных потребителей. — Ред.> специфическая польза в деле стимулирования роста богатства заключается в поддержании такого равновесия между производством и потреблением, которое придаёт результатам национального производства наибольшую меновую стоимость». Каким образом могут они своим потреблением придать стоимость результатам национального производства? Можно было бы с таким же основанием утверждать, что землетрясение, которое опрокидывает мой дом и погребает моё имущество, придаёт стоимость продуктам национального производства. 300. Стр. 489. «Если бы непроизводительный труд преобладал, то сравнительно малое количество материальных продуктов, доставляемых на рынок, понизило бы стоимость всего продукта вследствие уменьшения его количества. Если бы преобладали производительные классы, стоимость всего продукта упала бы вследствие избытка предложения. Очевидно, именно определённое соотношение этих двух классов даст наибольшую стоимость и возможность распоряжаться наибольшим количеством отечественного и иностранного труда». Г-н Мальтус часто измеряет стоимость властью, которую она даёт нам как над иностранным, так и над отечественным трудом. Что общего у нас с количеством или со стоимостью иностранного труда? Всякий иностранный товар покупается на известное количество отечественного труда, и только последним мы можем измерять стоимость как отечественных, так и иностранных товаров. 301. Стр. 492. «Мог бы, несомненно, существовать большой недостаток населения по сравнению с территорией и возможностями страны, и было бы, может быть, очень желательно, чтобы население увеличилось; но если бы заработная плата продолжала оставаться низкой, несмотря на сокращение населения, то в этом случае поощрять рождение большего числа детей значило бы поощрять нищету и смертность, а не рост населения». Бедствия от избытка населения общепризнаны, но нет большей ошибки, чем предположение, будто какие-нибудь бедствия могут возникнуть из накопления капитала. Единственным следствием последнего могло бы быть нежелание продолжать накопление в связи с падением прибыли, объясняющимся повышением заработной платы, которого могли бы требовать рабочие вследствие недостатка населения. 302. Стр. 494. «В то время как в рентах и прибылях совершались эти неблагоприятные изменения, могущественный толчок, данный росту населения во время войны, продолжал в изобилии доставлять новых рабочих, понизил заработную плату и вызвал в стране общее уменьшение капитала и дохода; этому содействовали также приток уволенных из армии солдат и матросов и сокращение спроса на рабочие руки вследствие потерь, понесенных фермерами и торговцами. Капитал и доходы сократились не только пропорционально изменению стоимости денег, но и по отношению к стоимости продуктов в слитках золота и к возможности для этой стоимости покупать отечественный и иностранный труд». Если окончание войны оставило страну с уменьшенным капиталом и доходом, то не должно ли было также уменьшиться количество товаров, производимых капиталом? Не находится ли продукт теперь в том же отношении к капиталу, как и во время войны? Как объяснить этим низкие цены и переполнение рынка товарами? 303. Стр. 495. «В течение четырех или пяти лет после окончания войны вследствие изменений в распределении национального продукта и вызванного этим недостатка потребления и спроса производству был нанесён решительный удар, а население под действием прежних импульсов увеличивалось не только быстрее, чем спрос на труд, но и скорее даже, чем фактический продукт. Однако этот продукт, хотя он решительно недостаточен в сравнении с населением и в сравнении с прошлым периодом, избыточен в сравнении с платёжеспособным спросом на него и с доходом, которым люди располагают, чтобы его покупать. Хотя труд дёшев, нет ни возможности, ни желания занять все рабочие руки, так как не только уменьшился капитал страны в сравнении с числом рабочих, но и, в связи с уменьшением доходов страны, на товары, которые могут произвести эти рабочие, нет такого спроса, какой обеспечил бы сносную прибыль на уменьшившийся капитал». Труд оплачивается товарами. Товары слишком обильны для платёжеспособного спроса, и всё-таки с помощью этих товаров вы не можете занять больше рабочих, потому что товаров недостаточно в сравнении с населением. Разве это не значит сказать, что одновременно существуют и обилие и недостаток товаров? 304. Стр. 497. «Я вполне убежден, что значительную часть этих бедствий <см. цитаты Мальтуса в примечаниях 302 и 303. — Ред.> могла бы испытать страна, не обрабатывающая плохих земель, не собирающая налогов и не вводящая никаких новых ограничений в торговле». И я также, потому что я вполне убеждён, что и без этих несчастий застой в торговле вызовет много бедствий после такой войны, когда у капитала есть большой соблазн покинуть страну, где прибыли сравнительно низки. 305. Стр. 497. «Но согласно изложенному г-ном Сэем принципу, будто потребление товара есть уменьшение спроса, если потребление общества сильно и повсеместно уменьшится при увеличении капитала, не может быть ни малейшего сомнения, что согласно великим принципам спроса и предложения прибыли капиталистов скоро свелись бы к нулю, хотя бы в обработке не было плохих земель; население оказалось бы без работы и было бы осуждено на голодную смерть, хотя не платило бы ни одного налога и не знало бы никаких ограничений торговли». Как может общество вообще уменьшить своё потребление и увеличить тем самым капитал? Разве прибавка к капиталу ослабляет в каком-либо случае потребление? Каким образом население может быть лишено работы и обречено на голод без сокращения потребления? 306. Стр. 498. «В частности, страна, обладающая исключительными естественными ресурсами, — Соединённые Штаты Америки — испытала сильные затруднения, которых вряд ли ожидали. Эти затруднения нельзя во всяком случае приписать ни обработке плохих земель, ни ограничениям в торговле, ни чрезмерным налогам». Страна может страдать от ограничений в торговле, хотя сама не налагает этих ограничений. 307. Стр. 500. «Я не сомневаюсь, например, что в нашей стране многие воспользовались удобным случаем превратить в сбережения часть возвращённого им налога па собственность, особенно лица, которые пользуются только пожизненным доходом и которые, в противоречии с принципами справедливого обложения, были обложены налогом по той же ставке, как лица, источником дохода которых является реализованная гобственность. Такое сбережение совершенно естественно и правильно, и оно не может быть справедливым аргументом против отмены налога; но всё же оно способствует уяснению причины сокращения спроса на товары по сравнению с предложением их после войны». Если рассуждение г-на Мальтуса правильно, оно представляет несокрушимый аргумент против отмены налога. Может ли заключение больше противоречить предпосылкам? 308. Стр. 502. «В связи с тем, что внезапное сокращение потребления может привести к бедствиям, есть основание сомневаться в правильности часто рекомендуемой политики собирать необходимые для ведения войны средства в пределах каждого года. Если страна бедна, такая налоговая система может окончательно задушить все её усилия; из года в год она будет определённо уменьшать свой капитал, и с каждым годом для неё будет всё более разорительно собирать те же средства до тех пор, пока страна не окажется вынужденной покориться врагам вследствие абсолютной неспособности оказывать дальнейшее энергичное сопротивление». Разве займы каждый год не уменьшают определённо капитала страны? 309. Стр. 507. «Но если распределение богатства в известной степени есть одна из главных причин его возрастания, и вместе с тем нельзя рекомендовать непосредственное вмешательство в существующее деление земельной собственности в стране, можно с полным основанием спросить, не компенсируются ли с избытком причиняемые национальным долгом бедствия распределением собственности и ростом средних классов, которые неизбежно создаются национальным долгом?» Каким образом национальный долг создаёт средние классы общества? Разве всякий держатель государственных бумаг не должен был владеть такой же суммой собственности, прежде чем стал держателем государственных бумаг? Разве он не был бы членом среднего класса общества, если бы не было никакого национального долга? Я не могу понять, каким образом национальный долг мог создать хотя бы одного члена этого класса. Если мы снова выплатим этот долг, то разве мы таким путём уничтожим средний класс, как, повидимому, опасается г-н Мальтус? Разве всякий держатель государственных бумаг не будет попрежнему владеть капиталом после уплаты национального долга? 310. Стр. 512. «Прибыль на капитал не может подняться выше того, что может позволить состояние земли, но может понизиться в любой степени. Основное разногласие между г-ном Рикардо и мною по этому пункту состоит в следующем: г-н Рикардо думает, что прибыль регулируется состоянием земли, а я думаю, что прибыль только лимитируется — в одном определённом направлении — состоянием земли и что, если капитал изобилен сравнительно со спросом на товары, прибыль может понизиться в любой степени, несмотря на плодородие земли». Г-н Мальтус сильно ошибается, если предполагает, что я утверждаю, будто прибыль всегда должна быть высока, пока в резерве есть плодородная земля. Прибыль будет низка, как я говорил сотни раз, если заработная плата высока, а заработная плата может быть очень высока при очень обильных земельных ресурсах. 311. Стр. 514. «Без больших затрат со стороны правительства и без частого превращения капитала в доход приобретённые капиталистами крупные производительные силы, воздействуя на уменьшенную покупательную способность владельцев твёрдого дохода, неизбежно вызвали бы ещё большее переполнение рынка товарами, чем нынешнее; а мы достаточно знаем по опыту, что бумажные деньги не могут поддерживать цены при таких обстоятельствах». Свойственные г-ну Мальтусу взгляды признаны им здесь открыто. 312. Стр. 516. «Г-н Рикардо справедливо сказал, что «фермер и фабрикант так же мало могут жить без прибыли, как рабочий без заработной платы. Их побуждение к накоплению будет уменьшаться с каждым уменьшением прибыли. Оно совершенно прекратится, когда их прибыль будет так низка, что не будет давать им надлежащего вознаграждения за хлопоты и риск, которому они необходимо должны подвергаться при производительном применении своего капитала» <Д. Рикардо, Начала политической экономии и налогового обложения, т. I, стр. 107—108. — Ред.>. Г-н Рикардо применяет это положение к окончательному и необходимому понижению прибыли, причиняемому состоянием земли. А я применил бы его во всякое время, ко всем различным периодам, отделяющим первые стадии земледелия от последней». Здесь г-н Мальтус снова плохо меня понял, и я ссылаюсь на его собственное изложение моих взглядов на стр. [] <пропуск в рукописи; Рикардо, вероятно, имеет здесь в виду стр. 326 работы Мальтуса (примечание 186). — Прим. англ. ред.>, чтобы показать, что эта доктрина не моя и он мне приписывает её без всякого справедливого основания. Г-н Мальтус никогда, повидимому, не вспоминает, что слово «сберегать» неизбежно означает в такой же мере расход, как то, что он подразумевает под словом «расходовать». 313. Стр. 517. «Сведя весь вопрос о сбережениях к свободному от всяких влияний действию индивидуальной заинтересованности и индивидуального сознания, мы лучше сообразуемся с великим принципом политической экономии, установленным Адамом Смитом; этот принцип учит нас тому общему положению, что, за немногими исключениями, богатство народов лучше всего обеспечивается, когда каждому человеку позволяют преследовать свои интересы собственным путём до тех пор, пока он придерживается правил справедливости». Кто и когда хотел свести этот вопрос к чему-либо другому? 314. Стр. 519. «Но правильный вывод из этого заключается в том, что не следует никогда устанавливать налоги в большем размере, чем это оправдывается необходимостью, и, в частности, надо приложить все усилия, совместимые с национальной честью и безопасностью, чтобы предотвратить такой масштаб расходов, что их нельзя будет продолжать, не вызвав краха, или нельзя будет прекратить, не вызвав общественного бедствия». Но другой правильный вывод заключается в том, что, раз налоги установлены, их не следует отменять: логически вытекает также, что часто введение налогов было бы даже разумным. Если народ не будет сам достаточно расходовать, то что может быть более целесообразным, чем обращение к государству, чтобы оно расходовало вместо народа? Что могло бы быть более разумно (если бы учение г-на Мальтуса было верно), чем увеличение армии и удвоение содержания всех должностных лиц правительства? 315. Стр. 519. «Оно <богатство, развивающееся под влиянием таких стимулов, как высокое налоговое обложение и огромные государственные расходы. — Ред.> походит на неестественную энергию, вызываемую действием какого-нибудь сильного возбуждающего средства, которого следует избегать, если оно не безусловно необходимо, ввиду истощения, неизбежно следующего за его употреблением». Но мы действительно находимся под влиянием возбуждающего средства, а когда перестаём принимать его, страдаем от своего безумия. Мои принципы ведут к совершенно противоположным заключениям. Уничтожение национального долга либо путём выплаты его из капитала страны, либо путём отказа уплатить держателю государственных бумаг капитал или проценты, не имело бы тех последствий, которые вообще приписываются ему. После уничтожения долга у нас будет не больше капитала или дохода, чем прежде; они будут лишь по-иному распределены. Поскольку уплата долга освободила бы нас от громадного бремени налогов, уменьшился бы соблазн переводить напитал из нашей страны в другие, не столь обременённые налогами. Уплата долга освободила бы нас от армии сборщиков налога, податных чиновников и контрабандистов, которые в настоящее время содержатся за счёт производства страны, что усугубляет зло налогового обложения. Из уплаты долга проистекли бы ещё и другие побочные выгоды, перечислять которые в настоящее время нет необходимости. Три письма о цене золота в редакцию "The Morning Chronicle" (Август-Ноябрь, 1809)I. 29 августа 1809 г. I. Существующая высокая рыночная цена золота - она выше его монетной цены, - повидимому, привлекла к себе усиленное внимание публики, но последняя всё же недостаточно сознаёт всю важность этого предмета, а также гибельные последствия, которые могут сопровождать дальнейшее обесценение бумажных денег. Я очень хотел бы, чтобы мы повернули назад, пока ещё есть время, и восстановили наше денежное обращение на той здоровой основе, которая так долго отличала нашу страну и отход от которой чреват настоящими бедствиями и будущим банкротством. Монетная цена золота составляет 3 ф. ст. 17 шилл. 10 1/2 пенс., а рыночная цена его постепенно возрастала и в течение последних двух-трёх недель повысилась до 4 ф. ст. 13 шилл. за унцию, обогнав его монетную цену почти на 20%. Достойно замечания, что между 1777 и 1797 гг. средняя цена золота была не выше чем 3 ф. ст. 17 шилл. 7 пенс. В течение этого периода наше денежное обращение считалось безупречным. Только начиная с 1797 г., когда Английский банк был освобождён от обязанности оплачивать свои банкноты звонкой монетой, золото повысилось в цене до 4 ф. ст., 4 ф. ст. 10 шилл. и в последнее время до 4 ф. ст. 13 шилл. за унцию. Пока Английский банк оплачивает свои банкноты звонкой монетой, не может быть большой разницы между монетной и рыночной ценой золота. Хорошо известно, что, несмотря на крайнюю строгость и, быть может, даже абсурдность законов, раскрыть нарушение их бывает очень трудно, и потому, когда благодаря высокой рыночной цене золота становится очень выгодным переплавить монету, её переплавляют и продают как слиток или вывозят соответственно целям лиц, занимающихся подобного рода операциями. Итак, если бы золото поднялось в цене до 4 ф. ст. или больше за унцию, в то время как Английский банк оплачивает свои банкноты звонкой монетой, эти дельцы обменивали бы свои банкноты в банке, получая унцию золота за каждые 3 ф. ст. 17 шилл. 10 1/2 пенс. в банкнотах. Это золото было бы переплавлено и продано или вывезено по 4 ф. ст. или больше в банкнотах за унцию, а так как эта операция может быть повторена ежедневно или даже ежечасно, то она будет продолжаться до тех пор, пока банк не извлечёт из обращения излишнее количество своих банкнот и не доведёт, таким образом, рыночную и монетную цену золота до одного уровня. В этом состоит единственный возможный способ приостановить излишний выпуск банкнот; способ этот был так хорошо известен, что Английский банк никогда не прибегал к нему безнаказанно. Никакие усилия Английского банка не могут удержать в обращении больше, чем определённое количество банкнот, и если это количество превзойдено, то его воздействие на цену золота всегда приводит излишнее количество банкнот в банк для обмена на звонкую монету. При таком регулировании обращения рыночная цена золота никогда не может подняться намного выше его монетной цены, ибо никто не даст 4 ф. ст. или больше в банкнотах за унцию золота, если он может получить её в банке за 3 ф. ст. 17 шилл. 10 1/2 пенс. Это было бы равносильно одновременному предложению унции золота и 2 шилл. 1 1/2 пенс. за унцию золота. Когда мы говорим о высокой цене золота, то решительно всё равно, измеряется ли она в золоте или в банкнотах, которые можно немедленно обменять на золото. Она может быть высока, будучи оценена в серебре или в товарах всякого рода; стремление ввозить золото зарождается только тогда, когда оно дорого в сравнении с товарами или, другими словами, когда товары дёшевы. Когда говорят, что можно получить 1 ф. ст. 5 шилл. за гинею <до 1816 г. 1 гинея = 21 шилл., тогда как 1 ф. ст. = 20 шилл. - Прим. ред.>, посылая её в Гамбург, то это означает, что можно получить за неё в Гамбурге вексель на Лондон в 1 ф. ст. 5 шилл. в банкнотах. Могло ли бы это иметь место, если бы банк платил звонкой монетой? Будет ли кто-нибудь настолько слеп к своей выгоде, что предложит мне гинею звонкой монетой и 4 шилл. за 1 гинею, когда он может обменять свою гинею в Гамбурге по паритету, уплатив только расходы за пересылку и т. д.? Только потому, что он не может получить в Английском банке гинеи за свои банкноты, он соглашается платить за них банкнотами по наиболее выгодной цене, какая только возможна, или, другими словами, он даёт 1 ф. ст. 5 шилл. в банкнотах за 1 гинею звонкой монетой. Когда был издан закон, запрещавший Английскому банку платить звонкой монетой, были устранены все препятствия на пути к излишнему выпуску банкнот, за исключением лишь того, которое банк добровольно ставил себе сам; он делал это, зная, что если он не будет руководствоваться умеренностью, то результаты, которые могли бы от этого воспоследовать, были бы столь определённо приписаны его монополии, что парламент вынужден был бы отменить закон о приостановке размена. Пока Английский банк готов ссужать деньги, всегда найдутся заёмщики, и нет, таким образом, никаких других пределов для излишних эмиссий, кроме того, который я только что упомянул; золото может подняться, таким образом; до 8 или 10 ф. ст. или любой суммы за унцию. То же воздействие оказала бы излишняя эмиссия и на цены продовольственных и всех других товаров, и единственным средством против обесценения бумажных денег явилось бы извлечение Английским банком из обращения всего излишнего количества банкнот; для этого банку нужно было бы настоять, чтобы купцы оплачивали свои векселя сейчас же после наступления срока, и отказываться возобновлять их обязательства до тех пор, пока ограниченность числа циркулирующих банкнот так подняла бы их стоимость, что они опять достигли бы паритета с золотом. Эта стоимость могла бы подняться лишь не намного выше этой цены, ибо немедленно начался бы ввоз золота; если бы Английский банк постепенно извлёк все свои банкноты из обращения, то их место было бы столь же постепенно занято ввозимым золотом, так как высокая цена последнего - я хочу сказать высокая цена в товарах - не преминула бы привлечь его в нашу страну. Если мой взгляд на этот предмет правилен, то мы можем точно установить размер обесценения, которому подвергались когда-либо банкноты; когда золото продавалось по 4 ф. ст. 13 шилл. за унцию, то банкноты, повидимому, подверглись огромному обесценению в 20%. Меня могут спросить: если банкноты подверглись такому большому обесценению, то почему ни один лавочник не продаст больше товаров за 20 гиней, чем за 21 ф. ст. в банкнотах? Я могу объяснить это только тем, что промысел скупки гиней с премией или, другими словами, продажи банкнот ниже их номинальной стоимости подвергает человека, который открыто занимается им, такому позору и подозрению, что, несмотря на прибыль, никто не осмеливается идти на такой риск, тем более что и закон против переплавки монеты или вывоза её очень суров. Но что такой промысел практикуется, не подлежит никакому сомнению, так как прибыль, доставляемая им, огромна, число же гиней в обращении, принимая во внимание, что в течение настоящего царствования их было отчеканено почти на 60 млн. ф. ст., уменьшилось до очень незначительной суммы. Для развития моей аргументации будет достаточно доказать, что такой промысел может практиковаться с выгодой, так как если лица, занимающиеся этим промыслом, могут открыто и охотно продавать гинеи по 23 шилл. или даже больше в банкнотах, то они могли бы продавать свои товары за золото дешевле, чем за банкноты. Достаточно очевидно, что покупка гиней за 23 шилл. даёт премию от 9 до 10%, а продажа золота за 4 ф. ст. 13 шилл., т. е. с премией почти в 20%, является промыслом более выгодным, чем многие другие в пределах лондонского Сити. Если бы нужны были ещё другие доказательства обесценения банкнот и зависимости этого обесценения от излишнего выпуска их, то мы нашли бы их в нынешних вексельных курсах с иностранными государствами. Чтобы это стало ясным, требуется рассмотреть, что такое вексельный курс, а также правила и пределы, которыми он регулируется. Если я покупаю у купца, живущего в Голландии, товары этой страны, то сделка заключается в деньгах, обращающихся там. Я обязался в результате этой сделки уплатить купцу определённое количество унций серебра данной пробы. Так как сравнительная стоимость серебра и золота почти одинакова во всём мире, то мой долг может быть оценён в серебре или числе унций золота, на которое он обменивается. Если же голландский купец купил у жителя Лондона товары, которые оценены в английских деньгах, то он обязался уплатить определённое число унций золота известной пробы. Чтобы сберечь расходы на пересылку и страхование, с которыми связаны вывоз и ввоз известного количества золота, нужного для ликвидации этих долгов, обе стороны находят для себя удобным производить платёж при помощи векселя, после того как они пришли к соглашению о том, сколько денег одной страны эквивалентно деньгам другой, принимая во внимание их вес, пробу и т. д., и установили, таким образом, так называемый вексельный паритет. Это делается так: я плачу английскому купцу сумму, которую я должен моему корреспонденту в Голландии, а английский купец даёт приказ своему корреспонденту в Голландии уплатить моему ту же самую сумму, оценённую по согласованному вексельному курсу в голландских деньгах. Выгода для обеих сторон заключается в сбережении расходов на пересылку и страхование. Так вот, если двое или больше торговцев задолжали этим путём купцам в Голландии, между ними возникло бы соревнование с целью купить этот вексель, и продавец его не удовлетворился бы уже более том, что он сберёг расходы на пересылку и страхование, связанные с ввозом его золота, но вывез бы свой вексель и получил бы за него премию; обеим заинтересованным сторонам было бы выгодно уплатить ему эту премию, если только она не превосходит расходов по перевозке металла. Премия по необходимости держится в таких пределах, ибо в противном случае оба купца сказали бы: "Количество унций золота, которое я должен в Голландии, имеется налицо для уплаты моего долга. Я готов дать его вам, чтобы вы уплатили его вместо меня, и прибавить к нему расходы, которые будут сопряжены с отсылкой, но ничто не может побудить меня дать больше, и, если вы не принимаете моего предложения, я не буду испытывать большей невыгоды, посылая золото!" Таков, следовательно, естественный предел падения вексельного курса: он не может упасть ниже паритета больше, чем на сумму этих расходов, и не может подняться выше его больше, чем на эту сумму. Но с тех пор, как Английский банк приостановил платежи звонкой монетой, падение вексельных курсов совершалось параллельно повышению цены золота, и в настоящее время оно значительно ниже, чем указанные мною пределы. Объяснить это можно следующим образом. Купец не может больше сказать, что он имеет достаточное число унций золота, чтобы послать за границу для уплаты своего долга; он, правда, может сказать, что имеет достаточное число банкнот и что если бы он мог продать их по паритету или обменять в Английском банке соответственно их номинальной стоимости, т. е. получить по унции золота за каждые 3 ф. ст. 17 шилл. 10 1/2 пенс., то он имел бы достаточно золота, чтобы уплатить свой долг. Однако при существующем положении вещей он может или продать свои банкноты и быть довольным, если ему удастся получить унцию золота, или З ф. ст. 17 шилл. 10 1/2 пенс. за каждые 4 ф. ст. 13 шилл. в банкнотах, или согласиться сделать скидку в этом размере лицу, которому он хочет сбыть свой вексель. Оказывается, таким образом, что вексельный курс может не только упасть до пределов, о которых я прежде упоминал, но и в обратном отношении к росту цены золота или, верное, к обесценению банкнот. Но таковы пределы, внутри которых он устанавливается даже и теперь. Он не может, с одной стороны, подняться выше паритета больше, чем на сумму расходов по перевозке и т. д., связанную с ввозом золота, ни, с другой стороны, упасть больше, чем на сумму расходов по перевозке и т. д., связанную с вывозом золота и прибавленную к сумме, на которую обесценились банкноты. Если бы векселя оплачивались золотом, а не банкнотами, то приостановка банком платежей звонкой монетой никоим образом не могла бы подействовать на вексельный курс свыше тех специфических пределов, которые я уже указал. Что остаётся тогда от аргумента, который так часто употреблялся в парламенте и согласно которому для Английского банка было бы небезопасно платить звонкой монетой до тех пор, пока уровень вексельного курса продолжает быть против нас? Ясно ведь, что прекращение платежей звонкой монетой и является причиной существующего низкого вексельного курса. Пусть по предложению парламента Английский банк будет извлекать постепенно из обращения сумму в 2 или 3 млн. ф. ст. банкнотами, не обязуясь платить с самого начала звонкой монетой, и мы очень скоро увидим, что рыночная цена золота понизится до своей монетной цены в 3 ф. ст. 17 шилл. 10 1/2 пенс., что цена каждого товара испытает подобное же уменьшение и что вексельный курс с иностранными государствами будет ограничен вышеупомянутыми пределами. Тогда стало бы очевидно, что все недостатки нашего денежного обращения вызываются чрезмерными выпусками Английского банка - той опасной властью, которою он облечён, уменьшать по своему произволу стоимость собственности каждого владельца денег и вызывать повышение цен продовольствия и всех предметов жизненной необходимости, нанося тем самым убыток владельцам государственных аннуитетов и всем лицам, доходы которых представляют постоянную величину и которые не могут поэтому свалить со своих плеч ни одной части этого бремени. II. Редактору "Morning Chronicle" Сэр! В соображениях по поводу высокой цены золота, которые я высказал в "Morning Chronicle" от 29 августа, я выразил свои опасения по поводу серьёзных последствий, которые могут быть вызваны возрастающим обесценением бумажных денег. Мне казалось, что Английский банк, уменьшая стоимость собственности столь многих лиц, и притом в таком размере, в каком это ему угодно, может вызвать разорение многих тысяч людей. Я желал поэтому обратить внимание публики на те очень опасные полномочия, которыми облечено это учреждение; но я не высказывал опасения - не больше, чем ваш корреспондент за подписью "Друг банкнот", - что эмиссии Английского банка могут навлечь на нас опасность национального банкротства. Допуская вместе с этим писателем, что спрос на золото возрос, в то время как обычные поставки его были задержаны, я не убеждён выдвинутыми им аргументами в том, что это могло бы оказать воздействие на рыночную цену золота при условии, конечно, что не обесценен тот эталон, которым измеряется цена. Нельзя сомневаться в том, что недостаток золота должен был увеличить его стоимость; несомненно также, что вследствие этого на золото при обмене его на другие товары можно будет получить увеличенное их количество; но никакой недостаток, как бы он ни был велик, не может поднять рыночную цену золота намного выше его монетной цены, если только золото не измеряется обесцененным средством обращения. Из фунта золота чеканятся 44 1/2 гинеи, или 46 ф. ст. 14 шилл. 6 пенс. Это есть, следовательно, монетная цена, которая не может быть названа, как это делает ваш корреспондент, произвольной стоимостью. Это - простое констатирование факта, что 44 1/2 гинеи имеют тот же самый вес, что и фунт золота, a 1/12 часть этого количества, или 3 ф. ст. 17 шилл. 10 1/2 пенс., - такой же вес, как 1 унция. Опыт показал нам - и в особенности опыт 20 лет, предшествовавших 1797 г., с их сменой войны и мира, благоприятного и неблагоприятного положения торговли, - что 46 ф. ст. 14 шилл. 6 пенс., или монетный фунт, могут купить иногда немного больше, а иногда немного меньше, чем фунт нечеканного золота, и, пока на такое же количество банкнот можно купить столько же золота, о них нельзя сказать, что они обесценены. В таком положении банкноты находились всегда до приостановки платежей Английским банком и ещё некоторое время спустя после этого. Может ли автор объяснить нам, каким образом спрос, как бы ни был он велик, может побудить кого-либо дать, как это делалось в последнее время, 55 ф. ст. 16 шилл. в банкнотах за фунт золота, если последние имеют такую же стоимость, как 55 ф. ст. 16 шилл. в монете? Думает ли он, что золото, действительно содержащееся в 55 ф. ст. 16 шилл., весит l 1/5 фунта? Думает ли он всерьёз, что он отдал бы их за 1 фунт? Если мы согласимся, что он этого не сделает, то факт обесценения банкнот вполне установлен. Если бы для покупки золота было дано большее, чем обычно, количество хлеба, металлических изделий или другого какого-либо товара, то можно было бы с полным основанием сказать, что редкость золота повысила его стоимость. Но каковы факты? Если я иду на рынок с хлебом или металлическими изделиями, я могу купить 55 ф. ст. 16 шилл. в банкнотах за такое же точно количество этих товаров, какое я должен отдать, чтобы получить фунт золота, или 46 ф. ст. 14 шилл. 6 пенс. Я не оспариваю мнения автора, что для иностранца может быть выгодно посылать свои товары в Лондон и, продав их здесь за 25 шилл., отдать эту сумму для покупки 1 гинеи. Он может сделать это с прибылью для себя. Но он не дал бы 25 шилл. за гинею, если бы он не платил за неё обесцененными деньгами. И опять-таки я спрашиваю, считает ли автор возможным, чтобы гинея и 4 шилл. отдавались за гинею или за соответствующее количество банкнот, если они обмениваются на эту сумму? Замечания нашего автора ведут к предположению, что так как золото продаётся на континенте по более высокой цене, чем у нас, то мы могли бы получить там за него 4 ф. ст. 15 шилл. или больше за унцию; но мы ошиблись бы, сделав такой вывод. Золото оплачивается там в необесцененных деньгах и стоит, вероятно, несколько выше 4 ф. ст. за унцию. Но тот, кто покупает его здесь за 4 ф. ст. 10 шилл., может, однако, продать его за границей по цене, стоящей там, или благодаря низкому вексельному курсу (вызванному обесценением) он может вознаградить себя за обесценение в 15 или 20%, которому подверглись наши средства обращения. Наш автор утверждает также, что все влияния на вексельный курс, "которые я приписываю выпуску банкнот, имелись бы налицо, если бы в обращении не было ни одной банкноты". Если бы наше обращение велось целиком при помощи звонкой монеты, нашему автору было бы, я думаю, трудно убедить нас, что вексельный курс может быть на 20% против нас. Что могло бы побудить кого-нибудь, кто должен 100 ф. ст. в Гамбурге, покупать здесь вексель на эту сумму, давая за него 120 ф. ст., если расходы, связанные с вывозом 100 ф. ст. для оплаты его долга, не превышают 4 или 5 ф. ст.? Строгость закона против вывоза золотой монеты не позволяет никому открыто продавать банкноты ниже номинальной цены, но не из чувства совестливости, мешающего совершить безнравственный или незаконный акт (каковое мнение приписывает мне автор), а из опасения стать предметом подозрения, раз известно, что гинеи покупаются только для вывоза. При таких условиях за скупщиком гиней будут следить, и он не в состоянии будет выполнить своё намерение. Отмените закон, и что может помешать продаже унции стандартного золота в гинеях за такую же высокую цену, как унции португальской монеты, если известно, что гинея скорее превосходит её по своей пробе? И если унция стандартного золота в гинеях продавалась бы на рынке (как это было в последнее время с португальской монетой) по 4 ф. ст. 13 шилл., то как долго продавал бы лавочник свои товары по одной и той же цене, безразлично, за золото или банкноты? Кары закона снизили, следовательно, стоимость немногих гиней, оставшихся в обращении, до уровня стоимости банкнот, но пошлите их за границу, и они там купят ровно столько же, сколько купит одинаковое количество португальской монеты. Отсюда искушение вывозить их, которое действует так же, как спрос из-за границы. Каналы нашего денежного обращения уже переполнены, и было бы более чем бесполезно удерживать здесь гинеи. Уменьшите, наоборот, количество обращающихся денег, извлекая излишнее количество банкнот. Сбросьте со счетов часть их, как по справедливому замечанию вашего корреспондента это было сделано во Франции и других странах путём аннулирования их бумажно-кредитного обращения. Что сможет тогда воспрепятствовать платёжеспособному спросу, который будет, таким образом, немедленно создан, вызвать ввоз золота и как его следствие - благоприятный вексельный курс? Если бы количество обращающихся у нас денег было увеличено на 1/5, то до тех пор, пока эта 1/5 не была бы извлечена, цены золота и товаров остались бы без изменения. Увеличьте количество банкнот, и цепы возрастут ещё больше; но извлеките эту 1/5, как я настоятельно рекомендую, и тогда золото и всякий другой товар найдут свой надлежащий уровень, и, пока банк продолжает пользоваться доверием публики, те, кто владеет унцией золота в форме 3 ф. ст. 17 шилл. 10 1/2 пенс. в банкнотах, всегда могут купить эту унцию золота в натуре. Предложение изменить монетную цену и приравнять её к рыночной цене золота, или, другими словами, объявить, что 3 ф. ст. 17 шилл. 10 1/2 пенс. в монете приравниваются 4 ф. ст. 13 шилл., только обострило бы зло, на которое я жалуюсь, не говоря уже о его кричащей несправедливости. Такое насильственное мероприятие подняло бы рыночную цену золота на 20% выше его новой монетной цены и ещё больше понизило бы стоимость банкнот в той же самой пропорции. Таким талантливым экономистом, как д-р Адам Смит, было неопровержимо доказано, что норма процента по ссудам регулируется нормой прибыли только на ту часть капитала, которая состоит не из денег, а также, что эта прибыль не регулируется ничем, будучи вполне независимой от большего или меньшего количества денег, выпускаемых для целей обращения; увеличение средств обращения увеличит цены всех товаров, но не понизит норму процента. Мы не должны поэтому руководствоваться в наших суждениях об эмиссиях Английского банка критерием нормы процента, так настоятельно рекомендуемым вашим корреспондентом, ибо раз аргументация д-ра Смита правильна, то, будь количество наших средств обращения в 10 раз больше, чем оно есть, норма процента не была бы затронута этим надолго. Я думаю, сэр, что мне удалось доказать, что мои опасения не совсем неосновательны и что налицо имеется большое обесценение нашей денежной массы, затрагивающее интересы владетелей государственных аннуитетов, так же как и тех, чья собственность состоит из денег, без всякой соответствующей выгоды. Зло, связанное с изменчивым эталоном стоимости, поскольку оно затрагивает все сделки, слишком очевидно, чтобы на него ещё нужно было указывать. Постоянство стоимости драгоценных металлов в первую очередь рекомендовало их в качестве всеобщего средства обмена. Это преимущество теперь потеряно для нас, и мы не можем считать, что наше денежное обращение покоится на солидном основании, пока оно не будет восстановлено до уровня стоимости остальных стран. Г-н Коббетт полагает, что после извлечения определённого количества банкнот Английского банка из обращения место их было бы немедленно занято провинциальными банкнотами. По моему мнению, ничего подобного не произойдёт, напротив, я думаю, что такая мера вынудила бы провинциальные банки извлечь из обращения столько же, если не значительно больше, их банкнот. Банкноты Английского банка и банкноты провинциального банка представляют теперь одинаковую стоимость, и количества их находятся в соответствии с теми функциями, которые они должны выполнять. Извлекая банкноты Английского банка из обращения, вы увеличиваете их стоимость и понижаете цены товаров в тех местах, где они имеют обращение. Банкнота Английского банка будет при этих условиях иметь большую стоимость, чем провинциальная банкнота, потому что она будет нужна для покупки на более дешёвом рынке; а так как провинциальный банк обязан давать банкноты Английского банка в обмен на свои собственные, то на них будет предъявляться спрос до тех пор, пока количество провинциальных банкнот не будет находиться в том же самом отношении к количеству лондонских банкнот, в каком оно было прежде. Это вызовет соответствующее падение цен всех товаров, на которые обмениваются провинциальные банкноты. Лицу, писавшему в газете "Pilot", угодно было сделать предположение, что джентльмен, выступавший в вашей газете под именем "Меркатора", писал "в помощь или подражание мне или в союзе и заговоре со мной". Этот факт имеет сам по себе весьма малое значение. Если его аргументы или мои слабы, покажите это, но "Не-делец" ошибается: мне, так же как и ему, взгляды "Меркатора" стали известны только через посредство "Morning Chronicle". Остаюсь, сэр, и т. д. III. Редактору "Morning Chronicle" Сэр! Если бы ваш корреспондент "Друг банкнот" доказывал ещё в то время, когда он в первый раз сделал мне честь отметить мои замечания о высокой цене золота, как он это делает теперь, что банкноты были представителями серебряных, а не золотых монет, то мы скорее открыли бы источники наших разногласий о предмете нашего спора. Я избавил бы его тогда, сэр, от труда дать столько доказательств следующему бесспорному положению: если бы серебро было единственной мерой стоимости, то тот факт, что золото стоит 4 ф. ст. 13 шилл. за унцию, не является сам по себе доказательством обесценения банкнот. Я, право же, думал, что доказал это положение в следующих замечаниях: "Когда мы говорим о высокой цене золота, то решительно всё равно, измеряется ли она в золоте или банкнотах, которые можно немедленно обменять на золото. Она может быть высока, будучи оценена в серебре или в товарах всякого рода". Из содержания первого и следующего писем явствовало, что я рассматривал золотую монету как эталон обмена и измерял им обесценение банкнот. Я не имел основания предполагать, что ваш корреспондент смотрел иначе на этот вопрос. В одном месте он называет банкноты "заместителями золота", в другом он замечает, что "если бы банк не был связан запрещением платить звонкой монетой, то большой и растущий спрос на золото на континенте извлёк бы из нашей страны каждую гинею и оставил бы нас без всяких ресурсов на крайний случай, когда кредит мог бы пошатнуться". Запрещение размена могло только дать возможность директорам Английского банка, если они были расположены к этому, противодействовать вывозу за границу накопленных в банке гиней. Гинеи, находившиеся в обращении, могли быть вывезены из страны как до, так и после этой меры. Но если бы одно только серебро было эталоном денежного обращения, как это в настоящее время утверждают, то банк мог бы платить по своим банкнотам теперешней неполновесной серебряной монетой, например в шиллингах, потерявших 24% своего стандартного веса и стоимости. Гинея, следовательно, не нуждалась бы в этой защите. На серебро не проявлялся бы спрос потому, что оно могло бы быть расплавлено или вывезено только с потерей в 24%. Если бы серебро было эталоном денежного обращения, то банкноты обращались бы в 1797 г. с премией в 24%, а в настоящее время - с премией в 14%. Но если, как я попытаюсь доказать, мерой стоимости является золото и банкноты являются, следовательно, представителями золотой монеты, то я вправе ожидать, что автор согласится со мной относительно обесценения банкнот, а также и с тем, что превышение монетной цены золота его рыночной ценой является мерой его обесценения. Цена стандартного серебряного слитка составляла в последний вторник 5 шилл. 9 1/2 пенс. за унцию. В тот же день цена стандартного золотого слитка равнялась 4 ф. ст. 10 шилл. за унцию, следовательно, унция золота равнялась приблизительно 15 1/2, а не 18 унциям серебра. Итак, если мы будем оценивать стоимость банкнот ценою золотых слитков, то банкноты окажутся обесцененными на 15 1/2%, если ценою серебряных слитков, - то на 12%. Но ваш корреспондент, несомненно, заметил бы, что это заключение, сделанное на основании цены серебра, было бы правильно лишь при условии, что наши серебряные деньги не были попорчены обрезыванием и соскабливанием; поскольку же мы знаем, что они обесценены в силу своей неполновесности, то ясно, что высокая цена золотых слитков была вызвана в значительной степени, а серебряных слитков целиком этим дефектом. Согласно этой аргументации банкноты являются представителями не наших стандартных серебряных денег, а нашей неполновесной серебряной монеты. Лорд Ливерпуль в письме к королю о состоянии денежного обращения заметил, что действующий теперь закон, находящийся в силе с 1774 г., гласит: "Никакая уплата, произведённая когда-либо серебряной монетой королевства на сумму, превосходящую 25 ф. ст., не может почитаться в пределах Великобритании или Ирландии законной или произведённою законным платёжным средством для большей стоимости, чем та, которая соответствует ей по весу, т. е. 5 шилл. 2 пенса за каждую унцию серебра". Банкноты не являются поэтому представителями неполновесных серебряных денег. Держатель банкноты в 1 тыс. ф. ст. может отказаться принять в уплату больше чем 25 ф. ст. в нынешней неполновесной серебряной монете. Если бы остаток в 975 ф. ст. был уплачен ему в шиллингах, он получил бы их по весу по их монетной цене в 5 шилл. 2 пенса за унцию, что вместе с 25 ф. ст. неполновесного серебра при продаже по теперешней цене в 5 шилл. 9 1/2 пенс. за унцию дало бы 1 110 ф.ст. в банкнотах, а это доказывает, что на основании принципов, установленных нашим же автором, банкноты были бы обесценены на 11% , если бы серебро сделалось эталоном денежного обращения. В силу оснований, приводимых лордом Ливерпулем в его вышеупомянутом труде, я считаю золото стандартной мерой стоимости. Он замечает, что "серебряные монеты не являются уже больше главной мерой стоимости: все товары получают теперь свою цену или стоимость по отношению к золотой монете точно так же, как и раньше они получали стоимость по отношению к серебряной монете. Существующие недостатки серебряной монеты, как они ни велики, не принимаются благодаря этому во внимание при уплате цены какого-нибудь товара в размерах суммы, для которой серебро является законным платёжным средством. Ясно поэтому, что золотая монета стала теперь и на практике и в общественном мнении главной мерой собственности". Он констатирует затем, что в царствование Вильяма III стоимость находившейся в обращении гинеи доходила до 30 шилл. и что стоимость золотой монеты повышалась или падала пропорционально тому, была ли серебряная монета более или менее совершенна. "Такое увеличение или изменение в стоимости золотой монеты не имело места с 1717 г., когда цена или стоимость гинеи была определена особым постановлением и удостоверением Монетного двора в 21 шилл., а стоимость других золотых монет определялась соответственно стоимости гинеи; серебряные же монеты, обращающиеся теперь, давно были и всё ещё являются по крайней мере такими же неполновесными, какими они были в начале царствования короля Вильяма. Несмотря на это, гинея и другие золотые монеты постоянно обращались с 1717 г. по норме или стоимости, данной им удостоверением Монетного двора". "Оба изложенные соображения ясно доказывают мнение народа Великобритании как по вопросу о внутренней торговле, так и по отношению к внутренним делам. Теперь я хочу показать, каково было мнение на этот счёт иноземных народов". В царствование короля Вильяма вексельные курсы повышались или падали в соответствии с совершенством или недостатками нашей серебряной монеты. До перечеканки в 1695 г. вексельные курсы со всеми чужими странами были против Англии на 4 шилл. на фунт, а с некоторыми ещё гораздо больше. "Однако это зло больше не существовало с 1717 г., хотя наша серебряная монета в течение всего этого периода была очень испорчена. Но, с другой стороны, наши вексельные курсы с чужими странами в очень большой степени склонялись против нас, когда наша золотая монета была неполновесна, т. е. до реформы нашего золотого денежного обращения в 1774 г." Лорд Ливерпуль считает это доказательством того, что иностранцы рассматривали нашу золотую монету как главную меру собственности. Другой аргумент почерпнут из цен золотых и серебряных слитков. Когда наша золотая монета была до перечеканки в 1774 г. неполновесна, цена золотых слитков поднялась значительно выше их монетной стоимости, но сейчас же после того, как золотая монета доведена была до её настоящего состояния совершенства, цена золотых слитков упала несколько даже ниже монетной цены и продолжала держаться на этом уровне в течение 23 лет - до 1797 г. "Таким образом, из этих фактов явствует, что цена золотых слитков испытала на себе влияние состояния нашей золотой монеты, хотя начиная с 1717 г. влияние плохого состояния или положения нашей серебряной монеты не отражалось на их цене". Цена серебряных слитков испытывала на себе с 1717 г. влияние совершенства или недостатков нашей золотой монеты, но не была в такой степени затронута плохим состоянием нашей серебряной монеты. "Из всего этого явствует, что стоимость золотых или серебряных слитков оценивалась по крайней мере в течение 40 лет соответственно состоянию исключительно нашей золотой монеты, а не серебряной. Цена обоих этих металлов повышалась, когда наша золотая монета ухудшалась, она упала, когда наша золотая монета была доведена до настоящего совершенства, и можно поэтому с полным основанием сделать вывод, что в мнении торговцев драгоценными металлами (которые могут считаться лучшими судьями в этом деле) золотая монета сделалась главной мерой собственности, а потому и орудием торговли". В другом месте лорд Ливерпуль высказывает мнение, что фунт стерлингов составляет 20/21 гинеи. То же самое мнение высказывается сэром Джемсом Стюартом. "В настоящее время, - говорит он, - нет фунтов стерлингов в серебряной монете; количество серебра в Англии отнюдь не пропорционально размерам торгового обращения, и поэтому единственными деньгами, в которых может быть измерена стоимость фунта стерлингов, являются гинеи". Директора Английского банка должны были быть того же мнения, констатируя в своих показаниях парламенту, что они обычно ограничивали количество своих банкнот, когда рыночная цена золота превосходила его монетную цену. В докладе Комитета палаты лордов в 1797 г. сказано, что "золото есть торговая монета Великобритании, а серебро в течение уже многих лет было только товаром, который не имел никакой твёрдой цены и очень редко посылается на Монетный двор для чеканки, но изменяется (в цене) согласно спросу на него на рынке". Остаюсь, сэр, вашим покорным слугой 4 ноября. 1) Ответ г-ну Троуэру "Фактически, - говорит г-н Троуэр, - банкноты в настоящее время не представляют ни золота, ни серебра, так как банк не имеет права платить по своим банкнотам ни золотом, ни серебром". Спор между г-ном Троуэром и мною, как я его понял, идёт о том, является ли банкнота обязательством платить золотом или серебром. Верно, что Английский банк законом освобождён от выполнения своих обязательств, но этот факт не должен мешать нам установить, в чём состоит его обязательство и каким образом он будет вынужден выполнять его, если закон будет отменён. Именно в этом пункте различаются наши взгляды на предмет. Г-н Троуэр утверждает, что если бы Английский банк был внезапно вынужден выполнить свои обязательства, он мог бы платить и платил бы серебряной монетой, так как для него это выгодно; я, напротив, доказываю, что, призванный сделать это, он был бы вынужден платить золотой монетой, что серебряная монета недостаточна для этой цели и что имеется такой закон, в силу которого нельзя чеканить серебряную монету. Я допускаю, что при возможности перечеканить серебро в монету этому металлу отдали бы предпочтение, потому что его можно получить дешевле, но, пока существует закон против чеканки серебра, мы вынуждены пользоваться только золотом. Г-н Троуэр сам признаёт полностью моё утверждение, когда говорит: "Если в это время (когда закон, запрещающий размен, будет отменён) закон, запрещающий чеканку серебряной монеты, будет сохранять свою силу, то в этом случае золото, несомненно, должно быть рассматриваемо как мера стоимости в этой стране". Имеет ли г-н Троуэр право говорить о вещах не как они действительно существуют, а как они будут существовать по его предположению когда-нибудь в будущем? Конечно, закон, запрещающий чеканку серебра, может быть отменён, и, когда это случится, г-н Троуэр будет, может быть, прав: серебро может тогда стать стандартной мерой стоимости, но, пока закон остаётся в силе, золото должно быть по необходимости такой мерой, и, следовательно, стоимость банкнот может быть измерена их сравнительной стоимостью по отношению к золотой монете или слиткам. Тот факт, что в обращении находится больше серебра, чем золота, легко может быть объяснён в первую очередь тем, что банкнот меньшего достоинства, чем в 1 ф. ст., не существует, и приходится, следовательно, употреблять серебро при мелких платежах. Во-вторых, поскольку банкноты являются заместителями золотой монеты, в гинеях абсолютно нет нужды. А это в соединении с их высокой стоимостью сравнительно с их заместителями достаточно объясняет их исчезновение из обращения. В-третьих, так как золотая монета удержала свой стандартный вес, а серебряная потеряла 40% своего веса, выгодно переплавлять гинеи и удерживать серебро в обращении. Перейдём теперь ко второму предмету спора - тому действию на цены товаров, а также золотых и серебряных слитков, которое г-н Троуэр приписывает неполновесности серебряной монеты. Почему же, спрошу я, если это действительно так, то же самое действие не сказывалось на рыночных ценах этих металлов до приостановки размена банкнот Английским банком в 1797 г.? Сказать, что золотая монета была тогда стандартной мерой и что эта монета не была испорчена, а потому такого действия не воспоследовало, не значит дать удовлетворительный ответ. Я считаю этот ответ неудовлетворительным, так как золото было ведь мерой стоимости по той причине, что им было выгоднее платить долг, чем стандартной серебряной монетой, но мы теперь говорим не о стандартной серебряной монете, а о неполновесной. Последняя была тогда, так же как и теперь, сравнительно дешевле, чем золотая монета, и если она может быть использована с большей выгодой для уплаты долга теперь, то это могло иметь место и тогда. Однако тогда это не приводило к тем же результатам; золотые слитки стоили всё время ниже их монетной цены, а серебряные - выше таковой только потому, что монетные соотношения были неточно определены. Быть может, несколько дальнейших разъяснений сделают этот вопрос более ясным. В 1797 г. серебряная монета была обесценена на 24%, в то же самое время отношение стоимостей золота и серебра на рынке составляло 14 3/4 : 1, тогда как в монете они оценивались как 15 : 1, поэтому при сравнении стандартных металлов за меру стоимости принималось золото. Но отношение стоимости золота к стоимости неполновесной монеты равнялось 19 : 1. Значит, тогда, как и теперь, существовали одинаковые основания к тому, чтобы цена золотых слитков была выше их монетной цены, ибо в обоих случаях это было связано с ухудшением серебряной монеты. Я поэтому утверждаю, что если, как это предполагает г-н Троуэр, цена товаров подверглась изменению вследствие ухудшенного состояния серебряной монеты, то это явление имело место в силу тех же оснований и в той же мере в 1797 г., как и много лет назад. Может ли г-н Троуэр объяснить, почему этого не было в течение 23 лет до 1797 г., когда золото стоило ниже своей монетной цены? Я сказал: "Сравните неполновесную серебряную монету с золотой монетой стандартного качества - разве она не имеет одинаковой стоимости с ней?". Г-н Троуэр отвечает: "Вы говорите, что банкноты подверглись обесценению на 20%, сравните их с полновесной золотой монетой, - разве они не имеют одинаковой стоимости с ней?". В другом месте г-н Троуэр замечает, что если верно, как я утверждаю, что 1 тыс. ф. ст. в неполновесной серебряной монете купят ровно столько же золотых или серебряных слитков, как 1 тыс. ф. ст. в золотой монете, то так же верно, что 1 тыс. ф. ст. в банкнотах купят столько же. Если, таким образом, допустить, что в настоящее время 1 тыс. ф. ст. в золотой монете, в неполновесной серебряной монете или в банкнотах имеют совершенно одинаковую стоимость, когда на них покупаются товары, то где же причина, что ни за одну из них нельзя купить столько золотых или серебряных слитков, сколько в 1797 г., т. е. до издания закона о запрещении размена банкнот? И, хотя во внутреннем обращении они могут иметь одинаковую стоимость, является ли это совпадение в их стоимости естественным или принудительным? Не подлежит никакому сомнению, что стоимость банкнот и неполновесной серебряной монеты регулируется в настоящее время не стоимостью полновесной золотой монеты. Если бы это было так, цена золота не была бы выше его монетной цены. Ведь г-н Троуэр всегда соглашался, что никто не дал бы больше одной унции золота за унцию золота; поэтому золото не могло бы стоить 4 ф. ст. 10 шилл. или 4 ф. ст. 13 шилл. за унцию, если бы стоимость всех обращающихся денег равнялась стоимости золотой монеты. Отсюда неизбежно вытекает, что стоимость золотой монеты доведена до уровня неполноценной серебряной монеты или банкнот. Но я уже заметил, что до 1797 г. стоимость неполноценной серебряной монеты всегда поднималась до стоимости золотой монеты (потому что количество её было всегда умеренным) и что, хотя для определённой суммы она была законным платёжным средством, она не была ни достаточно изобильна, ни достаточно ходка, чтобы поднять цену золотых слитков выше их монетной цены. Ни разу не случилось, чтобы кто-нибудь купил золотой слиток хотя бы на один пенс дороже за унцию только потому, что он желал... платить неполновесной серебряной монетой. Если, таким образом, золотая и серебряная монеты имели одинаковую стоимость и были одновременно обесценены в своей меновой стоимости до 4/5 их действительной стоимости, короче говоря, до стоимости банкнот, находившихся в обращении одновременно с ними, то чему он может приписать это явление, если не обесценению банкнот? Предположим, что закон против вывоза гиней отменён. Г-н Троуэр не будет тогда утверждать, что золотая монета, серебряная монета и банкноты имеют одинаковую стоимость, потому что он уже допустил, что никто не даст больше 1 унции золота за унцию золота; однако при этих обстоятельствах золото будет продаваться за 4 ф. ст. 10 шилл. или 4 ф. ст. 13 шилл. в банкнотах или неполновесных шиллингах, но в золотой монете оно будет стоить не выше 3 ф. ст. 17 шилл. 10 1/2 пенс. за унцию. Стоимость, по которой обращается в настоящее время золотая монета, есть принудительная стоимость; её естественная стоимость на 15% выше её принудительной стоимости, но отмените закон, удалите силу, которая заставляет снижаться её стоимость, и она немедленно приобретёт вновь свою естественную стоимость. Допустим, что я, таким образом, уступил в первом спорном пункте и допустил, что банкноты представляют обязательства платить серебряной, а не золотой монетой, тогда стало бы очевидным, что обесценение серебряной монеты не могло бы произвести на цены золотых или серебряных слитков или всяких других товаров никакого другого действия, кроме того ничтожного влияния, какое могло бы оказать на них наличие незначительной доли неполновесной серебряной монеты, рассматриваемой как законное платёжное средство. До перечеканки золотой монеты в 1774 г. золотой слиток стоил, как я уже заметил, 4 ф. ст. за унцию, т. е. на 2 1/2% выше монетной цены золота. Обесценение золотой монеты должно было аналогичным образом повысить цены всех других товаров. Против этого положения нельзя больше спорить. Сейчас же после перечеканки цена золота упала ниже его монетной цены. Пока золотая монета теряла, таким образом, в весе, за гинею, только что вышедшую с Монетного двора и, следовательно, не подвергшуюся ещё снашиванию, или за гинею, находившуюся в резерве и не подвергавшуюся снашиванию, можно было бы купить не больше товаров, чем за потёртую и неполновесную гинею; однако отсюда нельзя было бы заключить, что неполновесная и новенькая гинеи имеют одинаковую стоимость, так как ясно, что цены всех товаров регулировались бы в этом случае не количеством золота в новеньких гинеях, а количеством золота, действительно содержащегося в старых гинеях. Точно так же и теперь: хотя в обращении находится немного гиней и при покупке товаров они расцениваются не по более высокой стоимости, чем та же сумма в банкнотах, однако цены товаров регулируются не количеством золота, которое содержат гинеи, но количеством его, за которое можно купить банкноты. Если монета полновесна и банкноты не обесценены, то эти два количества должны быть всегда почти одинаковы. Тот факт, что золотая монета была в течение почти целого столетия главной мерой стоимости, установлен, по моему мнению, вполне бесспорно доводами лорда Ливерпуля. Они вкратце заключаются в следующем. Обесценение серебряной монеты в течение этого периода не вызвало какого-нибудь перевеса рыночной цены золотых или серебряных слитков над их монетной ценой; оно не произвело также никакого влияния на вексельные курсы с иноземными странами, в то время как обесценение золотой монеты, имевшее место в течение части столетия, сейчас же вызывало повышение рыночной цены золотых и серебряных слитков и соответствующее воздействие на уровень вексельных курсов; немедленно после того, как золотая монета была доведена до её теперешнего состояния совершенства, цена слитков упала ниже их монетной цены, и вексельные курсы достигали паритета или были благоприятны для нас. Лорд Ливерпуль ясно доказал этот факт, но не дал удовлетворительных объяснений, почему золото должно было стать стандартной мерой стоимости предпочтительно перед серебром. Я думаю, что золото должно быть главной, если не единственной, мерой стоимости до тех пор, пока относительная стоимость золота и серебра будет меньше на рынке, чем их относительная стоимость в монете согласно монетному уставу. Золотая и серебряная монеты одинаково являются в силу закона признанным платёжным средством, если они имеют законный вес. В силу монетного устава золото в 15 9/124 раза дороже серебра. На рынке же до того времени, когда писал лорд Ливерпуль, золото было - в среднем за очень долгий период - только в 14 3/4 раза дороже серебра, поэтому каждому должнику выгодно было платить своп долг в золотых монетах, и, следовательно, каждому, кто доставлял на Монетный двор металл для чеканки, в том числе и Английскому банку, было выгодно доставлять с этой целью золото, а не серебро. Таким образом, если бы я был купцом, склады которого хорошо снабжены товарами, и был бы должен 1 тыс. ф. ст., я мог бы купить столько золотых слитков, сколько содержится золота в 1 тыс. ф. ст., при помощи меньшего количества товаров, чем я должен был бы отдать, чтобы получить соответствующее количество серебряных слитков, содержащееся в 1 тыс. ф. ст., и это побудило бы меня купить золото, а не серебро и направить в Монетный двор для чеканки не серебро, а золото. Пока золото было только в 14 3/4 раза дороже серебра, цена серебряного слитка была бы всегда выше его монетной цены, поэтому для Английского банка было бы убыточно покупать серебряные слитки для чеканки, тогда как при покупке для этой цели золотых слитков он не потерпел бы никаких убытков. Итак, очевидно, что золото будет единственной мерой стоимости только тогда, когда в сравнении с серебром оно будет стоить на рынке дешевле, чем согласно монетному уставу. В течение этого времени банкноты будут представителями золотой монеты, потому что Английский банк будет всегда платить в монете, чеканка которой обойдётся ему всего дешевле. Но если с течением времени, как это, повидимому, имело недавно место, золото сделалось бы дороже и ценилось бы на рынке по отношению к серебру выше, чем в форме монеты, - если бы оно было в 15 1/2 или 16 раз дороже серебра, то золото стоило бы выше своей монетной цены, а серебро сохраняло бы свою монетную стоимость или было бы ниже её. Золото могло бы тогда быть с выгодой переплавлено, а серебро с выгодой же перечеканено в монету. Серебро стало бы, таким образом, мерой стоимости; Английский банк оплачивал бы свои банкноты в серебре, и, следовательно, банкноты стали бы представителями серебряной, а не золотой монеты. В этом состоит на самом деле доказательство г-на Троуэра. Высокая цена золотых слитков не есть сама по себе, как он справедливо утверждает, доказательство обесценения банкнот, потому что золотые слитки могут подняться в цене выше своей монетной стоимости в результате изменения их стоимости по отношению к серебру; это может произойти даже при полном отсутствии банкнот. Из того, что я уже сказал, явствует, что я безоговорочно принимаю это положение за истину. Но если причина высокой цены золотых слитков именно такова, то цена серебряных слитков никогда не будет выше их монетной цены до тех пор, пока одни только полновесные монеты будут законным платёжным средством. Когда цена серебряных слитков была выше их монетной цены, а цена золотых равнялась своей монетной цене или была ниже её (а это было общим явлением до 1797 г.), то никто не утверждал, что банкноты обесценены, и если бы цена золотых слитков была на 20% выше их монетной цены, а цена серебряных равнялась их монетной цене, то я считал бы, что банкноты не подверглись обесценению. Но раз цена обоих металлов выше их монетных цен, то это - убедительное доказательство, что находящиеся в обращении банкноты обесценены. Г-н Троуэр хочет объяснить этот факт установленным обесценением серебряных денег. Если бы эти неполновесные деньги были законным платёжным средством, я не спорил бы с ним об этом, но он сам признаёт, что это не так, поэтому неполновесность серебряной монеты не может быть причиной высокой цены серебряных слитков. Я хочу ответить теперь на некоторые замечания г-на Троуэра по поводу моего последнего письма в "Morning Chronicle". Я приводил цену серебра в 5 шилл. 9 1/2 пенс., не имея намерения усилить или ослабить мою аргументацию. Мне кажется, что цена 5 шилл. 7 пенс. не была упомянута г-ном Троуэром, когда он писал, и я не думал, что расчёты его основаны на этой цене; но, как он замечает, мы спорим о принципах, а потому цена в 5 шилл. 7 пенс. для меня так же годится, как цена в 5 шилл. 9 1/2 пенс. Г-ну Троуэру кажется, что в моём высказывании имеется несогласованность, что если бы серебро было принято за денежный эталон, то банкноты обращались бы в 1797 г. с премией в 24%, а теперь - с премией в 14%; при этом предполагается, что эталоном служит неполноценная серебряная монета, на том основании, что на 100 ф. ст. в банкнотах можно было купить в 1797 г. на 24% больше серебра в слитках, чем его содержалось в 100 ф. ст. неполновесной серебряной монеты, и притом купить по его настоящей цене, т. е. на 14% дороже. Я, кроме того, сказал, что "если мы оцениваем стоимость банкнот в серебряных слитках, то мы найдём, что они подверглись обесценению в 12%", а в другом месте: "что если бы серебро было принято за денежный эталон, то банкноты, находящиеся в обращении, стоили бы на 11% меньше". Меня приглашают объяснить эти места. Я думал, что если бы наши серебряные деньги отличались стандартным монетным весом и, следовательно, были бы так же хороши, как одинаковое количество слитков, то обращающиеся банкноты, оцениваемые таким мерилом, стоили бы на 12% меньше; но так как наши деньги не отличаются такой чистотой, так как по закону при крупных платежах кредитор может быть вынужден принимать в уплату до 25 ф. ст. неполноценной монеты, то банкноты, оцененные в наших серебряных деньгах, стоили бы на 11% меньше. В расчётах, сделанных г-ном Троуэром, он приписывает весь излишек рыночной цены золота над его монетной ценой обесценению серебряной монеты, за исключением лишь той части этого излишка, которая вызвана изменением в относительной стоимости двух металлов. Он прав, оценивая изменение в относительной стоимости золота и серебра (он приводит цены в 4 ф. ст. 13 шилл. для золота и 5 шилл. 7 пенс. для серебра) в 11 ф. ст. 7 шилл. 2 пенса на 100 ф. ст., но он делает поспешное заключение, приписывая баланс превышения цены золота над банкнотами, т. е. 8 ф. ст. 1 шилл. 3 пенса, обесценению серебряных денег, - он считает доказанным то, что является предметом спора, и не объясняет нам своих данных. При том же правиле, если бы он взял теперешние цены золотых и серебряных слитков, т. е. 4 ф. ст. 10 шилл. и 5 шилл. 9 1/2 пенс., он должен был бы установить действие обесценения серебряной монеты по крайней мере в 12%. Он ведь не скажет, что обесценение серебряной монеты увеличилось с тех пор, как началась, дискуссия, поэтому он должен найти другую причину для объяснения разницы между 8 ф. ст. 1 шилл. 3 пенс. и 12 ф. ст. Г-н Троуэр говорит, что если бы в обращении был только один металл, то рыночная цена превосходила бы монетную в точном соответствии с порчей монеты, но если в обращении находятся два металла, то из этого не следует, что слитки оплачиваются обесцененными деньгами. Из того, что уже было сказано, следует, что, хотя мы имеем в обращении два металла, один необходимо должен быть вытеснен из обращения, а так как обесцененная серебряная монета не является законным платёжным средством, то ею нельзя измерить никакой стоимости. Меня обвиняют в том, что я устанавливаю невозможный случай, и спрашивают: "Какое доверие может быть оказано такой гипотезе? Это способ рассуждения столь же необычный, сколь и бесполезный". Но разве предположить, что должник платил бы мне серебряной монетой, значит предположить невозможный случай? Вопреки мнению г-на Троуэра я утверждаю, что находящиеся в обращении банкноты обесценены, а в доказательство моего положения я устанавливаю, что если мой должник решит уплатить мне свой долг серебром, он будет вынужден законом уплатить такую сумму, которая равнялась бы по стоимости 1 120 ф. ст. в банкнотах. Разве это не удовлетворительный аргумент, доказывающий, что серебро, содержащееся в 1 тыс. ф. ст., стоит больше, чем 1 тыс. ф. ст. в банкнотах? Тот факт, что уплата такого рода невозможна до тех пор, пока закон позволяет платить бумагой, которая, правда, называется 1 тыс. ф. ст., но может купить лишь столько серебра, сколько содержится в 900 ф. ст., представляет злоупотребление, против которого я протестую, а так как никто не отрицает, что 1 тыс. ф. ст. стоят больше, то наличие злоупотребления доказано. Я согласен с г-ном Троуэром в том, что серебро есть законное платёжное средство на всякую сумму, как и золото, если оно имеет свой монетный вес, но с его стороны это допущение фатально для его аргумента. На 62 шилл. стандартного веса, которые по его допущению равняются фунту серебра, я всегда могу купить фунт серебра в слитке. Он не отрицает этого. Он вполне соглашается, что если серебряная монета полновесна, то цена серебряных слитков, оплачиваемых серебряной монетой, не может превышать их монетную цену. Но на 62 шилл. в банкнотах я не могу купить фунт серебра, за фунт серебра я вынужден дать 3 ф. ст. 7 шилл. банкнотами, а это составит премию в 8 ф. ст. 1 шилл. 8 пенс. Можно ли, желая быть последовательным, утверждать, что 62 шилл. стандартного веса, являющиеся законным платёжным средством, стоят не больше, чем 3 ф. ст. 2 шилл. в банкнотах? Если бы наш Монетный двор предписывал, чтобы каждый шиллинг весил унцию, то до тех пор, пока шиллинги были бы полновесными, серебро не могло бы стоить больше шиллинга за унцию; даже при обесценении денег и падении веса шиллинга только до пол-унции цена серебра не поднялась бы всё же выше 1 шилл. за унцию, если бы закон защищал продавца слитков от уплаты неполновесной монетой. "Конечно, - сказал бы он, - я продал вам серебро по 1 шилл. за унцию, но шиллинг, которым вы мне платите, неполновесен, вы должны поэтому платить мне по весу согласно монетной цене шиллинга". Продавец получит поэтому в конечном счёте по два неполновесных шиллинга за унцию, хотя он продал своё серебро по одному. Что таково было положение дел на рынке серебряных слитков, учит нас опыт почти целого столетия. Цена серебряных слитков редко поднималась выше их монетной цены, и увеличение последней объяснялось изменениями в относительной стоимости золота и серебра. Серебро оплачивалось в золоте, и потому золото сохраняло свою монетную стоимость. 2) Ответ г-м Троттеру и Троуэру Что собственно хочет сказать г-н Троттер, утверждая, что внешние долги, может быть, выгоднее уплатить путём вывоза дорогих товаров, чем дешёвых, - вывозом золота, которое у нас дороже, чем товаров, которые у нас дешевле, чем за границей? Это, очевидно, невозможно; это включает противоречие, и нет нужды доказывать его нелепость. Если г-н Троттер думает, что вывоз всех других товаров будет сопровождаться такими большими расходами, которые сделают вывоз золота более выгодным, то он не сможет тогда утверждать, что золото дороже у нас, чем за границей, потому что оно при всех обстоятельствах наиболее дешёвый экспортный товар. Когда мы говорим, что золото у нас дороже, чем за границей, а товары дешевле, то мы должны включить в расчёт расходы, сопровождающие их вывоз на иностранные рынки, иначе они не могут служить удовлетворительными предметами сравнения. Если же г-н Троттер хочет сказать, что только золото будет принято в уплату за наш долг, какова бы ни была его относительная цена, - ибо здесь прекращается всякое сравнение между золотом и другими предметами, - то ведь мы обязались платить золотом, и ничто, кроме золота, не освободит нас от наших обязательств. Но я имею теперь дело не с замечаниями г-на Троттера, а с замечаниями г-на Троуэра. Г-н Троуэр замечает, что если бы можно было допустить, что иностранный купец будет ввозить золото с убытком, то из этого следовало бы, что купцы меняют два товара, на одном из которых оба теряют (я предполагаю, что этот товар - слитки); их прибыли, говорит он, должны быть тогда получены с другого товара. Продавец должен прибавить к цене товара, например пшеницы, убыток, который он потерпел на золоте, полученном в уплату; далее покупатель должен прибавить к цене товара (пшеницы), кроме прибыли, убыток, который он терпит на золоте, каковым он платит за товар. Во-первых, это не удовлетворительный ответ г-ну Троттеру, который предполагает, что долг уже заключён и что по этому долгу можно платить только деньгами. Аргумент г-на Троуэра не имеет также никакого отношения к какому-либо новому договору, который может иметь место между экспортёром пшеницы с континента и экспортёром слитков золота или денег из Англии и который обязательно включает определение стоимости этих товаров. Он имеет в виду следующий случай: импортёр пшеницы в Англию обязался уплатить известную сумму денег - слиток золота определённого веса, и наступило время, когда его кредитор не примет в уплату ничего другого. Во-вторых, допуская, что аргумент применяется правильно, мы всё же не знаем, за чей счёт заключена сделка - за счёт иностранного или английского купца? Мы должны, очевидно, предположить, что за счёт обоих и что оба они заинтересованы в стоимости золота, потому что оба должны сделать надбавку к цене пшеницы, чтобы компенсировать себя за потерю на слитках: один из них должен это сделать потому, что слитки дёшевы, другой - потому, что они дороги. Если же имеется указание, что ввоз пшеницы в Англию идёт только за счёт английского купца, то сделка была закончена, поскольку речь шла об иностранном купце, тогда, когда он продал пшеницу. Он купил её во Франции за известную сумму французских денег и продал её за известную сумму французских же денег, которые должны быть ему уплачены или при помощи векселя, или путём пересылки слитков одинаковой стоимости, - он поэтому заинтересован только в том, чтобы получить деньги для своего платежа и прибыль, если таковая ему причитается. Он мог бы, по всей вероятности, быть только агентом и интересоваться только получением комиссии за своп хлопоты. Если же сделка заключена за счёт английского купца, то какое побуждение может он иметь для ввоза пшеницы, если золото, которое он обязался дать взамен её, будет в Англии дороже, чем во Франции, или, говоря другими словами, если он не может продать её за большую сумму денег, чем он за неё заплатил? Если же он может так поступить, то не доказывает ли это, что золото дешевле в Англии, чем во Франции? Что на товар - пшеницу - можно в Англии купить больше золота, чем во Франции? Поскольку речь идет об этих двух товарах, какое лучшее доказательство можем мы иметь, что золото дороже во Франции, чем в Англии? Разве сказать: нет, ведь пшеница дороже в Англии - значит дать удовлетворительный ответ? По отношению к чему она дороже? Конечно, к золоту. Я думаю, что это только другой способ сказать, что золото дешевле в Англии и дороже во Франции. Как можем мы различить в таком случае, получена ли прибыль путём продажи денег или путём покупки пшеницы, раз мы видим, что обе выражают в точности одно и то же? Итак, в предположенном случае - вывоз золота в обмен на пшеницу, несмотря на то, что оно дороже в вывозящей стране, - необходимо принять во внимание и факт, что пшеница дешевле во ввозящей стране. Но можно ли бороться против невыгоды вывоза золота путём повышения цены пшеницы? Это было бы равносильно заявлению, что так как пшеница дешевле у нас, чем за границей, то я увеличу её количество, ввозя ещё больше, и в то же время подниму её цену. Именно к такому аргументу пришлось бы прибегнуть, если бы вся сделка была заключена за счёт иностранного купца. Приложение
Уже после того, как предшествующие страницы были посланы в печать, я прочитал дополнительные замечания г-на Бозанкета, приведённые в приложении ко второму изданию его брошюры. Я ограничусь только немногими соображениями по поводу них. Во-первых, из того, что я уже сказал, можно видеть, что я отрицаю правильность всех вычислений г-на Бозанкета, касающихся вексельного курса на Гамбург. Эти вычисления сделаны на основе неизменного вексельного паритета, тогда как подлинный паритет, на основе которого они должны были бы быть сделаны, подвергается всем изменениям, которые испытывает относительная стоимость золота и серебра. Отношение стоимостей этих двух металлов падало, начиная с 1801 г., не меньше чем на 6 1/2 % ниже установленного монетным уставом и подымалось на 9% выше его, поэтому вычисления, сделанные на основе указанного принципа, могут приводить к ошибкам, доходящим до 15 1/2%. Во-вторых, попытка сослаться на тот факт, что увеличение или уменьшение количества банкнот не всегда сопровождалось падением или повышением вексельного курса, повышением или падением цены слитков, отнюдь не даёт ещё аргумента против теории, которая допускает, что спрос на средства обращения подвергается постоянным колебаниям; последние могут иметь место в силу возрастания или уменьшения размеров капитала и торговли или же в силу большей или меньшей лёгкости, с которой в разное время совершаются платежи благодаря изменению степени доверия и кредита; словом, теория эта предполагает, что одна и та же общая сумма торговых сделок и платежей может требовать различных количеств средств обращения. Количество банкнот, которое в одно время может быть чрезмерным в том смысле, как я понимаю этот термин, и которое вследствие этого может быть обесценено, будет в другое время едва достаточно для платежей, которые должны быть сделаны, не говоря уже о влиянии временного повышения стоимости банкнот над стоимостью слитков, которые эти банкноты представляют. Будет поэтому бесполезно признавать или отрицать правильность оснований, на которых построено сделанное г-ном Бозанкетом вычисление количества находящихся в обращении провинциальных бумажных денег. Эти факты не имеют, по моему мнению, отношения к занимающему нас предмету. Будет ли бумажно-денежное обращение составлять 25 млн. или 100 млн. ф. ст., я считаю одинаково достоверным, что оно чрезмерно, ибо я не знаю никаких других причин, кроме чрезмерности его или же недостатка доверия к выпускаемым бумажным деньгам (какового в настоящее время, конечно, не существует), которые могли бы вызвать те последствия, свидетелями которых мы были в течение значительного времени <г-н Бозанкет замечает, что я неправильно употребляю слова "продолжительное время" по отношению к низкому курсу банкнот, потому что таблицы г-на Мэшета не показывают, чтобы очень неблагоприятный вексельный курс держался в течение более одного года в период, предшествовавший моему выступлению, т. е. до декабря 1809 г. Когда-то мы считали год значительным временем, если речь шла о снижении курса банкнот; но так как я постоянно утверждал, что высокая цена слитков есть наиболее надёжный критерий для доказательства обесценения и так как цена золота не была ниже монетной его цены около 10 лет, то я полагаю, что правильность моего заключения не может быть оспариваема тем, кто исходит из защищаемых мною принципов>. Г-н Бозанкет облёк выводы, которые он желает сделать из последних сообщённых им фактов, в форму четырёх проблем, решение которых он считает невозможным на основе принципов Комитета. Я уже доказал, надеюсь, что факты, приводимые г-ном Бозанкетом, нисколько не доказывают тех положений, которые он основывает на них, и я думаю, что дать решение формулированных им самим проблем в полном соответствии с принципами Комитета будет отнюдь не трудно. Первая проблема гласит: "Падение вексельного курса от среднего уровня в 6% в нашу пользу в 1790-1795 гг. до 3% ниже паритета в 1795-1796 гг. при одинаковой сумме банкнот, разменных на звонкую монету по предъявлении, в 11 млн. ф. ст. и среднее повышение вексельного курса до 11% выше паритета в 1797-1798 гг. при увеличении числа находящихся в обращении и не подлежащих размену банкнот до 13 млн. ф. ст.". Читатель заметит, что эта проблема уже получила своё решение в нашей работе. Вексельные курсы установлены неправильно, и никто не отрицает, что они могут повышаться и падать в силу многих причин. Было уже доказано, что спрос на золото для Монетного двора и на серебро для Ост-Индии в 1797 и 1798 гг. оказал своё естественное действие на вексельный курс и не был уравновешен чрезмерным выпуском бумажных денег. Золото требовалось для пополнения опустевших сундуков Английского банка; оно поэтому не было пущено в обращение, дополнительный же выпуск в 2 млн. ф. ст. банкнотами послужил только для заполнения пустоты, которая была вызвана припрятыванием металлических денег. Итак, в течение этих лет не было действительного увеличения денежного обращения. Вторая проблема гласит: "Падение вексельного курса на 6% ниже паритета и повышение стоимости золота на 9% выше монетной цены в 1800 и 1801 гг. при сумме банкнот, чуть ли не превышающей 15 млн. ф. ст., с одной стороны, и повышение вексельных курсов на 3% выше паритета в среднем за шесть лет - с 1803 по 1808 г. - при цене золота, почти равной монетной цене, и росте обращения до 17-18 млн. ф. ст. - с другой". Не говоря уже о влиянии изменяющихся размеров торговли и кредита, следует ещё вспомнить, что, пока наше обращение состояло частью из золота и частью из бумажных денег, действие возросшей эмиссии банкнот как на вексельный курс, так и на цену слитков выправлялось после достаточного промежутка времени вывозом монеты. Этот ресурс с некоторого времени потерян для нас. Третья проблема: "Падение вексельного курса с 5% выше паритета в июле 1808 г. до 10% ниже паритета в июне 1809 г., причём сумма банкнот оставалась в обоих случаях на одинаковом уровне", легко решается. Я не могу найти документ, на основе которого г-н Бозанкет утверждает, что количество банкнот было одинаково в июле 1808 г. и в июне 1809 г., но, даже допуская правильность этого утверждения, можно ли делать эти периоды объектами для сравнения? Один период следует непосредственно за выплатой дивидендов, другой период предшествует этой выплате также непосредственно. В январе и июле 1809 г. увеличение числа банкнот после выплаты дивидендов было не меньшим, чем на сумму в 2 450 тыс. ф. ст., а в январе следующего года - на 1 878 тыс. ф. ст. Я не склонен утверждать, что эмиссии одного дня или одного месяца могут произвести какое-нибудь действие на иностранные вексельные курсы; возможно, что для этого требуется более продолжительный период; для того чтобы такие последствия сказались, безусловно, необходим некоторый промежуток времени. Те, кто оспаривает принцип Комитета, никогда не принимают этого во внимание. Они заключают, что эти принципы ошибочны на том основании, что действие их не проявляется немедленно. Но что говорят факты об обращении банкнот в 1808 и 1809 гг.? Об их количестве в 1808 г. имеется только три отчёта, представленные Комитету слитков. Сравним их с отчётами за тот же самый период в 1809 г., тогда, думается мне, читатели согласятся со мною, что факты скорее подтверждают принципы Комитета, чем расходятся с ними:
Теперь перейдём к четвёртой проблеме: "Постепенно повышавшаяся цена товаров в продолжение американской войны, когда денежное обращение было золотым, а также в продолжение шести лет - с 1803 по 1808 г., когда вексельный курс был для нас благоприятен". Но кто же оспаривал, что имеются и другие причины, вызывающие повышение цены товаров, кроме обесценения денег? Положение, которое я отстаиваю, заключается в следующем: если такое повышение сопровождается постоянным ростом цены того металла, который является стандартом денежного обращения, то деньги обесцениваются на всю сумму этого повышения. В продолжение американской войны повышение цен товаров не сопровождалось каким-либо повышением цены слитков и потому не было вызвано обесценением денег. Теперь нам в первый раз приходится усомниться в том, действительно ли принципы Комитета, против которых г-н Бозанкет так энергично высказывается во всей своей работе, расходятся с его собственными принципами. Нам говорят теперь, что не теория ошибочна, но что "факты должны быть установлены, прежде чем можно строить рассуждение на их основании", и что "значение этих фактов нисколько не уменьшилось бы, даже если бы мы без всяких оговорок признали правильность выдвинутых принципов". Находится ли это заявление в согласии с выводами г-на Бозанкета? Комитет слитков выдвигает определённые принципы, и если они правильны, то они доказывают факт обесценения средств обращения. Ваши принципы вполне приемлемы, и разум, повидимому, подтверждает их, говорит г-н Бозанкет, но вот факты, которые доказывают, что они несовместимы с прошлым опытом; а дальше он цитирует Пэли: "Когда математику предлагается теорема, то он должен первым делом проверить её на простом примере; если она даёт ошибочный результат, он уверен, что в ход доказательства этой теоремы вкрались какие-нибудь ошибки". "Публика должна поступить таким же образом с докладом и подвергнуть его теории испытанию фактами". Может ли в таком случае г-н Бозанкет продолжать настаивать, что "значение того, что он предложил вниманию публики на предыдущих страницах, нисколько не уменьшилось бы даже в случае безоговорочного признания правильности выдвинутых принципов"? Если считать, с одной стороны, что правильна теория Комитета, а с другой, - что правильны факты г-на Бозанкета, то какой отсюда следует вывод? Или что г-н Бозанкет согласен с Комитетом, или что его факты не имеют никакого отношения к вопросу. Можно сделать ещё и другой вывод, который я не имею никакого намерения приписывать г-ну Бозанкету: что, с одной стороны, может существовать теория, а с другой - факты; и теория и факты вполне верны и всё же не согласуются друг с другом. Если, следуя критерию д-ра Пэли, надо проверить теорию Комитета на простом факте, то г-н Бозанкет может проверить её на тысяче фактов и всё же найдёт, что она точно соответствует фактам. Если бы он употребил свой досуг и свои способности на то, чтобы обнаружить её применимость к тысячам случаев, в которых она подтверждается, вместо того чтобы вылавливать те два или три случая, которые ей как будто противоречат, и принимать их с восторженным легковерием, он, вероятно, пришёл бы к более правильным заключениям. Г-н Бозанкет ставит под вопрос точность следующего положения г-на Гэскиссона: "Если одна часть денежного обращения страны (при условии, что она состоит из денег, являющихся или по их прямому назначению, или фактически законным платёжным средством соответственно их наименованию) обесценена, то и вся совокупность обращения, бумажного или металлического, должна одинаково подвергнуться обесценению". Указанный г-ном Бозанкетом факт, что "чрезвычайное обесценение серебряной монеты в царствование короля Вильяма не обесценило золота и что, напротив, за гинею, стоившую 21 стандартный шиллинг, обычно давали 30 шилл.", не доказывает, что принцип, выдвинутый г-ном Гэскиссоном, находится в противоречии с опытом, потому что золото не было тогда ходовой монетой; оно не было законным платёжным средством ни по прямому назначению, ни фактически; оно не было также оценено публичной властью по определённой стоимости; при всех платежах оно принималось как слиток определённого веса и пробы. Если бы оно не могло приниматься по закону больше чем за 21 шилл. неполновесной серебряной монеты, то, оставаясь в форме монеты, оно было бы обесценено в той же мере, как и 21 шилл., на которые оно обменивалось бы. Если бы гинеи рассматривались в настоящее время как товар и не было бы закона, запрещающего их вывозить или переплавлять, они могли бы приниматься во всех платежах по 24 или 25 шилл., тогда как банкноты продолжали бы сохранять свою теперешнюю стоимость. Не противоречит авторитету и следующий принцип г-на Гэскиссона, с которым не согласен г-н Бозанкет: "если бы количество золота в стране, денежное обращение которой состоит из золота, возросло в каком-либо отношении, количество же других товаров, а также спрос на них остались бы прежними, то стоимость любого данного товара, измеряемая в монете этой страны, поднялась бы в том же отношении". Г-н Гэскиссон вовсе не ставит под вопрос, как это предполагает г-н Бозанкет, истинность принципа, выдвинутого Адамом Смитом и гласящего, что "рост количества драгоценных металлов, имеющий место в какой-либо стране благодаря росту её богатства, не имеет тенденции уменьшить их стоимость"; он говорит только, что если количество драгоценных металлов увеличивается в какой-либо стране, в то время как её богатство не растёт или же количество её товаров не увеличивается, то стоимость золотой монеты такой страны уменьшится, или, другими словами, товары повысятся в цене. Сам г-н Бозанкет признал в своей аргументации, относящейся к руднику, что результат был бы именно таков. Однако против этого места книги г-на Гэскиссона я имею возражение, потому что он прибавляет, что при предложенных условиях имел бы место рост цены товаров (стр. 5), "хотя к количеству монеты не было бы фактически сделано никакой прибавки". Я считаю совершенно бесспорным положение, гласящее, что если ни товары, ни спрос на них, ни количество денег, которое приводит их в обращение, не испытывают увеличения или уменьшения, то цены должны оставаться неизменными, какое бы количество золота или серебра ни имелось в такой стране в форме слитков <при этом подразумевается, что по моему предположению ни возрастание, ни уменьшение доверия не влияют на уменьшение или возрастание стоимости монеты >. Вряд ли необходимо оговаривать здесь, что такой случай совершенно гипотетичен и фактически невозможен. В стране, деньги которой сохраняют свою стандартную стоимость, нельзя увеличить количество слитков, не вызывая увеличения количества денег. Признаюсь, я был немало удивлён следующим положением, выдвинутым г-ном Бозанкетом; я не сомневаюсь, что оно должно было возбудить такое же изумление у многих его читателей. Он утверждал на протяжении всей своей книги, что банкноты не были обесценены по сравнению с золотой монетой, что повышение цены золота могло иметь место, и в некоторых случаях действительно имело, даже и тогда, когда наше денежное обращение состояло частью из золота и частью из бумажных денег, разменных на золото по предъявлению держателя; он даже отрицал, что между золотом для вывоза и золотом в монете имелась какая-либо точка соприкосновения и что именно вследствие недостатка такого контакта цена его возросла. А теперь г-н Бозанкет серьёзно говорит нам, что, "применяя к этому вопросу наиболее испытанные теории, он склоняется к мысли, что, с тех пор как новая система платежей Английского банка была вполне установлена, золото фактически не было больше мерой стоимости. Банкноты, - утверждает он, - сделались, несомненно, с 1797 г. торговой мерой и расчётной монетой". Именно с этой точки зрения он и рассматривает "положение о цене золота, к которому люди относятся с таким доверием"; для него - это один из тех принципов, которые он признаёт, но не решается применять на практике. Не моё дело исследовать, будут ли директора Английского банка или иные люди, так уверенно заявлявшие, что даже при признании золота стандартом они всё же не считают его высокую цену доказательством обесценения денег, довольны такого рода защитой, сдающейся по основным положениям, отстаиваемым Комитетом. Что золото уже больше не является на практике стандартом, которым регулируется наше денежное обращение, это истина. В этом-то и состоит основание для жалоб Комитета (и всех, кто выступал с тех же позиций) на несовершенство теперешней системы. Держатель денег пострадал, поскольку не существует стандартной оценки, с помощью которой он может защищать свою собственность. С 1797 г. он потерял уже 16%, и у него нет никакой гарантии, что в ближайшее время его потери не составят 25, 30 или даже 50%. Кто согласится быть держателем денег или ценных бумаг, проценты на которые выплачиваются в деньгах на таких условиях? Нет такой жертвы, на которую не согласился бы человек, являющийся держателем такой собственности, чтобы обеспечить себе какой-нибудь доход на будущее, пока такая система признаётся. В этих немногих словах г-н Бозанкет сказал столь же много в пользу отмены закона о приостановке размена, сколько говорили все писатели, все теоретики с тех пор, как началась дискуссия по этому вопросу. Итак, значит г-н Бозанкет допускает, что мы не имеем больше никакой стандартной меры, раз золото перестало быть ею? Послушаем, что он говорит. "Если банкнота в 1 ф. ст. есть наименование, то что же, спрашивается, является стандартом?" "Вопрос этот нелегко разрешить, но, принимая во внимание, какую большую долю всего обращения составляют сделки между правительством и публикой, такой стандарт, вероятно, можно установить на основе этих сделок. Представить себе, что стандартом стоимости банкноты в 1 ф. ст. может быть процент с 33 ф. ст. 6 шилл. 8 пенс. в трёхпроцентных фондах, это, повидимому, не более трудно, чем понять связь этого стандарта с металлом, который исчез из обращения и стоимость годового запаса которого даже как товара не составляет и 1/20 части годичных расходов правительства в чужих странах". Итак, мы имеем теперь стандарт для банкноты в 1 ф. ст. Это - процент с 33 ф. ст. 6 шилл. 8 пенс. в трёхпроцентных фондах. В каких же деньгах выплачивается этот процент? Потому что именно они должны быть стандартом. Держатель 33 ф. ст. 6 шилл. 8 пенс. в фондах получает в банке однофунтовую банкноту. Таким образом, согласно теории практического человека единственной стандартной мерой, с помощью которой можно измерить обесценение банкнот, являются банкноты. Из бочонка рома отлили 16% и вместо рома влили воду. Каким способом пытается г-н Бозанкет вскрыть фальсификацию? С помощью образчика фальсифицированной жидкости, взятой из того же бочонка! Нам говорят дальше, что "если Английский банк действительно владеет большим запасом золота или имеет его хотя бы на 6 или 7 млн., то лучшее употребление, которое можно сделать из него, это изъять все банкноты ниже 5 ф. ст. и не выпускать больше банкнот этой категории". Каким образом могли бы банкиры и фабриканты производить свои мелкие платежи, если бы золото, частично выпущенное таким образом в обращение, вывозилось и переплавлялось при современном вексельном курсе и цене слитков? Если бы Английский банк не выпускал мелких банкнот и банкиры и фабриканты не могли бы получать гинеи за крупные, они вынуждены были бы совершенно прекратить такие платежи. Чем больше я размышляю об этом предмете, тем больше убеждаюсь, что против этого зла не существует другого верного средства, кроме уменьшения количества банкнот. Предложения в пользу экономного и устойчивого денежного обращения, а также замечания о прибыли английского банка , поскольку она связана с интересами государства и собственников капитала банкаВведение В ближайшую сессию парламента будут обсуждаться следующие важные вопросы, касающиеся Английского банка: 1. Должен ли Английский банк платить по своим банкнотам звонкой монетой по требованию держателей? 2. Должно ли быть внесено какое-либо изменение в условия соглашения, заключённого в 1808 г. между правительством и Английским банком по вопросу об управлении делами национального долга? 3. Какое вознаграждение получит публика за громадные суммы вкладов, из которых Английский банк извлекает прибыль? Первый из этих вопросов значительно превосходит по своему значению остальные, но по вопросу о денежном обращении и законах, которыми оно должно регулироваться, было написано уже так много, что я не стал бы беспокоить читателя дальнейшими замечаниями на эти темы, если бы не считал, что мы могли бы с большой пользой установить более экономный способ производства наших платежей. А чтобы объяснить этот способ, необходимо дать предварительно краткое изложение некоторых основных начал, составляющих законы денежного обращения, и защитить их от некоторых из выдвигаемых против них возражений. Хотя значение двух остальных вопросов не столь велико, однако в эпоху, когда на наши финансы производится такое давление, когда экономия так важна, они всё же заслуживают серьёзного внимания со стороны парламента. Если по рассмотрении вопроса мы увидим, что услуги, оказываемые Английским банком публике, оплачиваются слишком расточительно и что эта богатая корпорация накопила сокровище, которому нет равного, - и притом в большей его части за счёт общества, а также благодаря небрежности и снисходительности правительства, - то можно надеяться, что теперь будет заключено лучшее соглашение. Обеспечивая Английскому банку справедливое вознаграждение за ответственность и хлопоты, с которыми сопряжено управление публичным предприятием, это соглашение будет в то же время служить гарантией против хищнического распоряжения общественными ресурсами. Следует, мне думается, признать, что война, которая так тяжело ложилась на плечи почти всех классов общества, сопровождалась для Английского банка невиданными барышами, причём доходы этой корпорации возрастали пропорционально росту тягот и трудностей всего общества. Прекращение Английским банком платежей звонкой монетой, явившееся последствием войны, позволило ему повысить количество выпущенных им в обращение банкнот с 12 млн. до 28 млн. ф. ст. и освободило его в то же время от всякой необходимости иметь сколько-нибудь значительный депозит в звонкой монете и в слитках, т. е. ту часть его актива, из которой он не извлекает никакой прибыли. Война увеличила, кроме того, непогашенный государственный долг, находящийся в ведении Английского банка, с 220 до 830 млн. ф. ст.; таким образом, несмотря на уменьшение процента вознаграждения, он получит в этом году за управление делами по долгу 277 тыс. ф. ст. <см. Приложение III>, тогда как в 1792 г. все его поступления по счёту долга составляли 99 800 ф. ст. Войне Английский банк обязан также и увеличением суммы правительственных вкладов. В 1792 г. эти вклады составляли, вероятно, меньше 4 млн. ф. ст. В 1806 г. и после этого года они, как известно, превосходили в общем 11 млн. ф. ст. Нельзя, мне думается, сомневаться в том, что все услуги, которые Английский банк оказывает государству, могли бы быть выполнены государственными служащими в государственных учреждениях, организованных для этой цели, что дало бы уменьшение или сбережение расходов почти на 1/2 млн. ф. ст. ежегодно. В 1786 г. государственные контролёры высказали мнение, что управление делами государственного долга, доходившего тогда до 224 млн. ф. ст., могло бы обходиться правительству меньше чем в 187 ф. ст. 10 шилл. с миллиона. При долге в 830 млн. ф. ст. Английский банк получает 340 ф. ст. с миллиона с первых 600 млн. и 300 ф. ст. с миллиона с остальных 230 млн. Против методов работы Английского банка по управлению публичным предприятием нельзя по справедливости сделать никаких возражений; знание дела, систематичность, точность отличают каждое его отделение, и мало вероятно, чтобы в этих частностях можно было произвести какие-нибудь изменения, которые могли бы считаться улучшением. Поскольку государство связано с Английским банком существующим соглашением, возражения будут выдвигаться против всякого изменения в этом отношении. Как бы ни была, по моему мнению, несоответственно мала компенсация, полученная государством от Английского банка за возобновление его хартии в то время и при тех обстоятельствах, при каких размеры этой компенсации были установлены, я не стану отстаивать необходимость пересмотра договора; я позволил бы Английскому банку пользоваться без всяких препятствий всеми плодами такой неосмотрительной и неравной сделки. Но соглашение, заключённое с банком в 1808 г. относительно управления делами национального долга, не принадлежит, по моему мнению, к соглашению того же типа, и каждая сторона свободна теперь аннулировать его. Соглашение не было заключено на определённый период и не находится в необходимой связи с продолжительностью хартии, составленной за восемь лет перед этим. Находясь в соответствии с положением вещей, существовавшим в эпоху его заключения, или с таким положением, какого можно было ждать в течение ближайших лет после его заключения, оно не имеет уже больше обязательной силы. Именно такое заявление делает г-н Персиваль в следующем месте своего письма Английскому банку, датированного 15 января 1808 г. и написанного в связи с принятием шкалы вознаграждения за управление делами долга, предложенной Английским банком: "Под таким впечатлением, - говорит г-н Персиваль, - я весьма склонен принять предложения банка в менее существенных частях соглашения и поэтому соглашусь на шкалу вознаграждения, предложенную им за управление делами государственного долга, поскольку оно относится к теперешним условиям или к таким, наступления которых можно ожидать в течение ближайшего времени". Так как с тех пор прошло восемь лет и непогашенный долг увеличился за это время на 280 млн. ф. ст., то будет ли справедливо утверждать, что аннулировать это соглашение или предложить ввести в него изменения, диктуемые переживаемым временем и новыми условиями, не во власти ни той, ни другой стороны ни теперь, ни потом? Я очень многим обязан г-ну Гренфеллу; в этой части рассматриваемой проблемы я только повторяю его аргументы и утверждения, почти ничего не прибавляя от себя. Я старался поддержать и своими слабыми силами дело, которое он уже так искусно защищал в парламенте и в котором, как я надеюсь, его дальнейшие выступления увенчаются успехом. Причины, обусловливающие единообразие орудия обращения, обусловливают и его доброкачественность Все, кто писал по вопросу о деньгах, согласны, что постоянство стоимости орудия обращения представляет в высшей степени желательную вещь; поэтому всякое улучшение, которое может способствовать продвижению к этой цели, уменьшая число причин изменений стоимости денег, должно быть принято. Но нет возможности выработать такой план, который сохранял бы за деньгами абсолютно неизменную стоимость, потому что стоимость денег будет всегда подвергаться тем же изменениям, каким подвергается стоимость товара, принятого за денежный стандарт. Пока драгоценные металлы продолжают оставаться стандартом нашего денежного обращения, деньги необходимо должны испытывать те же изменения в стоимости, что и эти металлы. Именно сравнительная устойчивость стоимости драгоценных металлов в течение относительно продолжительных периодов была, вероятно, причиной предпочтения, отдаваемого им во всех странах в качестве стандартной меры, которой измеряется стоимость других предметов. Только то денежное обращение может рассматриваться как совершенное, которое имеет неизменённую стандартную меру, никогда не отходит от неё и используется с осуществлением самой крайней экономии. В числе преимуществ бумажного обращения перед металлическим далеко не последним следует считать ту лёгкость, с которой могут быть изменены его размеры, когда этого требуют нужды торговли и временные условия; оно даёт возможность осуществить желательную цель - сохранять за деньгами, поскольку это вообще осуществимо, неизменную стоимость - верным и дешёвым способом. Количество металла, употребляемого в какой-либо стране, имеющей металлическое обращение, в качестве денег при совершении платежей, или количество металла, заместителем которого являются бумажные деньги, если последние употребляются в обращении частью или целиком, должно зависеть от трёх обстоятельств: во-первых, от стоимости металла, во-вторых, от суммы или стоимости платежей, подлежащих погашению, и, в-третьих, от степени экономии, осуществляемой при совершении этих платежей. Стране, где стандартом стоимости является золото, требуется по меньшей мере в 15 раз меньше этого металла, чем требовалось бы ей серебра, если бы она им пользовалась, и в 900 раз меньше, чем требовалось бы ей меди, если бы она употребляла медь; ведь стоимость золота относится к стоимости серебра, как 15 : 1, а к стоимости меди, как 900 : 1. Если бы наименование фунта стерлингов было дано определённому специфическому весу этих металлов, то в одном случае потребовалось бы в 15 раз больше этих фунтов, а в другом - в 900 раз, независимо от того, употреблялись ли бы в качестве денег сами металлы или же они были бы заменены частично или полностью бумажными деньгами. И если страна неизменно употребляет в качестве стандарта один и тот же металл, то требующееся ей количество денег будет находиться в обратном отношении к стоимости этого металла. Предположим, что этим металлом является серебро и что в силу возросшей трудности разработки рудников серебро удвоилось бы в стоимости, - в этом случае для использования его в качестве денег потребовалась бы только половина прежнего количества; но если бы всё денежное обращение осуществлялось при помощи бумажных денег, стандартом которых являлось бы серебро, то для поддержания их на уровне слитковой стоимости количество их также должно было бы быть уменьшено вдвое. Таким же путём можно показать, что если бы серебро снова стало дешевле в сравнении со всеми другими товарами, то потребовалось бы удвоенное количество его чтобы приводить в обращение то же самое количество товаров. Если в какой-нибудь стране число торговых сделок вырастает благодаря росту её богатства и промышленности, то при неизменной стоимости слитков и одинаковой экономии в использовании денег стоимость последних повысится в силу более интенсивного использования их; она будет неизменно оставаться выше стоимости слитков, если только количество денег не увеличится либо вследствие введения в обращение добавочных бумажных денег, либо благодаря покупке слитков для перечеканки их в монету. Больше товаров будет покупаться и продаваться, но по более низким ценам; таким образом, то же самое количество денег будет адекватно возросшему числу сделок, ибо деньги будут приниматься в каждой сделке по более высокой стоимости, Итак, стоимость денег не зависит целиком от их абсолютного количества, но от их количества по отношению к платежам, которые они должны совершать; одни и те же последствия будут обусловлены любой из двух следующих причин: увеличением степени использования денег на 1/10 или уменьшением на 1/10 же их количества; и в том и в другом случае стоимость их повысится на 1/10. Причиной увеличения количества денег при нормальном состоянии денежного обращения всегда является повышение их стоимости сравнительно со стоимостью слитков; только при таких условиях открывается возможность либо для выпуска дополнительного количества бумажных денег, что всегда приносит прибыль тем, кто их выпускает, либо для извлечения прибыли из отправки слитков, на Монетный двор для перечеканки их в монету. Сказать, что деньги имеют большую стоимость, чем слитки или принятый стандарт, значит сказать, что слитки продаются на рынке ниже монетной цены золота, поэтому слитки можно покупать, перечеканивать в монету и выпускать как деньги с прибылью, равной разнице между рыночной и монетной ценой золота. Монетная цена его равняется 3 ф. ст. 17 шилл. 10 1/2 пенс. Если же благодаря росту богатства покупается и продаётся большое количество товаров, то первым следствием этого будет повышение стоимости денег. Теперь не 3 ф. ст. 17 шилл. 10 1/2 пенс. металлических денег будут равны по стоимости унции золота, а 3 ф. ст. 15 шилл., поэтому на каждой унции золота, отправленной на Монетный двор для перечеканки в монету, можно получить прибыль в 2 шилл. 10 1/2 пенс. Однако это не может долго продолжаться, ибо добавочное количество денег, которое таким путём введено в обращение, понизит их стоимость; уменьшение же количества имеющихся на рынке слитков также имело бы тенденцией поднять стоимость их до уровня стоимости монеты; в силу одной или обеих этих причин полное равенство их стоимости не замедлило бы восстановиться. Итак, оказывается, что если бы увеличение размеров денежного обращения происходило за счёт монеты, то стоимость как слитков, так и денег была бы по крайней мере временно выше, чем прежде, даже и после того, как количество тех и других достигло бы прежнего уровня. Это обстоятельство, хотя оно часто и неизбежно, создаёт значительные неудобства, влияя на все прежде заключённые договоры. Но от этих неудобств можно полностью избавиться путём выпуска бумажных денег; поскольку тогда не будет возникать добавочный спрос на слитки, их стоимость будет оставаться неизменной, стоимость же новых бумажных денег, так же как и старых, будет соответствовать стоимости слитков. Следовательно, кроме всех других преимуществ, какие даёт употребление бумажных денег, надлежащее регулирование их количества обеспечивает неизменность стоимости средств обращения, в которых совершаются все платежи, в такой степени, какая не может быть достигнута никакими другими средствами. Поскольку стоимость денег и сумма платежей остаются без изменения, количество требующихся денег должно зависеть от степени экономии, осуществляемой в их использовании. Если платежи производятся чеками на банкиров, то деньги лишь списываются с одного счёта и приписываются к другому, причём размеры таких операций могут составлять ежедневно миллионы, банкнот же или монеты употребляется тогда очень мало или совсем не употребляется; но если это не так, то денег потребуется значительно больше, или, что то же самое по своим последствиям, то же количество денег будет обращаться по значительно возросшей стоимости и будет поэтому адекватно дополнительной сумме платежей. Итак, всякий раз, когда купцы перестают питать доверие друг к другу и воздерживаются от сделок в кредит или принятия в уплату чеков, банкнот или векселей, возникает большой спрос на деньги, всё равно, бумажные или металлические. Преимущество бумажно-денежного обращения, если оно установлено на правильных началах, состоит в том, что добавочное количество бумажных денег может быть быстро введено в обращение, не вызывая какого-нибудь изменения в стоимости всех обращающихся денег по сравнению со слитками или с каким-нибудь другим товаром. При системе же металлического обращения добавочное количество денег не может быть введено в обращение так быстро; когда же оно в конце концов налицо, то стоимость всех находящихся в обращений денег, а также и слитков, уже повышена. Использование какого-нибудь товара в качестве стандарта стоимости. - Рассмотрение возражений против такой возможности Во время недавней дискуссии по вопросу о слитках совершенно справедливо утверждали, что, для того чтобы деньги были вполне совершенным орудием обращения, они должны обладать абсолютно неизменной стоимостью. Но, кроме того, говорили также, что наши деньги стали таким орудием благодаря закону о приостановке размена, так как с помощью этого закона мы мудро разжаловали золото и серебро как стандарт наших денег. Указывали также, что изменение стоимости банкноты в 1 ф. ст. в зависимости от изменения стоимости определённого количества золота было на деле, да и должно было быть не большим, чем в зависимости от изменения стоимости всякого другого товара. Идея денежного обращения без специфической стандартной меры была, мне кажется, впервые выдвинута сэром Джемсом Стюартом <работы сэра Джемса Стюарта по вопросу о монете и деньгах весьма поучительны; приходится поэтому удивляться, что он мог разделять вышеуказанное мнение, находящееся в таком прямом противоречии с общими началами, которые он пытался установить>, но никто не смог ещё до сих пор предложить какой-нибудь критерий, с помощью которого мы могли бы удостоверить неизменность стоимости таких денег. Те, кто поддерживал это мнение, но видели, что стоимость таких денег не только не была бы неизменной, но была бы, наоборот, подвержена величайшим колебаниям; они не видели также, что единственной целью введения постоянного стандарта стоимости является регулирование количества, а тем самым и стоимости средств обращения и что без такого стандарта они испытывали бы все колебания, на которые их осудили бы невежество или интересы тех, кто их выпускает. Указывали, правда, что о стоимости средств обращения можно судить не по отношению её к стоимости одного товара, а к стоимостям массы товаров. Но допустим, хотя такое допущение и невозможно, что эмиссионеры бумажных денег согласны регулировать количество обращающихся денег при помощи такого критерия. Они, однако, не имели бы всё же возможности сделать это; вспомним, что товары постоянно изменяются в стоимости по отношению друг к другу и что при наличии такого изменения невозможно установить, какой товар увеличился в стоимости, какой уменьшился; нужно, следовательно, признать, что предлагаемый критерий совершенно бесполезен. Стоимость некоторых товаров повышается в результате налогового обложения, редкости сырого материала, из которого они выделываются, или в силу каких-либо других причин, увеличивающих трудность их производства. Наоборот, стоимость других уменьшается вследствие усовершенствования машин, лучшего разделения труда, более высокого искусства рабочего, большего изобилия сырого материала и вообще большей лёгкости производства. Чтобы определить стоимость обращающихся денег при помощи предложенного критерия, было бы необходимо сравнить её последовательно со стоимостью тысяч товаров, обращающихся в обществе, учитывая действие, которое могло быть произведено на стоимость каждого из них вышеуказанными причинами. Сделать это, очевидно, невозможно. Предположение, что рассматриваемый критерий был бы полезен на практике, возникает в силу непонимания разницы между ценой и стоимостью. Цена товара - это его меновая стоимость, выраженная только в деньгах. Стоимость же товара измеряется количеством всех других вещей, на которые он обычно обменивается. Цена товара может подняться, в то время как стоимость его падает, и vice versa. Цена шляпы может повыситься с 20 до 30 шилл., но на 30 шилл. нельзя получить столько чая, сахара, кофе и всяких других вещей, сколько их можно было получить прежде на 20 шилл., следовательно, нельзя их получить столько за шляпу. Таким образом, стоимость шляпы понизилась, хотя цена её повысилась. Нет ничего легче, как установить изменение цены, нет ничего труднее, как установить изменение стоимости; ясно, что без неизменной меры стоимости, а такой не существует, невозможно установить с какой-либо достоверностью или точностью изменение стоимости. Шляпа может обмениваться на меньшее количество чая, сахара и кофе, чем прежде, но в то же самое время она может обмениваться на большее количество металлических изделий, обуви, чулок и т. д. Разница же в сравнительной стоимости этих товаров может возникнуть либо при неизменной стоимости одного из них и увеличении, хотя и в различной степени, стоимости двух других, либо при неизменной стоимости первого и понижении стоимости двух других, либо, наконец, при одновременном изменении стоимости всех трёх товаров. Если мы говорим, что стоимость должна измеряться удовлетворением, которое собственник товара может получить благодаря обмену его, то мы так же мало в состоянии измерить стоимость, ибо два человека могут извлечь очень различные степени удовлетворения из владения одним и тем же товаром. В вышеуказанном примере стоимость шляпы покажется упавшей тому, кто получал удовлетворение от приобретения чая, кофе и сахара, и повысившейся тому, кто предпочитает получить обувь, чулки и металлические изделия. Итак, товары вообще не могут стать стандартом для регулирования количества и стоимости денег; хотя общепринятые стандарты, а именно золото и серебро, тоже имеют некоторые неудобства, порождаемые теми изменениями их стоимости, которым они подвергаются в качестве товаров, эти неудобства в действительности совершенно ничтожны в сравнении с теми, которые мы испытывали бы, если бы приняли рекомендуемый план. Когда золото, серебро и почти все другие товары поднялись в течение последних 20 лет в цене, то, вместо того чтобы объяснить это повышение, хотя бы частично, падением стоимости бумажных денег, защитники теории абстрактного денежного обращения всегда находили какое-нибудь другое достаточное основание для изменения цен. Золото и серебро поднялись в цене потому, что их было мало, а спрос на них был очень велик, так как надо было оплатить содержание колоссальных армий, тогда комплектовавшихся. Другие же товары повысились в цене потому, что они были обложены налогами непосредственно или косвенно, или потому, что благодаря ряду неурожайных лет и трудностям ввоза значительно повысилась стоимость хлеба, согласно же разбираемой теории это неизбежно должно повысить цены товаров. По мнению авторов этой теории, единственными вещами, стоимость которых не изменилась, были банкноты; последние являются поэтому исключительно пригодными для измерения стоимости всех других вещей. Если бы повышение цен составляло 100%, то и в этом случае можно было бы отрицать, что средства обращения имеют какое-либо отношение к этому повышению; оно могло бы опять-таки быть приписано тем же причинам. Аргумент этот, несомненно, надёжен, потому что его нельзя опровергнуть. Когда изменяется относительная стоимость двух товаров, нет возможности сказать с достоверностью, повысилась ли стоимость одного или упала стоимость другого, так что если бы мы ввели у себя деньги, не имеющие определённого стоимостного стандарта, то обесценению их не было бы никакого предела. Притом же обесценение и не могло бы быть доказано, так как всегда можно было бы утверждать, что товары повысились в стоимости, деньги же не понизились. Стандарт стоимости денег и его несовершенства. - Падение стоимости денег ниже стандарта, не уравновешиваемое подъёмом её выше стандарта. - Последствия таких колебаний. - Соответствие стоимости бумажных денег стандарту обязательно При наличии металлического денежного стандарта стоимость денег подвергается только таким изменениям, какие испытывает стандарт как таковой; но против таких изменений не существует никакого средства, и последние события показали, что в течение периодов войны, когда золото и серебро употребляются для содержания огромных армий вдали от родины, подобные изменения гораздо более значительны, чем это вообще допускалось. Само допущение показывает только, что золото и серебро не являются такой хорошей стандартной мерой стоимости, как это предполагалось до сих пор, ибо сами они подвергаются большим изменениям, чем это желательно по отношению к стандартной мере. И всё-таки они представляют лучший из всех известных нам стандартов. Если бы можно было найти какой-нибудь другой товар, стоимость которого менее изменчива, он мог бы по праву быть принят за будущий стандарт наших денег при условии, что он имел бы все другие качества, делающие его пригодным для этой цели. Но пока эти металлы остаются стандартом, обращающиеся деньги должны соответствовать ему в своей стоимости; каждый раз, когда такое соответствие нарушается и рыночная цена слитков подымается выше их монетной цены, деньги, находящиеся в обращении, обесцениваются. Это положение не встретило возражений и не может быть оспариваемо. Много неудобств проистекает от употребления в качестве стандарта наших денег двух металлов, поэтому в течение долгого времени люди спорили о том, какой из них - золото или серебро - закон должен объявить главным или единственным стандартом денег. В пользу золота можно сказать, что большая стоимость его при меньшем объёме делает его в высшей степени удобным стандартом в богатой стране; однако именно это качество подвергает его стоимость большим изменениям в периоды войны или широко распространяющегося нарушения коммерческого доверия; в такие периоды золото нередко собирается и накапливается в виде сокровища. Это обстоятельство может быть выдвинуто как аргумент против его употребления. Единственным возражением против применения серебра в качестве стандарта является его объём, который делает его непригодным для крупных платежей, требующихся в богатой стране; но это возражение полностью устраняется при замещении серебра бумажными деньгами как общим средством обращения страны. Серебро к тому же имеет более постоянную стоимость вследствие того, что и спрос на него и предложение его более регулярны; поскольку же все чужие страны регулируют стоимость своих денег стоимостью серебра, совершенно несомненно, что в качестве стандарта серебро в общем предпочтительнее золота и должно постоянно применяться для этой цели. Можно, быть может, представить себе лучшую систему денежного обращения, чем та, которая существовала у нас до издания последних законов, сделавших банкноты законным платёжным средством; однако, до тех пор пока закон признавал определённый стандарт стоимости денег, пока Монетный двор был открыт всякому, кто приносил туда золото и серебро для перечеканки в монету, предел падения стоимости денег определялся только падением стоимости драгоценных металлов. Если бы золото сделалось так же изобильно и дёшево, как медь, банкноты неизбежно обесценились бы в той же мере, и все те, чья собственность состоит целиком из денег, - как, например, держатели билетов казначейства, лица, учитывающие купеческие векселя, держатели государственных фондов или владельцы ипотек, получающие все свои доходы от аннуитетов, и многие другие, - испытывали бы все бедствия обесценения. Будет ли тогда справедливо утверждать, что при повышении стоимости золота и серебра стоимость денег должна быть удержана на прежнем уровне принудительным путём с помощью аппарата законодательства, тогда как для предупреждения падения стоимости денег при падении стоимости золота и серебра не принимаются и никогда не принимались какие-нибудь меры? Раз владелец денег подвергается всем неудобствам, связанным с падением стоимости его собственности, то он должен также пользоваться выгодами от повышения её стоимости. Если бумажно-денежное обращение без стоимостного стандарта представляет улучшение, то следует доказать, что это так, и отказаться тогда от стандарта; но нельзя сохранять такое бумажное обращение только в ущерб и никогда к выгоде класса лиц, владеющих одним из тысяч обращающихся в обществе товаров, из которых, кроме денег, ни один не подчинён подобной необходимости. Лица, имеющие право выпуска бумажных денег, должны регулировать свои эмиссии, руководствуясь исключительно ценой слитков, а не количеством выпущенных ими в обращение бумажных денег. Это количество не может быть ни слишком велико, ни слишком мало до тех пор, пока деньги сохраняют такую же стоимость, какую имеет принятый стандарт. Деньги должны, наоборот, стоить скорее больше, чем слитки, ибо это дало бы компенсацию за маленькую отсрочку, длящуюся до возвращения денег на Монетный двор в обмен на слитки. Эта отсрочка эквивалентна незначительной пошлине за чеканку; чеканные же деньги или банкноты, представляющие их, должны быть в своём естественном и совершенном состоянии ровно настолько же дороже слитков. Английский банк терпел в прежнее время значительные потери, потому что не обращал должного внимания на этот принцип. Он снабжал страну всей необходимой для неё чеканной монетой и, следовательно, покупал на свои банкноты слитки, чтобы отправлять их на Монетный двор для перечеканки. Если бы, ограничивая количество банкнот, он удерживал их на несколько более высоком уровне стоимости, чем стоимость слитков, то благодаря дешевизне своих закупок он покрывал бы все расходы по куртажу и очистке металла, включая справедливое вознаграждение за отсрочку на Монетном дворе. Способ довести английское денежное обращение до возможного совершенства В ближайшую сессию парламента снова будет обсуждаться вопрос о денежном обращении. Вероятно, тогда будет установлен срок для возобновления платежей звонкой монетой, а это заставит Английский банк уменьшить количество выпускаемых бумажных денег до такого предела, при котором стоимость их будет соответствовать стоимости слитков. Хорошо регулируемое денежное обращение является огромным усовершенствованием в торговых сношениях, и я очень сожалел бы, если бы предрассудки побудили нас вернуться к менее полезной системе. Введение драгоценных металлов в качестве денег можно поистине рассматривать как один из наиболее важных шагов в деле усовершенствования торговли и ремёсел цивилизованной жизни; но не менее верно также, что с развитием знания и науки мы делаем новое открытие: изгнание драгоценных металлов из той области, где они использовались с такой выгодой в течение менее просвещённого периода, является дальнейшим усовершенствованием. Если бы Английский банк был снова призван оплачивать свои банкноты звонкой монетой, то последствием этого было бы значительное уменьшение прибыли банка без соответственного выигрыша для какой-либо другой части общества. Если бы те, кто пользуется банкнотами достоинством в 1, 2 или даже 5 ф. ст., могли бы пользоваться вместо них по желанию гинеями, то нет никакого сомнения в том, что именно они предпочли бы; таким образом, чтобы удовлетворить простую прихоть, весьма дорогое средство обращения заменило бы менее ценное. Наряду с потерями Английского банка, которые должны рассматриваться как потери для общества, так как общее богатство (wealth) составляется из индивидуальных богатств (riches), государство должно было бы производить бесполезные расходы на чеканку, и при всяком падении вексельного курса гинеи переплавлялись бы и вывозились. Оградить население от всяких других изменений стоимости денег, кроме тех, которым подвергается стандартный денежный материал, и в то же время удовлетворять впредь нужды обращения с помощью наименее дорогого средства его - значит довести наше денежное обращение до последней степени совершенства. Мы пользовались бы всеми выгодами такого совершенного денежного обращения, если бы на Английский банк была возложена обязанность выдавать в обмен на банкноты не гинеи, а слитки золота или серебра установленной Монетным двором пробы и цены. Благодаря этому падение курса банкнот ниже стоимости слитков сопровождалось бы немедленным ограничением их количества. Чтобы предупредить повышение цены банкнот выше стоимости слитков, следовало бы также обязать банк выдавать банкноты в обмен на золото стандартной пробы по цене в 3 ф. ст. 17 шилл. за унцию. Чтобы избавить банк от всякой лишней работы, количество золота, которое может быть истребовано в обмен на банкноты по монетной цене, т. е. по 3 ф. ст. 17 шилл. 10 1/2 пенс. за унцию, или количество золота, которое может быть продано банку по цене в 3 ф. ст. 17 шилл., не должно быть меньше 20 унций. Другими словами, Английский банк был бы обязан покупать любое количество предлагаемого ему золота, если оно не меньше 20 унций, по 3 ф. ст. 17 шилл. за унцию <цена в 3 ф. ст. 17 шилл., о которой говорится в тексте, - конечно, цена произвольная. Можно было бы, пожалуй, привести доводы в пользу небольшого повышения или понижения её. Назвав цену в 3 ф. ст. 17 шилл., я хотел только дать иллюстрацию к общему положению. Цена должна быть фиксирована таким образом, чтобы продавец золота предпочел скорее продать его Английскому банку, чем отправить на Монетный двор для чеканки. То же самое замечание относится и к выбранному мною минимуму в 20 унций. Могут найтись основания для установления минимума в 10 или 30 унций> и продавать любое количество его, какое у него могли бы потребовать, по 3 ф. ст. 17 шилл. 10 1/2 пенс. за унцию. Так как Английский банк имеет возможность регулировать количество своих банкнот, он не будет испытывать никаких неудобств вследствие этого постановления. Самая полная свобода должна быть предоставлена в то же время для вывоза и ввоза всякого рода слитков. Операции со слитками были бы очень немногочисленны, если бы Английский банк регулировал свои ссуды и эмиссии, руководствуясь критерием, о котором я так часто упоминал, а именно ценой слитков стандартной пробы, и не считаясь с абсолютным количеством банкнот, находящихся в обращении <я уже отметил, что, по моему мнению, серебро является самым лучшим стандартом наших денег. Если бы закон признал его таковым, Английский банк был бы обязан покупать или продавать только серебряные слитки. Если бы денежным стандартом было исключительно золото, Английский банк должен был бы продавать и покупать только золото; но если оба металла продолжают считаться стандартами, каковыми они и являются в настоящее время по закону, то Английский банк должен был бы иметь право решать, какой металл он будет давать в обмен на свои банкноты; на серебро же следовало бы установить цену несколько ниже той, по которой он не имел бы права отказываться от покупки серебра>. Цель, которую я имею в виду, была бы в значительной степени достигнута, если бы Английский банк был обязан выдавать в обмен на предъявляемые ему банкноты слитки установленной цены и пробы, хотя в то же время он не был бы обязан покупать любое количество предлагаемых ему слитков по определённой цене, особенно если Монетный двор оставался бы открытым для чеканки монеты по требованию частных лиц; ведь предлагаемая мною мера ставит себе лишь одну цель: устранить отклонения стоимости денег от стоимости слитков больше, чем на ничтожную разницу между ценами, по которым Английский банк продавал и покупал бы золото. Она приблизила бы нас, таким образом, к тому постоянству стоимости денег, которое считается столь желательным. Если бы Английский банк сократил произвольно количество своих банкнот, стоимость их повысилась бы и золото, повидимому, понизилось бы в своей стоимости ниже того уровня, по которому Английский банк должен был покупать его согласно моему предложению. В этом случае золото могло бы быть отправлено на Монетный двор. Превратившись в монету и будучи введено в обращение, оно понизило бы стоимость денег, и последняя снова соответствовала бы установленному уровню. Всё это сопровождалось бы большим риском, стоило бы дороже и совершилось бы не так легко, как с помощью предложенного мною способа, против которого Английский банк ничего не может возразить, так как ему гораздо выгоднее снабжать обращение банкнотами, чем обязать других снабжать его монетой. При такой системе и таком регулировании денежного обращения Английский банк никогда не испытывал бы никаких затруднений, кроме тех, которые возникают при чрезвычайных условиях, когда паника охватывает всю страну и каждый стремится иметь драгоценные металлы, как наилучшее орудие для реализации или сокрытия своего имущества. Против такой паники банки не имеют гарантии ни при какой системе. Они подвержены ей по самой своей природе, так как ни в Английском банке, ни в стране никогда не может быть такого количества металлических денег или слитков, какое имеют право потребовать владельцы денег данной страны. Если бы все они в один и тот же день истребовали свои вклады у банкиров, то даже в несколько раз большее количество банкнот, чем то, которое находится теперь в обращении, оказалось бы недостаточным для удовлетворения этих требований. Именно паника такого рода явилась причиной кризиса 1797 г., а не, как предполагали некоторые, большие ссуды, которые Английский банк тогда выдал правительству. Ни Английский банк, ни правительство не заслуживали в то время порицания. Неосновательные опасения пугливой части общества распространились с быстротой эпидемии и вызвали натиск на этот банк. Этот натиск всё равно имел бы место, если бы даже Английский банк не выдавал никаких ссуд правительству и имел вдвое больший капитал. Если бы Английский банк продолжал платить звонкой монетой, то паника, вероятно, улеглась бы раньше, чем истощилась его металлическая наличность. Если принять во внимание те взгляды, которыми руководствовались директора Английского банка при выпуске бумажных денег, то следует признать, что они пользовались своими полномочиями довольно сдержанно. Они, очевидно, применяли свои собственные принципы с величайшей осторожностью. В силу существующих законов они имеют право без какого-либо контроля увеличить или уменьшить размеры денежного обращения во сколько им угодно раз, право, которое не должно быть предоставлено ни государству, ни кому-либо в государстве; если увеличение или уменьшение количества обращающихся денег зависит только от воли тех, кто имеет право выпуска их, то исчезает всякая гарантия постоянства их стоимости. Что Английский банк имеет возможность сократить обращение до минимальных размеров, не будут отрицать даже те, кто вместе с директорами его считает, что последние не имеют власти бесконечно увеличивать количество обращающихся денег. Лично я вполне убеждён, что Английский банк не желал, да и не имел никакой выгоды воспользоваться своей властью в ущерб интересам публики; однако, представляя себе те вредные последствия, которые могут быть вызваны внезапным и сильным сокращением обращения, а равно и сильным расширением его, я не могу не отнестись с порицанием к той лёгкости, с какой государство вооружило этот банк такой страшной прерогативой. Неудобства, которым подвергались провинциальные банки до приостановки размена банкнот, должны были быть временами очень велики. Во все тревожные моменты или в период ожидания тревоги они были вынуждены скапливать гинеи, чтобы быть готовыми ко всяким могущим возникнуть требованиям. В таких случаях провинциальные банки получали гинеи у Английского банка в обмен на крупные банкноты и поручали их доставку в провинцию за свой счёт и риск какому-нибудь доверенному агенту. Выполнив функцию, для которой они предназначались, гинеи возвращались обратно в Лондон и, по всей вероятности, опять попадали в Английский банк, если только они не испытывали такой потери в весе, которая ставила их ниже законного стандарта. Если бы предлагаемый нами план оплаты банкнот слитками был принят, то необходимо было бы или распространить ту же самую привилегию на провинциальные банки, или сделать банкноты Английского банка законным платёжным средством. В последнем случае не требовалось бы никакого изменения в законодательстве о провинциальных банках, так как они были бы обязаны, точно так же как и теперь, выдавать по востребованию банкноты Английского банка, в обмен за свои. Экономия, которая получалась бы вследствие этого, была бы очень значительна: гинеи не теряли бы части своего веса от трения, которому они подвергаются во время своих беспрерывных странствований, а, кроме того, были бы сбережены расходы по их пересылке. Но гораздо большие выгоды дало бы снабжение денежного обращения как в провинции, так и в Лондоне, особенно поскольку речь идёт о мелких платежах, таким дешёвым орудием его, как бумага, вместо дорогостоящего золота. Таким образом, страна получила бы прибыль, какую можно было бы извлечь при производительном использовании капитала, равного всей сбережённой сумме. И мы, конечно, не имели бы никакого основания отказаться от такой безусловной выгоды, если бы только нам не были указаны какие-нибудь специфические неудобства, которыми могло бы сопровождаться пользование более дешёвым орудием обращения. Много и дельно писали у нас о выгодах, которые даёт стране свобода торговли, предоставляющая каждому человеку возможность использовать свои таланты и свой капитал, как ему кажется лучшим, не будучи стеснённым никакими запретами. Аргументация, выдвигаемая в защиту свободы торговли, настолько неотразима, что она с каждым днём завоёвывает всё новых последователей. Я с удовольствием наблюдаю продвижение этого великого принципа в той среде, где можно было ожидать самой упорной приверженности к старым предрассудкам. В представленных парламенту петициях об отмене хлебных законов выгоды ничем не ограниченной свободы торговли были признаны вообще всеми. Никто, однако, не сделал этого так хорошо, как суконщики из Глостершира; убеждение их в нецелесообразности ограничений так велико, что они выразили готовность отказаться от всяких ограничений, могущих иметь место по отношению к их промышленности. Это - принципы, которым можно только желать самого широкого распространения и самого всеобщего применения на практике. Если, однако, чужеземные народы недостаточно просвещены, чтобы принять эту либеральную систему, и захотят попрежнему сохранять свои запрещения и чрезмерные пошлины на ввоз наших товаров и фабрикатов, то пусть Англия подаст им хороший пример, воспользовавшись сама выгодами свободной торговли; вместо того чтобы отвечать на их запрещения такими же стеснениями, пусть она как можно скорее избавится от всяких следов нелепой и вредной политики. Денежная выгода, которая явилась бы результатом свободной торговли, очень скоро склонила бы другие государства ввести ту же систему; пройдёт немного времени, и все увидят, что путь ко всеобщему процветанию - это возможность для каждой страны найти естественным путём наиболее выгодное применение для её капитала, её талантов и её трудолюбия. Но как бы выгодна ни оказалась свобода торговли, приходится допустить, что имеются некоторые - очень немногочисленные - исключения, когда вмешательство правительства может принести благодетельные последствия. Г-н Сэй, показав в своём прекрасном труде по политической экономии все выгоды свободы торговли, замечает <"Economie politique", livre 1, ch. 17>, что вмешательство государства оправдывается только в двух случаях: во-первых, для предупреждения обмана и, во-вторых, для удостоверения факта. Если дело касается испытаний, которым должны подвергаться практикующие врачи, то вмешательство государства отнюдь не является неуместным, ибо для благополучия народа необходимо, чтобы факт приобретения этими врачами известной суммы знаний о болезнях человеческого тела был установлен и удостоверен. То же самое может быть сказано о пробе, пометку о которой правительство делает на изделиях из драгоценных металлов и на монете; оно таким образом предупреждает обман и избавляет от необходимости производить при каждой покупке и продаже сложный химический процесс. Та же самая цель имеется в виду при проверке чистоты лекарств, продаваемых дрогистами и аптекарями. Во всех этих случаях предполагается, что покупатели не имеют или не могут приобрести достаточные знания для предохранения себя от обмана; правительство вмешивается, чтобы сделать за них то, чего они не в состоянии сделать сами для себя. Но если общество нуждается в защите против плохой монеты, которая может быть навязана ему при незаконной примеси лигатуры, т. е. в защите, которая при употреблении металлических денег даётся правительственной пометкой о пробе, то во сколько раз более необходима такая защита, когда бумажные деньги образуют всю, или почти всю, совокупность средств обращения данной страны? Разве со стороны правительства не непоследовательно использовать свою власть для защиты общества от потери 1 шилл. в гинее и ничего не предпринимать для защиты его от потери всех 20 шилл. в банкноте достоинством в 1 ф. ст.? Для банкнот, выпускаемых Английским банком, правительством даётся гарантия, так что весь капитал банка, составляющий свыше 11 1/2 млн. ф. ст., должен будет погибнуть раньше, чем держатели его банкнот пострадают от неосторожности, которую он может совершить. Почему тот же принцип не применяется по отношению к провинциальным банкам? Какое возражение может быть сделано против предъявления тем, кто берёт на себя обязательство снабжать публику средствами обращения, требования представить правительству адекватное обеспечение выполнения взятых ими на себя обязанностей? Поскольку люди пользуются деньгами, все они являются участниками торговли; те, чьи привычки и занятия мало приспособлены для изучения механизма торговли, вынуждены всё же пользоваться деньгами, хотя они совершенно не умеют установить солидность различных банков, банкноты которых находятся в обращении. Таким образом, мы видим, что люди, имеющие ограниченный доход, - женщины, рабочие и ремесленники всякого рода, - несут часто тяжёлые потери от банкротств провинциальных банков, ставших в последнее время более частыми, чем когда-либо прежде. Я отнюдь не намереваюсь судить с пристрастием тех, кто причинил столько разорения и нужды средним и низшим классам народа; однако и самые снисходительные люди должны признать, что в обычной банковской практике неизбежно допускается очень много злоупотреблений, раньше чем банк, обладающий даже весьма умеренными фондами, вынужден отказаться от выполнения своих обязательств; для большинства такого рода банкротств можно, я думаю, установить, что их участники виновны в преступлениях гораздо более тяжёлых, чем простое неблагоразумие и неосторожность. Против этих-то неудобств и надо защитить общество, требуя от каждого провинциального банка вручения правительству или назначенным для этой цели особым уполномоченным депозита, состоящего из билетов государственного займа или других правительственных обязательств и находящегося в определённом отношении к сумме эмиссий данного банка. Нет никакой необходимости слишком подробно входить во все детали этого плана. Штемпельные марки могут выдаваться на сумму выпускаемых банкнот, как только внесён требуемый депозит; в течение года могут быть установлены определённые сроки, когда всё обеспечение или часть его возвращается банку, если он докажет путём ли возвращения погашенных штемпельных марок или каким-либо иным удовлетворительным способом, что банкноты, на которые обеспечение было выдано, не находятся уже больше в обращении. Ни один солидный провинциальный банк не станет возражать против такой регламентации; напротив, она, по всей вероятности, будет для него в высшей степени желательна, так как устранит конкуренцию тех, кто имеет в настоящее время так мало оснований выступать против него на рынке. Обычаи, создающие большое количество неудобств для торговли. - Средства, предлагаемые против них Однако и после всех усовершенствований, какие можно осуществить в нашей системе денежного обращения, остаётся всё же одно временное неудобство, которое публика будет испытывать, как это было и до сих пор, при больших выплатах дивидендов государственным кредиторам, производимых раз в три месяца, - неудобство, которое часто давало себя сильно чувствовать и против которого, по моему мнению, легко найти средство. Национальный долг принял такие колоссальные размеры и проценты, которые выплачиваются по этому долгу раз в три месяца, составляют такую большую сумму, что одна только приёмка денег от главных сборщиков налогов и последующее уменьшение количества денег в обращении как раз в периоды, предшествующие выплате процентов по государственному займу, в январе, апреле, июле и октябре, порождают на неделю или больше самую острую нужду в средствах обращения. Благодаря разумным мероприятиям и, по всей вероятности, неограниченному учёту векселей как раз в то время, когда эти деньги поступают в казначейство, и принятию мер для получения значительных сумм сейчас же после выплаты дивидендов Английский банк, несомненно, значительно уменьшил неудобства для торговой части общества. Несмотря на это, все, кто знаком с денежным рынком, хорошо знают, что в упомянутые мною периоды чувствуется крайне острая нужда в деньгах. Билеты казначейства, которые обыкновенно продаются с премией в 5 шилл. на 100 ф. ст., продаются в такое время настолько ниже их номинальной цены, что путём покупки их и перепродажи после выплаты дивидендов можно получить прибыль в размере 15-20% . Далее разница между ценою билетов государственного займа за наличные и ценою их при уплате через неделю или две доставляет в это время людям, могущим ссудить деньги, прибыль, превосходящую даже прибыль, получаемую от вложения денег в покупку билетов казначейства. Эта острая нужда в деньгах часто сменяется после выплаты дивидендов таким же большим изобилием, так что в течение некоторого времени деньги эти трудно использовать. Весьма высокое совершенство, которого достигла наша система экономии в употреблении денег, благодаря различным банковским операциям, скорее усугубляет специфическое зло, о котором я говорю, ибо при сокращении количества находящихся в обращении денег в результате усовершенствованных способов производства наших платежей извлечение 1 или 2 млн. ф. ст. из этой сокращённой суммы становится гораздо более серьёзным по своим последствиям, так как составляет большую долю всей совокупности обращающихся денег. Никаких разногласий не может, я полагаю, существовать по вопросу о неудобствах, которым подвергаются промышленность и торговля вследствие такой периодической нужды в деньгах. Но такое единодушие не будет, может быть, иметь места по отношению к средству, которое я хочу теперь предложить. Пусть Английский банк будет уполномочен правительством выдавать владельцам билетов государственного займа дивидендные свидетельства за несколько дней до того, как главные сборщики налогов обязаны будут произвести уплату по своим балансам в казначейство. Пусть эти свидетельства будут оплачиваться по предъявлении совершенно так же, как теперь. Пусть день оплаты этих дивидендных свидетельств банкнотами устанавливается совершенно так же, как и в настоящее время. Если бы день оплаты мог быть назначен при самой выдаче дивидендных свидетельств или до неё, это было бы гораздо удобнее. Наконец, пусть эти свидетельства принимаются в казначействе от главных сборщиков налогов или от всякого другого лица, которое должно произвести платежи в казначействе, точно так же как принимаются банкноты; лица же, расплачивающиеся этими свидетельствами, должны соглашаться на учёт их за то число дней, которое пройдёт прежде, чем наступит срок платежа по ним. Если бы такой план был принят, то не могло бы ощущаться ни особого недостатка в деньгах до выплаты дивидендов, ни особенного изобилия их после неё. Количество денег, находящихся в обращении, не подвергалось бы ни увеличению, ни уменьшению в связи с выплатой дивидендов. Благодаря стимулу личной заинтересованности значительная часть этих свидетельств неминуемо попала бы в руки тех, кто должен производить платежи в казну, а от них - в казначейство. Таким образом, значительная часть платежей правительству и платежей правительства по государственным займам производилась бы без вмешательства банкнот или денег, и нужда в деньгах для этих целей, так жестоко ощущаемая теперь торговыми классами, действительно предупреждалась бы. Те, кто хорошо знаком с системой экономии, принятой теперь в Лондоне всеми банками, легко поймут, что предложенный здесь план представляет собой только распространение этой системы экономии на группы платежей, к которым она до сих пор не применялась. Для них было бы совершенно излишним приводить ещё дальнейшие аргументы в пользу плана, с выгодами которого при других банковских операциях они уже хорошо знакомы. Услуги, оказываемые Английским банком государству, оплачиваются чрезмерно высоко. - Средство, предлагаемое против этой переплаты Г-н Гренфелл привлёк недавно внимание парламента к вопросу, имеющему большое значение для финансовых интересов общества. В эпоху, когда налоги, вызванные беспримерными трудностями и расходами войны, ложатся таким тяжёлым бременем на народ, столь явный источник, как указанный им, наверное, не останется в пренебрежении. Из документов, приложенных к предложениям, сделанным г-ном Гренфеллом в парламенте, явствует, что Английский банк имел в своём распоряжении в течение многих лет сумму государственных денег в среднем не меньшую, чем 11 млн. ф. ст., на которую он получал 5%. Единственным вознаграждением, полученным государством за выгоды, извлекаемые так долго Английским банком из его средств, был заём в 3 млн. ф. ст. на срок с 1806 по 1814 г., т. е. на восьмилетний период, из 3% и дальнейший заём в 3 млн. ф. ст., беспроцентный; Английский банк согласился предоставить последний государству в 1808 г. до истечения шестимесячного срока со дня заключения окончательного мирного договора, а в силу акта, принятого во время последней сессии парламента, он был продлён, оставаясь беспроцентным, до апреля 1816 г. С 1806 до 1816 г., в течение десятилетнего периода, Английский банк получал барыш в 5% ежегодно на 11 млн. ф. ст., что
Итак, Английский банк получил за 10 лет 3 820 тыс. ф. ст., или по 382 тыс. ф. ст. в год, состоя банкиром государства, тогда как все расходы, с которыми связана деятельность соответствующего отделения банка, не превосходят 10 тыс. ф. ст. в год. В 1807 г., когда эти выгоды были впервые отмечены Комитетом палаты общин, многие сторонники Английского банка, а также г-н Торнтон, один из директоров банка, который был тогда управляющим его, указывали, что барыши банка находятся в соответствии с количеством его банкнот, находящихся в обращении, и что из государственных депозитов банк не извлекал никакой выгоды, кроме лишь возможности удерживать в обращении более значительное количество банкнот. Это заблуждение было полностью разоблачено Комитетом. Если бы аргумент г-на Торнтона был правилен, то Английский банк вообще не извлекал бы никакой выгоды из депозитов государственных сумм, так как эти депозиты не дают ему возможности удерживать в обращении более значительное количество банкнот. Предположим, что до поступления в Английский банк каких бы то ни было государственных депозитов сумма его банкнот, находившихся в обращении, составляла 25 млн. ф. ст. и что из обращения их банк извлекал прибыль. Предположим далее, что правительство получило 10 млн. ф. ст. налогов банкнотами и депонировало их в Английский банк в форме бессрочного вклада. Количество обращающихся банкнот немедленно понизилось бы до 15 млн. ф. ст., но прибыль банка оставалась бы точно такой же, как и раньше. Хотя теперь в обращении находилось бы только 15 млн. ф. ст., банк получал бы прибыль с 25 млн. Но если бы он снова увеличил после этого размеры обращения до 25 млн. ф. ст., затратив 10 млн. на учёт векселей, на покупку билетов казначейства или авансируя на год платежи по займам держателей временных заёмных свидетельств, то разве он не прибавил бы к своим обычным прибылям проценты с 10 млн. ф. ст. даже при условии, что количество выпущенных им в обращение банкнот не было бы ни разу поднято выше 25 млн.? Утверждение, что рост суммы государственных вкладов даёт Английскому банку возможность увеличить количество его банкнот, находящихся в обращении, не подтверждается ни теорией, ни опытом. Если мы посмотрим, как совершался рост таких вкладов, то увидим, что никогда он не был так значителен, как в период с 1800 по 1806 г., а между тем за это время количество находившихся в обращении банкнот в 5 ф. ст. и выше совершенно не увеличилось. Напротив, с 1807 по 1815 г., когда сумма правительственных вкладов нисколько не возросла, количество банкнот в 5 ф. ст. и выше увеличилось на 5 млн. ф. ст. Ничто не может дать такого полного представления о прибылях Английского банка, получаемых им от правительственных вкладов, как доклад, представленный Комитетом государственных расходов в 1807 г. В докладе говорится: "В показаниях, относящихся к этой части вопроса, признаётся, что банкноты, выпускаемые Английским банком, дают прибыль, но, повидимому, предполагается, что правительственные вклады приносят её лишь постольку, поскольку они имеют тенденцию увеличивать количество банкнот; ваш же Комитет вполне убеждён, что как вклады, так и банкноты одинаково дают и обязательно должны давать прибыль. Фонды банка, представляющие собой источники прибыли и являющиеся мерой суммы, которую он может ссужать (за одним только вычетом: по счёту наличности и слитков), могут быть подразделены на три рубрики. Во-первых, сумма, полученная от владельцев банка в качестве капитала, вместе с прибавленными к нему сбережениями. Во-вторых, сумма, полученная от лиц, держащих свою наличность в банке. Эта сумма состоит из балансов счетов по вкладам как правительства, так и частных лиц. В 1797 г. этот фонд со включением всех балансов частных лиц составлял всего 5 130 140 ф. ст., а одни только правительственные вклады составляют уже в настоящее время сумму в 11-12 млн. ф. ст., включая банкноты, депонированные в казначейство <некоторые из моих читателей могут не так понять слова "включая банкноты, депонированные в казначейство". Это - банкноты, которые никогда не пускаются в обращение, они также не включаются никогда в представляемые банком отчёты. Они называются в казначействе специальными банкнотами и представляют простые свидетельства (даже не имеющие формы банкнот) об уплате банку казначейством денег, которые ежедневно получаются в последнем учреждении. Они представляют, следовательно, документ на часть правительственных вкладов, помещённых в Английском банке>. В-третьих, сумма, получаемая взамен банкнот, пущенных в обращение. Первоначально за каждую банкноту должны были давать соответствующую стоимость, и эта стоимость, получаемая, таким образом, за банкноты, составляет часть общего фонда, отдаваемого взаймы под проценты. Держатель банкноты ничем не отличается по существу от лица, которому банк должен по балансу его счёта. Оба они являются кредиторами банка: один из них владеет банкнотой, которая представляет свидетельство о долге, причитающемся ему, другой имеет свидетельство о внесении вклада в банк. Вся сумма, постоянно отдаваемая в долг под проценты, должна находиться в точном соответствии с общей суммой всех трёх фондов за вычетом стоимости наличности и слитков". <В 1797 г. Английский банк определял состояние своего баланса следующим образом:
На обороте отчёта банк показал, в каких обязательствах были инвестированы эти фонды. За исключением наличности и слитков, а также небольшой суммы в штемпельных марках все они приносили банку проценты и прибыль.> Каждое слово этого заявления, по моему мнению, неопровержимо, и принцип, сформулированный Комитетом, дал бы нам непогрешимый ключ к определению чистой прибыли Английского банка, если бы мы знали сумму его сбережений, - его наличность, его слитки, его ежегодные расходы, а также и другие данные о нём были бы нам хорошо известны. На обороте отчёта банк показал, в каких обязательствах были инвестированы эти фонды. За исключением наличности и слитков, а также небольшой суммы в штемпельных марках, все они приносили банку проценты и прибыль. Из приведённого выше извлечения видно, что в 1807 г. сумма правительственных вкладов составляла от 11 до 12 млн. ф. ст., в то время как в 1797 г. сумма правительственных и частных вкладов составляла всего 5 130 140 ф. ст. Основываясь на этом отчёте, г-н Персиваль обратился к Английскому банку от имени государства, требуя участия последнего в добавочной прибыли из этого источника в форме ли ежегодных платежей или беспроцентного займа. После непродолжительных переговоров получен был беспроцентный заём в 3 млн. ф. ст., подлежавший уплате через шесть месяцев после окончательного заключения мира. Доклад отмечает также непомерное вознаграждение, уплаченное Английскому банку за управление делами национального долга. Государство платило в тот период за это последнее из расчёта 450 ф. ст. с миллиона. Комитет установил также, что добавочное вознаграждение за управление делами долга составило в течение десятилетия, закончившегося в 1807 г., благодаря увеличению национального долга больше 155 тыс. ф. ст.; тогда как "количество должностных лиц, фактически занимавшихся этим делом, увеличилось всего лишь на 137 человек, расход на их содержание возрос, вероятно, с 18 449 до 23 290 ф. ст. в год, а прибавка к другим постоянным расходам равнялась, должно быть, 1/2 или 2/3 этой суммы". После этого доклада с Английским банком было заключено новое соглашение о ведении дел по национальному долгу. На каждый миллион должно было уплачиваться 450 ф. ст. при условии, что непогашенная капитальная сумма долга превышала 300 млн. ф. ст., но была ниже 400 млн. На каждый миллион уплачивалось 340 ф. ст., если капитальная сумма превышала 400 млн. ф. ст., но была ниже 600 млн. На каждый миллион уплачивалось 300 ф. ст. по той части государственного долга, которая превышала 600 млн. ф. ст. Кроме всех этих доходов Английскому банку уплачивают 800 ф. ст. с миллиона за взимание платежей по займам, 1 тыс. ф. ст. за каждый договор о лотерее и 1 250 ф. ст. с миллиона, или 1/8%, за взимание налогов с прибыли, доставляемой имуществом, профессиями и торговлей. Это соглашение с тех пор остаётся в силе. Теперь приближается срок, когда деятельность Английского банка подвергнется рассмотрению в парламенте и когда соглашение, касающееся правительственных вкладов, будет закончено уплатой беспроцентного займа в 3 млн. ф. ст., заключённого в 1808 г. Трудно найти, следовательно, более удобный момент для того, чтобы указать на чрезмерные выгоды, которые были предоставлены Английскому банку по условиям договора, заключённого между ним и г-ном Персивалем в 1808 г. В этом, мне кажется, и состояла главная цель г-на Гренфелла: он хочет привлечь внимание парламента не только к добавочным выгодам, полученным Английским банком со времени соглашения 1808 г., но и к самому соглашению, в силу которого государство платит в настоящее время и платило очень долго в той или иной форме огромные суммы за совершенно неадекватные услуги. Г-н Гренфелл думает, вероятно, и если это так, то я от души соглашаюсь с ним, что прибыль в 382 тыс. ф. ст. в год (сумма, в какой исчисляются доходы Английского банка от правительственных вкладов за десятилетие, как это указано нами выше) значительно превышает справедливое вознаграждение, которое государство должно платить банку за выполнение им простых обязанностей банкира. Это особенно верно, если принять во внимание, что в добавление к этой сумме Английскому банку выплачивается теперь ещё 300 тыс. ф. ст. в год за управление делами национального долга, займов и т. д., и сверх всего он пользовался со времени возобновления своей хартии огромной дополнительной прибылью от замещения находившихся в обращении частью металлических и частью бумажных денег полностью бумажными. Эта добавочная прибыль не принималась во внимание в 1800 г., когда было заключено соглашение, ни парламентом, даровавшим эту хартию, ни Английским банком, получившим её. Последний может быть при этом лишён значительной части этой добавочной прибыли в случае отмены закона, освободившего Английский банк от оплаты звонкой монетой своих банкнот. При таких условиях следует, по моему мнению, признать, что г-н Персиваль отнюдь не получил в 1808 г. для государства всё, на что оно имело право рассчитывать; принимая же во внимание всем известные взгляды канцлера казначейства на право государства участвовать в добавочной прибыли Английского банка, получаемой им от правительственных вкладов, можно надеяться, что теперь мы будем отстаивать условия соглашения, более соответствующие интересам государства. Правда, вышеуказанные суммы, хотя и уплаченные государством, не представляют чистой прибыли Английского банка; из них приходится сделать ещё вычет на расходы по той части аппарата банка, которая предназначена исключительно для ведения государственных дел, но эти расходы, вероятно, не превышают 150 тыс. ф. ст. в год. Комитет государственных расходов констатировал в 1807 г. в своём докладе палате общин, что "число клерков, которым Английский банк поручал исключительно или главным образом ведение государственных дел, составляло в
Каждая из двух последних сумм была бы достаточна для организации пенсионного фонда.
Итак, по самой высокой оценке Комитета, расходы по ведению государственных операций составляли в 1807 г., включая всю сумму жалованья директоров, случайные расходы, расходы на дополнительные постройки и ремонт, а также судебные расходы и убытки от мошенничеств и подлогов, 119 500 ф. ст. Комитет констатировал также, что увеличившиеся расходы Английского банка по управлению государственными операциями составляли по истечении периода в 11 лет (с 1796 по 1807 г.) около 35 тыс. ф. ст. в год при долге, возросшем до 278 млн. ф. ст., т. е. из расчёта 126 ф. ст. на миллион. С 1807 г. до настоящего времени непогашенный долг, которым ведает банк, возрос приблизительно с 550 млн. ф. ст. почти до 830 млн., или на сумму около 280 млн., - немногим больше, чем с 1796 по 1807 г.; поэтому, считая опять-таки по 126 ф. ст. с миллиона, аналогичные расходы составили бы тут 35 тыс. ф. ст. Но "так как норма расходов уменьшается по мере расширения масштаба деятельности", я определяю их в 30 500 ф. ст., что вместе с расходами за 1807 г. в 119 500 ф. ст. подымет всю сумму расходов по управлению государственными операциями до 150 тыс. ф. ст. Государственные контролёры пришли в 1786 г. к заключению, что 187 ф. ст. 10 шилл. с миллиона достаточно, чтобы оплатить расходы по управлению делами долга в 224 млн. ф. ст. Расчёт, который я только что сделал, даёт около 180 ф. ст. с миллиона на долг в 830 млн. ф. ст., что представляет вполне достаточное вознаграждение, если принять во внимание, что долг, как таковой, растёт совсем в ином отношении, чем работа, которую вызывает управление его делами. Итак, предполагая, что расходы составляют около 150 тыс. ф. ст., чистая прибыль, получаемая Английским банком в текущем году от всех его сделок с государством, составит следующую сумму:
Из этой громадной суммы 382 тыс. ф. ст. доставляются, по всей вероятности, одними только вкладами; расход этот мог бы быть сбережён для нации, если бы правительство взяло управление этим делом в собственные руки; для этого оно должно было бы иметь в своём распоряжении общее казначейство, на которое каждый департамент мог бы выдавать векселя точно так же, как выдают их теперь на Английский банк; иначе говоря, оно должно инвестировать 11 млн. ф. ст.- сумму, какую составляют, повидимому, в среднем вклады в билетах казначейства и часть которой может быть продана на рынке, если бы в силу каких-нибудь непредвиденных обстоятельств вклады упали ниже этой суммы. Предложенные г-ном Гренфеллом резолюции <см. Приложения>, относительно которых парламент выскажется в ближайшую сессию, дают краткое резюме фактов, содержащихся в приложенных к его предложению документах, и заканчиваются следующим заключением: "Что палата общин обратит в ближайший срок внимание на выгоды, извлекаемые Английским банком как из управления национальным долгом, так и из общей суммы балансов государственных денег, остающихся в распоряжении банка, для того чтобы заключить по истечении срока ныне действующих обязательств такое соглашение, которое соответствовало бы как интересам государства, так и правам, кредиту и устойчивости Английского банка". Г-н Мэллиш, управляющий Английским банком, также внёс свои резолюции на рассмотрение ближайшей сессии парламента. Эти резолюции <см. там же> признают правильность всех фактов, указанных г-ном Гренфеллом; они упоминают также об одной или двух незначительных услугах, которые Английский банк оказывает государству, одну без вознаграждения <услуга без вознаграждения заключалась в вычислении вычетов из каждого дивидендного свидетельства налогов на собственность. Другая состояла во взимании взносов у тех, кто платил налога на собственность непосредственно банку, за что последний получал 1 250 ф. ст. с миллиона, или 1/8%. Если бы сборщик налогов ходил из дома в дом за получением этих денег, то он получал бы за это вознаграждение в 5 пенс. с 1 ф. ст., что обошлось бы государству в 58 007 ф. ст. вместо 3 480 ф. ст., уплачиваемых Английскому банку. Быть может, ни одна часть операций Английского банка не может выполняться с большей лёгкостью, чем эта последняя, которую особо подчеркивает его правление. Мне кажется, что она отнюдь не оплачивается ниже нормы, а, наоборот, слишком щедро. Экономия, получаемая государством, состоит на деле в том, что деньги сосредоточиваются в одном центре и их не приходится собирать в разных местах. Но Английский банк, повидимому, считает, что мерой, которой он измеряет степень умеренности своих требований, является скорее экономия, которую он доставляет своему клиенту, а не справедливое вознаграждение за его собственные хлопоты и расходы. Что сказало бы правление банка об инженере, который, определяя расходы по сооружению паровой машины, принял бы в расчёт не стоимость труда и материалов, необходимых для её сооружения, а стоимость труда, который эта машина предназначена сберечь?>, а другую за меньшее вознаграждение, чем то, какое следовало бы заплатить обыкновенному сборщику налогов. Однако восьмая и девятая резолюции содержат экстраординарную претензию - они, повидимому, ставят под вопрос право правительства требовать от Английского банка после погашения займа в 3 млн. ф. ст. в 1816 г. и вплоть до 1833 г., когда истекает срок его хартии, какую бы то ни было компенсацию за выгоды, извлекаемые банком из правительственных вкладов, или заключить какое-либо новое соглашение относительно размеров вознаграждения, получаемого Английским банком за управление делами национального долга. Эти резолюции гласят: "8. Что в силу актов 39 и 40-го годов царствования Георга III, статья 28, отд. 13, Английский банк будет пользоваться в течение срока действия хартии всеми привилегиями, прибылями, преимуществами, барышами и выгодами всякого рода, которыми он ныне обладает и пользуется при выполнении им каких-либо операций для государства или по его поручению. Что до возобновления его хартии Английский банк был использован в качестве государственного банка, который держал у себя наличность всех главных департаментов, получающих государственные доходы, а также ведал и производил государственные расходы, и т. д. 9. Что по истечении срока соглашения, действующего в настоящее время между государством и Английским банком, может оказаться уместным рассмотреть выгоды, извлекаемые банком из его сделок с государством с целью принятия соглашения, соответствующего началам справедливости и взаимного доверия, которые должны господствовать во всех сделках между государством и Английским банком". <Со времени выхода в свет первого издания этой работы первый лорд казны и канцлер казначейства предложил Английскому банку продлить срок аванса в 3 млн. ф. ст., который подлежал уплате в апреле ближайшего года, ещё на два года без процентов, а также авансировать правительству сумму в 6 млн. ф. ст. из 4% на двухлетний неизменный срок и продлить этот срок еще на три года при условии уплаты с шестимесячным предуведомлением, сделанным в любое время между 10 октября какого-нибудь года и 5 апреля последующего за ним либо лордами казначейства Английскому банку, либо последним их лордствам. Это предложение было принято общим собранием владельцев капитала Английского банка, созванным 8 февраля для обсуждения его. На этом общем собрании я обратился с просьбой дать мне некоторые разъяснения о судьбе правительственных вкладов по истечении двухлетнего срока и отметил с одобрением, что Английский банк отступил от своего требования, сформулированного им в вышеприведённых резолюциях и настаивавшего, как мне казалось, на праве банка хранить правительственные вклады, не платя за это никакого вознаграждения. Г-н Мэллиш, управляющий Английским банком, возразил на это, что я совершенно не понял смысла этих резолюций, и выразил уверенность, что если я снова внимательно прочту их, то смогу убедиться, что из них нельзя сделать такого вывода. Я рад, что Английский банк отрицает всякое намерение лишить государство выгоды, которой сам он пользовался со времени доклада Комитета государственных расходов: я сожалею, однако, что авторы резолюций выразились так неясно, что последние произвели на меня и других совершенно иное впечатление. Мне всё же кажется, что резолюции считают привилегию быть государственным банкиром закреплённой за Английским банком на срок действия его хартии в силу весьма важных соображений и признают уместным приступить к пересмотру имеющегося соглашения лишь по истечении срока его действия>. Что Английский банк указывает теперь на невозможность для государства предъявлять к банку благодаря его хартии какие-либо требования об участии в выгодах, приносимых правительственными вкладами, и притом впервые после всего, что произошло с 1800 г., - это действительно кажется странным. Хартия Английского банка была возобновлена в 1800 г. на 21 год со времени истечения её срока в 1812 г., следовательно, срок её действия окончится теперь не ранее 1833 г. Но с 1800 г. банк не только не заявлял претензии на получение полностью всех выгод, приносимых правительственными вкладами, но ещё ссудил в 1806 г. правительству 3 млн. ф. ст. до 1814 г. из 3%, а в 1808 г. - ещё 3 млн. ф. ст. до окончания войны без процентов; в последнюю же сессию парламента заём в 3 млн. ф. ст. был продлён без процентов до апреля 1816 г. Эти займы были предоставлены именно на основе роста сумм правительственных вкладов. Комитет государственных расходов, касаясь в своём уже упомянутом мною докладе (1807 г.) займа в 3 млн. ф. ст., предоставленного государству в 1806 г. из 3%, замечает: "Но эта сделка весьма существенна с другой точки зрения: она показывает, что соглашение, заключённое в 1800 г., не рассматривалось ни теми, кто вёл переговоры со стороны государства, ни самими директорами Английского банка как барьер против дальнейшего участия государства в прибылях во всех случаях роста прибылей, извлекаемых банком из правительственных вкладов и такого положения государства, при котором это требование сделалось бы на тех же основаниях рациональным и целесообразным" <Курсив Рикардо. - Прим. ред.>. А каким языком говорил г-н Персиваль в то самое время, когда в результате этого доклада он потребовал и получил заём в 3 млн. ф. ст. до окончания войны? В своём письме управляющему и заместителю управляющего Английским банком, датированном 11 января 1808 г., он говорит: "Я считаю необходимым заметить, что предложение ограничить срок аванса, сделанного в форме займа и ежегодных взносов в казначейство, периодом длительности настоящей войны и ещё 12 месяцами после её окончания отнюдь не следует понимать как признание мною отсутствия у государства права требовать по истечении этого периода каких-либо выгод от отдаваемых на хранение банку правительственных вкладов; моё предложение следует понимать просто как меру, в силу которой и правительство и банк будут оба иметь возможность выработать новое соглашение, когда обстоятельства в дальнейшем изменятся и, вероятно, повлияют на размеры государственных средств, находящихся в распоряжении банка". 19 января предложения г-на Персиваля были представлены собранию директоров в более официальной форме; на этот раз они заканчиваются следующим образом: "Подразумевается также, что в течение периода, на который этот аванс выдан банком <Курсив Рикардо. - Прим. ред.>, не будет предложено никакого изменения в общем ходе дел между банком и казначейством и не будет принято никакого постановления, в силу которого суммы, направляемые в настоящее время на основании закона в банк, могли бы быть оттуда изъяты". Предложения эти были рекомендованы к принятию собранием директоров собранию владельцев капитала и были приняты 21 января без всяких прений. В своём обращении к Английскому банку в ноябре 1814 г., относящемся к продлению срока займа в 3 млн. ф. ст., который истекал между 17 декабря следующего года и апрелем 1816 г., г-н Ванситтарт употребляет следующие слова: "Но я просил бы понять меня вполне точно: я не отступаю от оговорки, сделанной покойным г-ном Персивалем в его письме к управляющему и заместителю управляющего Английским банком от 11 января 1808 г., - оговорки, с помощью которой он предостерегает против возможности каких-либо лжетолкований, могущих лишить государство права требовать по истечении срока, на который был заключён заём, участия в будущих выгодах от продолжения хранения в банке правительственных вкладов в прежнем или большем размере. Вообще я вполне присоединяюсь к взглядам, которые защищал г-н Персиваль в имевшей тогда место дискуссии". Английский банк не сделал как будто никаких возражений на эти замечания. Было созвано общее собрание владельцев, и заём в 3 млн. ф. ст. был продлён до апреля 1816 г. Со стороны Английского банка было бы, очевидно, весьма нелюбезно настаивать теперь на том, что соглашение 1800 г. исключает для государства право требовать какое-либо вознаграждение за выгоды, извлекаемые банком от роста правительственных вкладов за последний период; ведь правительство столько раз настаивало на праве участия, и право его каждый раз признавалось собранием директоров. В дополнение к этим убедительным фактам справка об основаниях для соглашения о возобновлении хартии, изложенных детально г-ном Торнтоном в его показании перед Комитетом государственных расходов в 1807 г. <см. "Доклад">, покажет нам ещё лучше, что Английский банк не имеет никакого права прикрываться своей хартией, отказываясь допустить государство к участию в прибылях, выросших вследствие увеличения суммы правительственных вкладов. Следует вспомнить, что г-н Торнтон был в 1800 г. управляющим Английским банком, что он был представителем последнего в переговорах с г-ном Питтом о возобновлении хартии и что в действительности именно у него зародилась мысль о возобновлении хартии за столь продолжительный срок до истечения её действия. Г-н Торнтон сказал Комитету, что единственная сумма государственных денег, из которых банк извлекал прибыль и о которых он и г-н Питт говорили с целью определения вознаграждения, следуемого государству за продление срока исключительных привилегий, были деньги, внесённые в банк для уплаты растущих дивидендов и для трёхмесячных эмиссий за счёт комиссаров по погашению национального долга.
(*) Из отчёта, представленного парламенту в последнюю сессию, явствует, что сумма билетов казначейства и банкнот, вложенных казначейством на текущий счёт, доходила в среднем в течение года, оканчивающегося мартом 1800 г., до 3 690 тыс. ф. ст. Г-н Торнтон категорически заявляет, что остальные государственные счета составляли ничтожную сумму, что "вероятное увеличение суммы денег по счетам различных департаментов правительства не принималось в расчёт" и что "такое увеличение не было принято во внимание и в связи с ним не было принято никаких мер". Таким образом, даже представитель Английского банка признаёт, что вероятное увеличение государственных счетов не было принято во внимание при определении денежного вознаграждения государству за продление исключительных привилегий банка; а если так, то как может теперь банк утверждать с каким-нибудь на то правом, что прибыль, извлекаемая из этих увеличенных вкладов, "которые не были предусмотрены и в связи с которыми не было принято никаких мер", принадлежит по праву исключительно банку и что государство не имеет ни права участвовать в них, ни взять назад свои вклады из банка, чтобы использовать их так, как оно находит более целесообразным? Следует отметить, что в своём вышеупомянутом показании г-н Торнтон заявил, что все другие государственные счета, кроме двух вышеприведённых, представляют ничтожную сумму; но из отчётов, представленных в последнюю сессию парламенту, явствует, что в 1800 г., к которому относится показание г-на Торнтона и в котором была возобновлена хартия Английского банка, государственные вклады всех категорий в последний составляли до 6 200 тыс. ф. ст., т. е. превосходили всю сумму, указанную г-ном Торнтоном, на 3 млн. ф. ст., а 3 млн. ф. ст. он вряд ли назвал бы, если бы знал этот факт, "ничтожной суммой". Таким образом, наличие такого значительного дополнительного вклада не было принято во внимание гг. Торнтоном и Питтом в то время, когда велись переговоры о возобновлении хартии, и ни одна часть вознаграждения, которое получало тогда государство, не соответствовала этому наличию. А если так, то существование значительных правительственных вкладов в 1800 г. не только не даёт банку права удержать в свою пользу всю прибыль, приносимую теперь ещё большими вкладами, но по справедливости заставляет его быть особенно щедрым во всяком новом соглашении, которое он мог бы заключить с государством; это дало бы ему возможность дать возмещение за столь долго получаемую им прибыль, которой, надо полагать, он не получал бы, если бы все факты были полностью известны и приняты во внимание в то время, когда устанавливались условия возобновления его хартии. Но факты эти, были ли они известны или нет, не могли иметь большого значения с точки зрения г-на Торнтона, уверявшего столь решительно, что прибыль Английского банка не возрастала вместе с увеличением суммы правительственных вкладов и что банк выигрывает от этого увеличения лишь потому, что благодаря им он мог увеличить количество банкнот, выпускаемых в обращение. Не прискорбно ли видеть, что такая великая и богатая корпорация, как Английский банк, выказывает желание увеличить свои накопления при помощи незаконных барышей, вырванных из рук переобременённого народа? Не следовало ли скорее ожидать, что благодарность за полученную хартию и за непредвиденные выгоды, которые она принесла с собой, - те премии и увеличенные дивиденды, которые банк уже получил, и то большое неделимое сокровище, которое хартия дала ему, кроме того, возможность накопить, - побудит банк добровольно предоставить государству всю прибыль, извлекаемую им из использования 11 млн. ф. ст. государственных денег, вместо того чтобы выражать желание лишить государство и той малой части этой прибыли, которою оно пользовалось в течение немногих лет? Когда в 1807 г. обсуждался вопрос о процентном отчислении в пользу Английского банка в оплату за управление делами национального долга, г-н Торнтон сказал, что "в сделке, заключаемой между государством и банком, следует, по его убеждению, требовать лишь справедливого вознаграждения за хлопоты, риск и фактические потери, а также за большую ответственность, связанную с выполнением таких обязанностей". Как могло статься, что язык директоров банка в настоящее время так сильно изменился? Вместо того чтобы требовать лишь справедливого вознаграждения за хлопоты, риск и фактические потери, они стараются лишить государство даже того неадекватного вознаграждения, которое оно получало до этого; они апеллируют теперь впервые к своей хартии для защиты своего права держать у себя государственные деньги и пользоваться всей прибылью, которая может быть извлечена из них без предоставления самого ничтожного вознаграждения государству. Если бы хартия действительно связывала государство в такой мере, как это утверждает банк, то от крупного публичного предприятия, владеющего такой выгодной монополией и так тесно связанного с государством, можно было ожидать более благожелательной политики по отношению к своим великодушным благодетелям. До последней сессии парламента Английский банк пользовался также особыми льготами при исчислении той суммы, которую он вносил взамен гербового сбора. В 1791 г. он платил 12 тыс. ф. ст. в год вместо всех гербовых сборов с векселей или с банкнот. В 1799 г., после повышения гербового сбора, эта сумма была увеличена до 20 тыс. ф. ст.; новое повышение в 4 тыс. ф. ст., поднявшее эту сумму до 24 тыс. ф. ст., было введено взамен гербового сбора с банкнот ниже 5 ф. ст., которые банк начал тогда выпускать в обращение. В 1804 г. гербовый сбор, установленный в 1799 г. для банкнот ниже 5 ф. ст., был увеличен не меньше чем на 50%, был также значительно повышен сбор с банкнот более высокого достоинства; но хотя сумма находящихся в обращении банкнот ниже 5 ф. ст. возросла с 1 1/2 до 4 1/2 млн. ф. ст., сумма банкнот более высокого достоинства также возросла, сумма, уплачиваемая банком вместо гербового сбора, увеличилась только с 24 тыс. до 32 тыс. ф. ст. В 1808 г. произошло дальнейшее повышение ставок гербового сбора на 33%, и отступная сумма повысилась тогда с 32 тыс. до 42 тыс. ф. ст. В том и в другом случае рост этой суммы не соответствовал даже повышению ставок гербового сбора, увеличение же количества банкнот, выпущенных банком в обращение, совершенно не было учтено. В последнюю сессию парламента при дальнейшем повышении ставок гербового сбора был впервые установлен принцип, согласно которому сумма, уплачиваемая Английским банком взамен гербового сбора, должна находиться в определённом отношении к количеству его банкнот, находящихся в обращении. В настоящее время она определяется следующим образом: исходя из средней суммы банкнот, находившихся в обращении в предшествующие три года, банк должен платить 3 500 ф. ст. с миллиона безотносительно категорий или стоимости банкнот, из которых состоит вся находящаяся в обращении сумма их. Средняя сумма банкнот, находившихся в обращении в течение трёх лет, заканчивающихся 5 апреля 1815 г., равнялась 25 102 600 ф. ст., и с этой средней банк будет теперь платить около 87 500 ф. ст. В следующем году средняя будет взята за три года, оканчивающихся в апреле 1816 г., и если она будет отличаться от предыдущей, то общая сумма гербового сбора будет изменена соответственно. Если бы в настоящее время мы шли тем же путём, что и в 1804 и 1808 гг., то Английский банк должен был бы платить даже с добавочным гербовым сбором только 52 500 ф. ст. Таким образом, для государства была бы сбережена сумма в 35 тыс. ф. ст. в год благодаря тому, что парламент принял, наконец, принцип, который следовало принять ещё в 1799 г.; пренебрежение к этому принципу причинило государству убыток, а следовательно, доставило банку прибыль на сумму, вероятно, не меньшую чем в 500 тыс. ф. ст. Г-н Гренфелл думает, вероятно, и если это так, то я от души соглашаюсь с ним, что прибыль в 382 тыс. ф. ст. в год (сумма, в какой исчисляются доходы Английского банка от правительственных вкладов за десятилетие, как это указано нами выше) значительно превышает справедливое вознаграждение, которое государство должно платить банку за выполнение им простых обязанностей банкира. Это особенно верно, если принять во внимание, что в добавление к этой сумме Английскому банку выплачивается теперь ещё 300 тыс. ф. ст. в год за управление делами национального долга, займов и т. д., и сверх всего он пользовался со времени возобновления своей хартии огромной дополнительной прибылью от замещения находившихся в обращении частью металлических и частью бумажных денег полностью бумажными. Эта добавочная прибыль не принималась во внимание в 1800 г., когда было заключено соглашение, ни парламентом, даровавшим эту хартию, ни Английским банком, получившим её. Последний может быть при этом лишён значительной части этой добавочной прибыли в случае отмены закона, освободившего Английский банк от оплаты звонкой монетой своих банкнот. При таких условиях следует, по моему мнению, признать, что г-н Персиваль отнюдь не получил в 1808 г. для государства всё, на что оно имело право рассчитывать; принимая же во внимание всем известные взгляды канцлера казначейства на право государства участвовать в добавочной прибыли Английского банка, получаемой им от правительственных вкладов, можно надеяться, что теперь мы будем отстаивать условия соглашения, более соответствующие интересам государства. Прибыль и сбережения Английского банка. - Их ненадлежащее использование. - Предлагаемое средство для исправления Я до сих пор рассматривал прибыль Английского банка с точки зрения интересов государства и старался показать, что она значительно превышала тот уровень, какой могло гарантировать справедливое внимание к правам и интересам банка. Я хочу теперь заняться его прибылью с точки зрения интересов владельцев капитала банка; с этой целью я постараюсь установить базу для исчисления его прибыли и установить точно, как велики в настоящее время его накопленные сбережения. Если бы мы знали в точности расходы Английского банка и сумму наличности и слитков, которые он мог иметь на руках в тот или иной период, мы имели бы возможность сделать соответствующее вычисление, в максимальной степени приближающееся к истине. Прибыль Английского банка получается из источников, которые хорошо известны. Она проистекает, как это уже было показано, из процентов на правительственные и частные вклады, из процентов на сумму его банкнот, находящихся в обращении, за вычетом суммы наличности и слитков, из процентов на его капитал и сбережения, из вознаграждения, получаемого им за управление делами национального долга, из прибыли от сделок со слитками и от уничтожения его банкнот. Всё это вместе составляет валовую прибыль банка, из которой следует вычесть лишь его расходы, гербовый сбор и налог на собственность, чтобы установить его чистую прибыль. В графу расходов должны быть включены все издержки, связанные с управлением делами национального долга, а также издержки, вызываемые ведением собственных дел банка. При оценке первой группы расходов я уже изложил основания, в силу которых они, по-моему, не могут превосходить 150 тыс. ф. ст. Что касается ведения дел национального долга, то Комитет государственных расходов констатировал, что в 1807 г. этим было занято 450 клерков: число их могло, вероятно, возрасти в настоящее время до 500-600 человек. Насколько мне известно, наиболее авторитетные парламентские деятели установили также, что во всех отделах Английского банка имелось около 1 тыс. клерков; следовательно, если 500 из них были заняты исключительно работой по государственным операциям, то операциями самого банка должно было быть занято 500 человек. Предположим теперь, что расходы должны находиться в некотором постоянном отношении к числу работающих клерков: тогда если расход в 150 тыс. ф. ст. соответствует штату в 500 клерков, занятых работой по государственным операциям, то мы можем считать, что такой же расход приходится на остальных 500 клерков; следовательно, все расходы банка, включая комиссии всякого рода, составляют в настоящее время около 300 тыс. ф. ст. <Мне было указано, что в моих вычислениях недостаточно принимаются во внимание потери банка от сомнительных долгов, вызываемые случайным учётом малонадёжных векселей. Мне говорили, что потери, возникающие таким путём, часто весьма значительны. С другой стороны, мне сообщают, что прибыль банка от частных вкладов, которых я не принял в расчёт, должна быть значительна, так как Ост-Индская компания и многие другие общественные предприятия держат свою наличность в Английском банке. Из прибыли банка следует также вычесть потери, причинённые Аслеттом, и расходы на содержание военной охраны. Для моей аргументации не имеет значения то обстоятельство, что добавочный капитал банка составляет не 13, а только 12 или 11 млн. ф. ст. [Это примечание сделано во втором издании.]> Однако, хотя теперь и расходуется такая значительная сумма, эти расходы должны были возрастать постепенно с 1797 г., когда все расходы банка составляли, вероятно, не больше половины теперешних. Прежде всего количество банкнот, находившихся в обращении, увеличилось с 1797 г. с 12 млн. до 28 млн. ф. ст., но расходы, связанные с их обращением, выросли не в том же отношении, а увеличились по меньшей мере в отношении 1 : 10. Сумма банкнот достоинством в 5 ф. ст. и выше увеличилась с 12 млн. до 18 млн., и если бы средняя стоимость банкнот всех категорий свыше 5 ф. ст. не превосходила 15 ф. ст., то находящиеся в обращении 12 млн. ф. ст. состояли бы из 800 тыс. банкнот, а 18 млн. ф. ст.- из 1200 тыс. банкнот, что даёт увеличение в отношении 1 : 1,5; но 9 млн. банкнот ниже 5 ф. ст., находящиеся теперь в обращении, были все выпущены после 1797 г., и если они состоят из 5 млн. банкнот в 1 ф. ст. и 2 млн. банкнот в 2 ф. ст., то 7 млн. банкнот были прибавлены к обращению позднее; таким образом, всё число банкнот увеличилось с 1797 г. с 800 тыс. до 8 200 тыс., или в отношении 1 : 10; при этом расходы, связанные с их выпуском, в 10 раз больше, чем прежде, ибо эти расходы пропорциональны числу, а не общей сумме стоимости банкнот. Весьма вероятно также, что банкноты достоинством в 1 и 2 ф. ст., которые непрерывно используются в обращении, возобновляются гораздо чаще, чем банкноты более высокой стоимости. Далее государственный долг, которым ведает Английский банк, более чем удвоился с 1797 г., и расходы соответствующего отделения должны были значительно увеличиться. Эти расходы возросли с 1796 г., как это уже вычислено, с 84 500 ф. ст. до 150 тыс., или на 65 500 ф. ст. <Комитет государственных расходов исчислил эти расходы для 1807 г. в 119 500 ф. ст. и констатировал, что увеличение с 1796 по 1807 г. составило около 35 тыс. ф. ст.> Правительственные вклады также увеличились с 1797 г. по меньшей мере вдвое. Из всего этого я имею право сделать вывод, что расходы Английского банка в 1797 г. не могли превышать 150 тыс. ф. ст. и что они возрастали постепенно, начиная с этого периода, причём приросты составляли примерно 7 тыс. или 8 тыс. ф. ст. ежегодно. Следующий вопрос, подлежащий рассмотрению, - это вопрос о количестве наличности и слитков в Английском банке; такие данные никогда ещё не опубликовывались для всеобщего сведения. Именно эти данные, а также данные об учтённых банком векселях были и являются единственно важными фактами, которые банк скрыл от публики в достопамятный 1797 г. В отчёте, представленном парламенту, банк заявлял, что его наличность и слитки, а также учтённые векселя и банкноты составляли в совокупности на 26 февраля 1797 г. сумму в 4 176 080 ф. ст. Он представил также шкалу дисконтов с 1782 по 1797 г. и шкалу наличности и слитков в банке за тот же период. Сравнив эти таблицы друг с другом и с некоторыми разделами показаний, данных банком перед парламентским Комитетом, один тонкий калькулятор полностью открыл секрет, который банк хотел скрыть. Согласно его таблице, наличность и слитки в банке упали 26 февраля 1797 г. до минимального размера в 1 272 тыс. ф. ст. <во втором и третьем изданиях ошибочно напечатано 1 227 тыс. ф. ст. - Прим. ред.>, тогда как сумма, составлявшая по мнению самого банка достаточную наличность, должна была быть не меньше 4 млн. ф. ст.; такого размера она никогда не достигала после декабря 1795 г., хотя до этого года она превышала его иной раз вдвое. В течение одного или двух лет после прекращения платежей наличными Английский банк должен был употребить большие усилия, чтобы восполнить свои запасы наличности и слитков, так как он отнюдь не был уверен в том, что снова не должен будет платить по своим банкнотам звонкой монетой. Действительно, из отчётов, представленных парламенту Монетным двором, видно, что количество золота, перечеканенного в монету в 1797 и 1798 гг., равнялось по своей стоимости сумме, весьма немногим меньшей чем 5 млн. ф. ст. <секретный комитет доложил парламенту, что сумма наличности и слитков, имевшаяся в Английском банке в ноябре 1797 г., увеличилась по своей стоимости больше чем в пять раз в сравнении с уровнем её 25 февраля 1797 г. Он констатировал также, что лондонские банкиры и купцы, которые в силу парламентского акта имели право требовать наличными 3/4 любого вклада от 500 ф. ст. и выше, внесённого ими в Английский банк после 25 февраля 1797 г., в действительности потребовали в ноябре 1797 г. только около 1/16>. Какова бы ни была, однако, сумма наличности и слитков, которую Английский банк приобрёл в первые два года после прекращения платежей наличными, вполне возможно, что капитал его, начиная с этого периода, уменьшался; он не имел ведь никакого побуждения хранить большую сумму столь непроизводительного капитала, будучи вполне уверенным, что держатели банкнот не станут предъявлять требований на гинеи и что, прежде чем от него вновь потребуют платы звонкой монетой, у него вполне хватит времени для приготовления надлежащего запаса драгоценных металлов. Итак, принимая во внимание все указанные обстоятельства, нельзя считать возможным, чтобы банк увеличил свой запас слитков после крупных чеканок монеты в 1797 и 1798 гг.; весьма вероятно, однако, что этот запас значительно сократился. При оценке прибыли Английского банка, поскольку размеры её зависят от запасов наличности и слитков, я имею полное основание считать её более значительной после 1797 и 1798 гг., так как с этого времени банк, естественно, держал меньшую часть своего капитала в такой непроизводительной форме, а большую, следовательно, в билетах казначейства или коммерческих акцептах - обязательствах, которые приносят проценты, а потому дают прибыль. В среднем за все 18 лет, с 1797 по 1815 г., сумма наличности и слитков Английского банка не могла достигать большей величины чем 3 млн. ф. ст., хотя, вероятно, в течение первого года или первых двух лет она доходила до 4 или 5 млн. ф. ст. Если же принять все эти условия за предпосылки исчисления, нетрудно будет определить прибыль банка с 1797 г. до настоящего времени, поскольку все факты, необходимые для такого вычисления, известны нам, за исключением двух, о которых я только что говорил, т. е. суммы расходов и суммы наличности и слитков; они, однако, не могут сильно отличаться от вычисленных мною сумм. Произведя расчёты на такой основе, мы находим, что, как это явствует из отчётов, напечатанных в приложении, прибыль и добавочный капитал Английского банка составляли после уплаты всех дивидендов и премий в течение ряда лет следующие суммы (см. табл.).
Если по данным отчётов, на которые я сослался, можно подумать, что я слишком низко оценил расходы Английского банка, то, с другой стороны, можно также указать, что я не принимал во внимание возможную прибыль от вкладов частных лиц. Эти вклады могут быть не очень значительны, так как Английский банк не предоставляет частным лицам такие же льготы, какие дают им другие банкиры. Однако известная прибыль может быть извлечена из этого источника, так же как и из утери и уничтожения банкнот, которые, как это можно предполагать, не включаются спустя некоторое время в сумму, находящуюся в обращении. На покупке серебра и монеты для перечеканки с лажем Английский банк должен в общем иметь выигрыш, так как стоимость монеты с лажем на рынке обычно ниже той, какую она имела в момент выпуска её в обращение. Помимо того Английский банк получает в действительности больше чем 5% за свои деньги, ибо билеты казначейства, принося 3 1/2 пенса в день, дают в год 5 ф. ст. 6 шилл. 5 1/2 пенс. процентов; при учёте же векселей процент немедленно вычитается, употребляется как капитал и сейчас же начинает давать прибыль. Здесь следует отметить, что в течение части того времени, для которого произведены эти расчёты, билеты казначейства приносили в виде процента только 3 1/4 пенса в день, что составляет 4 ф. ст. 18 шилл. 1/4 пенса в год, т. е. несколько меньше 5%. В марте 1801 г., когда между владельцами капитала Английского банка была распределена премия в 5% в пятипроцентных бумагах морского министерства, г-н Тирней сказал в палате общин, что "при расследовании деятельности Английского банка палатой общин в 1797 г. добавочная прибыль рассматривалась кое-кем как обеспечение для выполнения обязательств Английского банка перед государством". Г-н Сэмуэль Торнтон, тогда управляющий банком, ответил на это, что "он может заверить почтенного члена, что гарантия для государства не уменьшится по сравнению с 1797 г. вследствие разделения суммы в 582 120 ф. ст. согласно решению общего собрания 19-го числа текущего месяца, ибо и за вычетом этой суммы добавочная прибыль банка была в настоящее время больше, чем она была в 1797г." <Обращение Эллардайса к владельцам Английского банка. Приложение II>. Рассмотрение отчёта, данного в приложении, покажет, что, уплатив все дивиденды и премии владельцам, Английский банк накопил в апреле 1801 г. сбережений на сумму в 3 945 109 ф. ст., превышающую сбережения 1797 г. на 118 219 ф. ст.; это увеличение не находится в противоречии с декларацией г-на Торнтона и подтверждает, таким образом, правильность основы, на которой произведены эти вычисления. <Отчёты, приведённые в приложении, составлены с января по январь. Премия, о которой идёт речь, была выплачена в апреле 1801 г. Чистая прибыль Английского банка за весь 1801 г. составляла 1 526 019 ф. ст., следовательно:
Рассматривая приведённые в приложениях отчёты за следующие годы, мы убедимся, что начиная с 1801 г. прибыль Английского банка превышала ежегодный дивиденд, выплаченный владельцами, и что в 1815 г. добавочная прибыль за один только этот год должна была доходить до 1 066 625 ф. ст., так что банк мог бы выплатить в этом году дивиденд не в 10, а в 19%. Оказывается также, что даже при умеренно хорошем ведении дел Английского банка он должен иметь теперь накопленный фонд не меньше чем в 13 млн. ф. ст., который директора банка до сих пор не распределяют между владельцами вопреки совершенно точному языку парламентского акта. Имея такой накопленный фонд, Английский банк мог бы распределять стопроцентные премии, не затрагивая своего постоянного капитала; если же он мог бы и впредь получать такую же прибыль, как теперь, за вычетом только 523 908 ф. ст. ежегодно, то в случае предложения распределить проценты (за вычетом подоходного налога) на добавочный капитал он всё же имел бы в своём распоряжении нераспределённый между владельцами доход в 542 тыс. ф. ст., а это дало бы ему возможность увеличить постоянный дивиденд с 10 до 14 1/2 % в дополнение к премии в 100%. Если бы банк распределил между владельцами только премию в 75%, то он удержал бы за собой добавочный капитал, превышающий капитал 1797 г., и мог бы согласно приведённому выше предположению располагать нераспределённым доходом в 673 тыс. ф. ст.; он мог бы, следовательно, увеличить свой постоянный дивиденд с 10 до 15 1/2% в дополнение к премии в 75 %. Нельзя, однако, ожидать, что в мирное время Английский банк будет располагать такими же возможностями наживать барыши, как во время войны, и владельцы его должны приготовиться к значительному сокращению своего ежегодного дохода. Размеры этого сокращения будут зависеть от нового соглашения, которое должно теперь быть заключено между Английским банком и правительством, от суммы будущих правительственных вкладов и от условий, на которых восстановление платежей звонкой монетой может быть проведено в жизнь. Очевидно, что если план, который я рекомендую в четвёртом отделе настоящей работы, будет принят, то прибыль Английского банка с последней статьи не понизилась бы существенно Предполагая, однако, что сокращение ежегодного дохода банка вследствие падения его прибыли по всем указанным статьям составит не меньше 500 тыс. ф. ст., прибыль банка будет всё же достаточна для уплаты нынешнего постоянного дивиденда в 10% даже и после выдачи владельцам банковского капитала премии в 100%; если мои вычисления правильны, прибыль банка после уплаты владельцам годичного дивиденда в 10% составила бы за год, оканчивающийся
Если бы вместо премии в 100% владельцам была выдана премия только в 50%, то ежегодная добавочная прибыль банка составила бы после уплаты дивиденда в 10% 304 671 ф. ст., т. е. такую же сумму, какую дало бы непрерывное увеличение дивиденда на 2 1/2%; если бы премия совсем не выплачивалась, сбережения же рассматривались бы как часть капитала Английского банка, то годичная добавочная прибыль его составляла бы после уплаты 10% дивиденда 566 625 ф. ст. - сумму, весьма близкую к той, какую дало бы непрерывное увеличение дивиденда на 5 %. Эти расчёты основаны на предположении, что налог на собственность будет продолжать существовать, а он составляет ежегодно для банка расход более чем в 200 тыс. ф. ст. и, следовательно, равен с избытком сумме, дающей дивиденд в 1 3/4%. Но директора Английского банка обязаны, по моему мнению, распределять добавочную прибыль между владельцами при всяких условиях, ибо закон категорически предписывает такое распределение, и сопротивляться этому не было бы мудрой политикой. Достопочтенный г-н Бувери, внесший на последнем собрании Английского банка предложение, чтобы владельцам представлен был отчёт о добавочном капитале, вполне правильно доказывал, что закон относительно распределения прибыли был, вероятно, установлен законодательной властью по следующим мотивам: были приняты во внимание возможности накопления по сложным процентам, а также опасности, которые могут возникнуть для конституции или страны вследствие того, что какая-либо корпорация может сконцентрировать в своих руках миллионные сокровища. Если бы прибыль Английского банка оставалась и впредь на своём теперешнем уровне и к выплачиваемому теперь дивиденду в 10% не было бы сделано никакой прибавки, то накопление добавочной прибыли в течение 40 лет дало бы банку свободный фонд более чем в 120 млн. ф. ст. Поэтому законодательная власть вполне мудро постановила, что "все прибыли, барыши и выгоды, получаемые от времени до времени названной корпорацией благодаря ведению ею государственных дел, должны (за вычетом лишь сумм, идущих на оплату вышеназванного управляющего и расходов по ведению дел компании) передаваться от времени до времени в распоряжение всех, состоящих в данное время членами названной корпорации, согласно установленному проценту и пропорционально части, доле и интересу в общем и главном капитале названной компании Английского банка". Те, кто защищал на последнем общем собрании директоров банка, обвинённых в отступлении от линии поведения, предписанной законом, рекомендовали увеличить капитал банка, полагая, что накопленные сбережения могут быть с выгодой употреблены для этой цели. Говорят, что директора банка высказываются в пользу этого плана. Если бы эта мера была правильной, то сумма, на которую должен быть увеличен капитал, должна была быть определена теперь же; владельцы должны были бы получить отчёты о размерах их накопленного фонда, а мнение их о целесообразности такого использования его должно было быть принято во внимание; следовало бы, наконец, получить санкцию парламента. Однако Английский банк не ждал осуществления ни одного из этих условий; в действительности он в течение ряда лет присоединял ежегодно добавочную прибыль к своему капиталу, не определяя ни суммы, присоединяемой в данное время, ни той, которую предстоит присоединить; он делал это, не представляя владельцам никаких отчётов, не спрашивая их мнения, и не только без санкции парламента, но и вопреки прямому смыслу закона, сюда относящегося. Но если бы Английский банк выполнил все эти условия, то была ли бы эта мера сама по себе целесообразна? И имеют ли основания, приводимые в защиту её, а именно расширение деятельности банка и то, что она направлена к обеспечению одинаково и банка и государства, достаточный вес, чтобы оправдать принятие этой меры? Операции и доход банка зависят, как уже было указано прежде, от размера совокупного фонда, который банк может пустить в дело, а этот фонд получается из трёх источников: суммы банкнот в обращении за вычетом только наличности и слитков, суммы правительственных и частных вкладов и размера той части капитала банка, которая не отдана в ссуду правительству. Однако только два первых фонда дают банку действительную прибыль, так как прибыль, получаемая на добавочный капитал и равняющаяся всего 5%, могла бы быть получена так же легко каждым владельцем на свою долю этого капитала как при самостоятельном распоряжении ею, так и при объединении всех долей в единый фонд. Если бы владельцы присоединили к капиталу банка 10 млн. ф. ст. из своей индивидуальной собственности, то доход банка возрос бы, правда, на 500 тыс. ф. ст., или на 5% с 10 млн. ф. ст., но владельцы ничего не выиграли бы от такой комбинации. Однако если бы 10 млн. ф. ст. были присоединены к сумме банкнот и могли бы постоянно оставаться в обращении или если бы правительственные и частные вклады возросли на 10 млн. ф, ст., то не только доход банка возрос бы на 500 тыс. ф. ст., но также и его действительная прибыль; эта последняя выгода получилась бы целиком от того, что банк действует как объединённая компания, и иным способом не могла бы быть получена. Именно в этом заключается существенная разница между банком и всеми другими предприятиями: банк никогда не был бы учреждён, если бы он получал прибыль только от использования собственного капитала; действительная польза от банка получается лишь тогда, когда он пускает в ход чужой капитал. Другие предприятия нередко получают, наоборот, огромную прибыль, затрачивая только свой собственный капитал. Но если этот аргумент правилен по отношению к добавочному капиталу, который должен быть собран путём взимания новых сумм с владельцев, то он также верен по отношению к капиталу, не распределённому между ними. Итак, для увеличения прибыли владельцев банка увеличение его капитала не является ни необходимым, ни желательным. Такое увеличение нисколько не упрочит и безопасности банка, так как от него ни при каких условиях нельзя требовать больше чем оплаты его банкнот и правительственных и частных вкладов, поскольку именно эти статьи составляли всегда всю совокупность его долгов. Когда его наличность и слитки уже выданы, остающиеся у него обязательства, состоящие из коммерческих акцептов и билетов казначейства, должны быть по меньшей мере равны сумме его долгов. Эти обязательства не могут быть ни при каких условиях недостаточными, даже без какого-либо добавочного капитала, за исключением лишь случая, когда банк потерял бы всё, что составляет его возрастающий дивиденд; но и в этом случае он не мог бы попасть в бедственное положение, если бы, конечно, с него не потребовали в это же время оплаты каждой банкноты, находящейся в обращении, и выдачи всех имеющихся у него вкладов, как правительственных, так и частных. Не против такого ли непредвиденного случая владельцев призывают принять меры? И поступают так, несмотря даже на тот факт, что при этих почти невозможных условиях банк имел бы неприкосновенный фонд в 11 686 тыс. ф. ст., который ему должно правительство? Увеличились ли бы гарантии для государства? В одном отношении да. Если бы банк не имел другого капитала, кроме того, который он ссудил правительству, он должен был бы потерять в своих операциях весь этот капитал, или больше чем 11 1/2 млн. ф. ст., раньше чем государство могло бы пострадать; но если бы капитал банка удвоился, он мог бы потерять 23 млн. ф. ст., прежде чем кто-либо из его кредиторов пострадал бы. Может быть, сторонники увеличения капитала банка утверждают, что они желают охранить государство от последствий потери всего капитала банка? Остаётся рассмотреть, увеличилась ли бы способность банка платить по своим банкнотам звонкой монетой вследствие увеличения его капитала. Способность банка платить по своим банкнотам звонкой монетой должна зависеть от отношения между количеством имеющейся в его распоряжении звонкой монеты и вероятным спросом на неё для уплаты по банкнотам; и в этом отношении его платёжеспособность не может быть увеличена, так как он может и теперь, если ему угодно, иметь запас звонкой монеты, не только равный сумме всех его банкнот, находящихся в обращении, но и всей совокупности правительственных и частных вкладов, большего от него нельзя требовать ни при каких обстоятельствах. Но прибыль банка зависит по существу от незначительности запасов наличности и слитков; всё искусство банковского дела состоит в умении поддерживать наивозможно более обширное обращение с помощью наименьшей возможной суммы фондов, сохраняемой в форме не приносящих прибыли наличности и слитков. Количество банкнот в обращении ни в малейшей степени не зависит от суммы капитала, находящегося во владении эмиссионеров банкнот, но от количества денег, требующегося для обращения страны, а оно, как я пытался прежде показать, регулируется стоимостью денежного стандарта, суммой платежей и экономией, реализуемой при совершении этих платежей. Итак, единственный результат увеличения капитала Английского банка заключался бы в том, что оно дало бы последнему возможность ссужать правительству или купцам те фонды, которые иначе были бы ссужаемы отдельными членами общества. Английский банк производил бы больше операций, он накоплял бы больше коммерческих акцептов и билетов казначейства и увеличил бы даже свой доход, но прибыль владельцев не была бы ни больше, ни меньше, если бы рыночная норма процента на деньги составляла 5% и операции банка производились бы с той же экономией. Владельцы, безусловно, терпели бы убытки, если бы индивидуально они могли использовать свои доли этого капитала в торговле или иным образом с большей прибылью. Но в противоположность парламентскому акту банк не только отказывается произвести распределение своей накопленной прибыли, он столь же решительно отказывается сообщить владельцам размеры этой прибыли; и это несмотря на то, что статуты обязывают его, "чтобы дважды в год созывалось общее собрание и заседало с целью рассмотреть общее состояние и положение корпорации и распределить дивиденды со всей совокупности и отдельных частей дохода и прибыли с основного капитала и фондов этой корпорации и её оборотов между различными собственниками и владельцами соответственно их различным паям и долям". Если бы закон хранил на этот счёт молчание, директора Английского банка были бы, по моему мнению, обязаны указать, какое специфическое зло может явиться следствием гласности, прежде чем отказываться от представления собственникам отчёта о положении дел. Это в действительности единственная гарантия собственников против злоупотребления доверием, оказываемым ими директорам. Ведь не всегда делами банка управляют такие люди, какие являются в настоящее время членами правления и против которых не существует и тени подозрения. Без отчётов, без распределения прибыли и без всякого другого доказательства наличия накопленного фонда, кроме всем известного факта увеличения источников, из которых получается прибыль банка! И всё это длится в течение более чем десятилетнего периода! Какую же гарантию имеют владельцы против проникновения коррупции в управление банком? Щекотливое положение тех, кому доверено управление миллионными оборотами, было бы несовместимо с требованием неограниченного доверия к ним и полной уверенности в них лично без определённых к тому оснований. И всё же единственный ответ, который дали директора на предложение, сделанное на последнем общем собрании, - дать отчёт о прибылях банка, - состоял в том, что они сочли бы принятие такого предложения выражением им недоверия и порицанием их действий. Все присутствующие отрицали такое намерение, и всё-таки, как это ни странно, от директоров нельзя было добиться другого ответа. Опубликование отчётов необходимо не только как гарантия против коррупции в управлении банком, но также и для того, чтобы дать владельцам банковского капитала уверенность, что дела банка ведутся умело. С 1797 г. не было представлено ни одного отчёта о положении банка, и даже в этом году он был сделан лишь по специальному требованию, притом парламенту, а не владельцам капитала банка. Каким же образом могут владельцы знать, действительно ли директора использовали - при тех благоприятных условиях, в которые был поставлен Английский банк, - все предоставленные им возможности для применения с наибольшей выгодой доверенных им фондов? Разве не желательно, чтобы владельцы имели время от времени возможность удостовериться в том, осуществлены ли их справедливые ожидания и ведутся ли их дела умело, а также и честно? Если бы обычай предъявлять владельцам все отчёты всегда осуществлялся на практике, то директора, управлявшие Английским банком в 1793, 1794 и 1795 гг., могли бы, пожалуй, получить порицание за плохое ведение дел: они ведь всё время держали в своих сундуках сумму наличности и слитков, обычно большую, чем 3/4, и редко меньшую всей суммы банкнот, находившихся в обращении. Им, возможно, заявили бы, что такое расточение ресурсов банка свидетельствует о весьма ограниченном знакомстве с принципами, которыми должно регулироваться бумажно-денежное обращение <Я считаю возможным заимствовать данные о наличности и слитках в банке за вышеупомянутые годы из расчётов, на которые я уже ссылался. Я не вижу никакого основания сомневаться в том, что они в общем правильны>. В 1797 и 1801 гг. эти неправильности в поведении руководства банка возбудили внимание независимого владельца Эллардайса. В своём блестящем памфлете о деятельности Английского банка он с большой силой и талантом характеризовал противозаконное поведение банка. Мнение его было поддержано мистером, а ныне сэром Джемсом Мансфильдом, которого автор просил указать, каким путём можно заставить директоров Английского банка представить владельцам отчёт о положении дел. Сэр Джемс Мансфильд высказал следующее мнение: "Я полагаю, что на общих полугодичных собраниях каждый владелец имеет право требовать от директоров и что последние обязаны представлять все отчёты, книги и документы, необходимые для того, чтобы владельцы имели возможность судить о состоянии и положении корпорации и её фондов и определить, какой дивиденд должен быть выплачен. Правильный путь, которому должны следовать лица, обращающиеся ко мне за советом, чтобы добиться представления отчётности, таков: известное число уважаемых владельцев должно сразу же сделать управляющему Английским банком и другим директорам его заявление о том, что на ближайшем общем собрании они потребуют представления всех необходимых книг, отчётов и документов; когда же такое собрание будет созвано, они должны присутствовать на нём и требовать этого представления. Если они этого не добьются, я советую им сделать немедленно или через несколько дней после общего собрания заявление управляющему банком о созыве нового общего собрания; такое заявление должно быть сделано по меньшей море девятью членами, владеющими каждый не меньше 500 ф. ст. капитала банка. Если управляющий Английским банком откажется созвать такое общее собрание, то в таком случае девять членов, обратившихся к нему с требованием созыва последнего, могут сами созвать его в порядке, указанном в хартии банка; будет ли это собрание созвано управляющим банком или девятью членами, я советую им, как только оно будет созвано, обратиться в суд королевской скамьи с просьбой о приказе управляющему и директорам представить этому собранию все необходимые книги, отчёты и документы. Джемс Мансфилъд. Темпль, 9 марта 1801 г." Следуя этому мнению, г-н Эллардайс внёс в ближайшее общее собрание, состоявшееся 19 марта 1801 г., письменное требование о представлении отчётов. Он, несомненно, имел намерение идти дальше тем путём, который ему рекомендовал сэр Джемс Мансфильд, но вскоре после этого он умер, и ни один владелец не требовал больше представления отчётов с того времени до последнего общего собрания в декабре. Достойно замечания, что на общем собрании 19 марта 1801 г., когда было внесено и отвергнуто предложение г-на Эллардайса, весьма неожиданным для владельцев образом была вотирована премия в 5% в пятипроцентных бумагах морского министерства. Первое предложение о представлении отчётов было внесено г-ном Эллардайсом на общем собрании 14 декабря 1797 г., в марте же 1799 г. была выдана премия в 10% в пятипроцентных бумагах 1797 г. Между декабрём 1797 г. и мартом 1801 г. г-н Эллардайс не вносил, насколько я знаю, предложений такого рода на общих собраниях банка. Итак начиная с 1797 г. владельцы находились в полной неизвестности о состоянии дел Английского банка. В продолжение 18 лет директора молча занимались своим доходным промыслом; они возможно считают теперь, что именно такой путь лучше всего соответствует интересам банка, в особенности поскольку предстоят переговоры с правительством, и было бы, пожалуй, лучше, чтобы сумма накопленного банком фонда осталась неизвестной. Но в последнее время общественное внимание было привлечено к деятельности Английского банка, и вопрос о его прибыли широко обсуждается и разбирается. Гласность была бы теперь, вероятно, скорее полезна, чем вредна для банка, так как об его прибылях были опубликованы сильно раздутые слухи, которые могут возбудить экстравагантные ожидания и которые можно лучше всего парировать на основе официальных данных. Кроме того, Английский банк сохраняет свою хартию ещё в течение ближайших 17 лет, и государство не может в течение этого времени лишить его самой прибыльной части его операций. Если бы, разумеется, срок хартии истекал, то правительство могло бы поставить под вопрос целесообразность политики, которая позволяет торговой компании пользоваться всеми выгодами, связанными с делом снабжения большой страны бумажными деньгами. Изучив опыт других государств, правительство настойчиво стремилось бы сохранить эту власть в своих руках; оно, вероятно, полагало бы, что в свободной стране можно найти иной способ получения государством столь значительных выгод помимо той или иной формы контроля со стороны министров. Можно считать, что бумажные деньги дают возможность получать пошлину за чеканку, равную всей их меновой стоимости; но пошлина за чеканку во всех странах принадлежит государству, следовательно, при наличии гарантии их размена, предложенной мною в предыдущей части этой работы, и назначении комиссаров, ответственных только перед парламентом, государство, сделавшись единственным эмиссионером бумажных денег как в столице, так и в провинции, может обеспечить стране чистый доход не меньше чем в 2 млн. ф. ст. Впрочем, Английский банк гарантирован от подобной опасности до 1833 г.; вот почему гласность целесообразна со всех точек зрения. Опыт о системе фундированных государственных займовНаписан для дополнения к шестому изданию Британской Энциклопедии 1820 г. Под этим заглавием мы предполагаем дать сначала очерк возникновения, развития и изменений, которые претерпевал фонд погашения, и высказать попутно некоторые замечания относительно вероятности достижений той цели, для которой он предназначен; далее мы рассмотрим вкратце лучший способ покрытия наших ежегодных расходов как во время войны, так и во время мира; это исследование должно по необходимости включить и политику системы фундированных государственных займов, поскольку фонд погашения издавна рассматривался как главная опора и главный аргумент в её пользу. I. По вопросу о фонде погашения нам придётся нередко ссылаться на положения профессора Гамильтона в его весьма ценном сочинении "Исследование о возникновении, развитии, погашении и современном состоянии национального долга Великобритании". "Первый план ликвидации национального долга, построенный по определённой системе и проводившийся в жизнь со значительной степенью твёрдости, - говорит этот сведущий писатель, - был связан с фондом погашения, учрежденным в 1716 г. Автором этого плана был лорд Стенхоп, но так как он был принят в период, когда во главе министерства стоял сэр Роберт Волпол, то план обыкновенно называется его именем. Налоги, которые прежде вводились на ограниченный период времени, были превращены в постоянные и распределены между фондами Южного океана, сборным и общим, а так как поступления от этих фондов были больше, чем связанные с ними расходы, то получаемые излишки, а также излишки, которые могли получиться впоследствии, были объединены под названием фонда погашения и предназначены для ликвидации национального долга: при этом было категорически запрещено употреблять этот фонд для каких бы то ни было других целей. Установленный законный процент был приблизительно за два года до этого понижен с 6 до 5, а так как это понижение соответствовало <в издании Мак-Куллоха вместо "соответствовало" сказано "неблагоприятствовало". - Прим. ред.> коммерческому положению страны, то правительство могло теперь добиться такого же понижения для процентов по государственному долгу и использовать полученные таким путём сбережения для увеличения фонда погашения. В 1727 г. было осуществлено дальнейшее снижение уровня процента по государственному долгу - с 5 до 4, что позволило прибавить к фонду погашения около 400 тыс. ф. ст., а в 1749 г. уровень процента по одной части долга был снова снижен до 3 1/2 на ближайшие семь лет и до 3 после этого срока. В 1750 г. уровень процента по остальной части долга был снижен также до 3 1/2 на ближайшие пять лет и до 3 после этого срока, благодаря чему к фонду погашения было прибавлено дальнейшее сбережение в 600 тыс. ф. ст." В течение некоторого времени фонд погашения регулярно использовался для погашения долга. Сумма, затраченная с этой целью с 1716 по 1728 г., достигала 6 648 тыс. ф. ст., что почти равнялось добавочному долгу, заключённому за это время. С 1728 по 1733 г. уплачено было ещё 5 млн. ф. ст. Проценты по различным займам, заключённым с 1727 по 1732 г., покрывались из излишков, остававшихся от налогов, которые согласно первоначальному плану должны были причисляться к фонду погашения. "Вскоре после этого принцип неприкосновенности фонда погашения был нарушен. В 1733 г. из этого фонда взяты были 500 тыс. ф. ст. и затрачены на текущие нужды... В 1734 г. 1 200 тыс. ф. ст. снова взяты были из фонда погашения для текущих нужд, а в 1735 г. он был предусмотрительно заложен". Размер фонда погашения составлял при его возникновении в 1717 г. 323 437 ф. ст. В 1776 г. он достиг своего максимума, будучи тогда равным 3 166 517 ф. ст., а в 1780 г. он упал до 2 403 017 ф. ст. "Фонд погашения поднялся бы до более высокой суммы, если бы он не уменьшался от различных изъятий, особенно в течение последнего периода. Он был обременён уплатой процентов по различным займам, для покрытия которых не было предусмотрено никаких источников, а в 1772 г. на этот же фонд была возложена ежегодная уплата 100 тыс. ф. ст., пожалованных на добавления к цивильному листу. В течение трёх войн, которые велись в период существования фонда погашения, весь доход от него затрачивался на военные нужды, и даже в мирное время из него изымались крупные суммы на текущие расходы. Согласно д-ру Прайсу сумма государственного долга, оплаченного из фонда погашения начиная с первого отчуждения, сделанного в 1733 г., составляла 3 млн. ф. ст., выплаченных в 1736 и 1737 гг., 3 млн. ф. ст., выплаченных в мирное время с 1748 по 1756 г., и 2 1/2 млн. ф. ст., выплаченных в мирное время между 1763 и 1775 гг., всего же 8 1/2 млн. ф. ст. Погашение добавочного долга производилось в течение этих мирных периодов не за счёт фонда погашения, а из других источников. В общем и целом фонд этот дал очень мало для ликвидации национального долга в мирное время и ровно ничего во время войны. Намерение использовать его исключительно для этой цели было оставлено, и надежды, возлагавшиеся на мощный эффект, который он мог дать, оказались совершенно обманутыми. В это время нация не имела другого свободного дохода, кроме земельного налога и налога на солод, вотируемых ежегодно, а так как поземельный налог взимался во время мира по низкой норме, то доход от него не был адекватен даже и в самой умеренной степени нуждам мирного положения. Это дало повод к изъятиям из фонда погашения. Если бы земельный налог взимался всегда в размере 4 шилл. с фунта, то в мирное время он в значительной степени помог бы сохранению фонда погашения в неприкосновенности". Существование первого фонда погашения прекратилось в 1786 г., когда был учреждён фонд погашения имени г-на Питта. Для создания этого нового фонда парламент ассигновал 1 млн. ф. ст. в год. Капитальная сумма национального долга равнялась тогда 238 231 248 ф. ст. Этот миллионный фонд было разрешено увеличивать по сложным процентам путём прибавки к нему дивидендов с фондов, приобретаемых на него, до тех пор, пока он не достигнет 4 млн. ф. ст., с этого же времени он не должен был больше возрастать. Начиная с этого времени 4 млн. ф. ст. должны были, как и прежде, ежегодно помещаться в государственные фонды, но дивиденды, получаемые с этой суммы, не должны были больше прибавляться к фонду погашения с целью дальнейшего помещения их в государственные фонды; они должны были быть обращены на уменьшение налогов или на какую-либо другую цель, указанную парламентом. Дальнейшее увеличение этого фонда было предложено г-ном Питтом и с готовностью принято в 1792 г. Оно состояло из субсидии в 400 тыс. ф. ст., получавшейся из остатков от государственных доходов, и из дальнейшей ежегодной субсидии в 200 тыс. ф. ст. Было, однако, категорически решено, что, поскольку дело касалось этого фонда, государство не должно производить никакого уменьшения налогового обложения до тех пор, пока первоначальный 1 млн. ф. ст. не дойдёт вместе со своими накоплениями до суммы в 4 млн. Увеличение фонда за счёт единовременной субсидии в 400 тыс. ф. ст. и ежегодной в 200 тыс., а также проценты на фонды, приобретённые за счёт этих сумм, не должны были приниматься или рассматриваться как составные части этих 4 млн. ф. ст. Тогда же (в 1792 г.) был учреждён фонд погашения нового рода. Было постановлено, что, кроме отчислений на проценты по каждому займу, заключённому после этого года, должен быть также установлен налог для создания фонда погашения в 1 % с капитальной суммы займа. Этот фонд должен был употребляться исключительно на ликвидацию именно данного займа. Налоги, из которых составлялся однопроцентный фонд погашения, не могли быть использованы для нужд государства до тех пор, пока на них не будет куплена сумма фондов, равная той сумме, на которую был заключён заём. Лишь после того как это было бы достигнуто, как проценты, так и фонд погашения могли употребляться на нужды государства. Было вычислено, что при самых неблагоприятных обстоятельствах каждый заём был бы погашен в течение 45 лет со времени его заключения. Если бы заём был заключён из 3% и курс его держался бы постоянно на 60, то погашение было бы осуществлено в 29 лет. В 1798, 1799 и 1800 гг. от этого плана г-на Питта, предусматривавшего отчисления в фонд погашения 1% с капитальной суммы каждого заключённого займа, было сделано отступление - в эти годы для новых займов не создавался специальный фонд погашения. Проценты по займам платились из военных налогов, и вместо однопроцентного фонда погашения было предусмотрено, что военные налоги будут взиматься и после заключения мира и использоваться для погашения займов до тех пор, пока последние не будут ликвидированы полностью. В 1802 г. канцлером казначейства был лорд Сидмаутс, тогда ещё г-н Аддингтон. Желая освободить военные налоги от тех уплат, которые были на них возложены, он предложил взимать новые постоянные ежегодные налоги для покрытия процентов по займам, о которых мы только что говорили, а также и по тому займу, который он вынужден был заключить в 1802 г. для покрытия текущих нужд. Но он хотел избежать отягощения страны добавочными налогами для создания однопроцентного фонда погашения с капитальной суммы этих займов, которая составляла тогда всего 86 796 375 ф. ст. Чтобы примирить держателей государственных займов с этой мерой, он предложил отменить постановление, ограничивавшее фонд 1786 г. 4 млн. ф. ст., и консолидировать старый и новый фонды погашения, т. е. тот, который образовался из первоначального 1 млн. ф. ст. в год с прибавкой, сделанной к нему позднее путём предоставления ежегодной субсидии в 200 тыс. ф. ст., и тот, который образовался из 1% с капитальной суммы каждого займа, заключённого начиная с 1792 г. Эти соединённые фонды должны были употребляться с этого времени согласно его предложению на погашение всей совокупности долгов без различия их. Дивиденды, получаемые с фондов, приобретённых комиссарами казначейства в видах уменьшения национального долга, должны были использоваться для той же цели. Этот план не должен был подвергаться изменению до тех пор, пока не будет закончена ликвидация всего долга. В феврале 1803 г. национальный долг составлял уже сумму в 480 572 470 ф. ст., а весь соединённый фонд погашения - 6 311 626 ф. ст. В 1786 г. отношение фонда погашения к долгу равнялось 1 : 238, в 1792 г.- 1 : 160, а в 1803 г.- 1 : 77. Это было первое существенное отступление от плана г-на Питта и это изменение, сделанное лордом Сидмаутсом, не было, пожалуй, в общем невыгодным для держателей государственных займов. Они, правда, теряли непосредственную выгоду от наличия добавочного фонда погашения в 867 963 ф. ст. - сумму в 1% с капитальной суммы займов, заключённых в 1798, 1799, 1800 и 1802 гг., но "вместо этого фонда погашения, - говорит г-н Гэскиссон, - был создан фонд погашения с обратным действием, который должен был, правда, начать функционировать лет через 12-15, но с момента, когда он начнёт действовать, он должен был давать такой эффект и благодаря последующим прибавкам накопляться таким ускоренным темпом, что при самых неблагоприятных условиях весь национальный долг мог быть наверное ликвидирован в течение 45 лет. Этот фонд погашения с обратным действием должен был образоваться следующим образом: старый фонд погашения, накопляющийся по сложным процентам, должен был быть сохранён и после того, как он достигнет максимума в 4 млн. ф. ст.; должен был также быть сохранён и новый фонд погашения, или общая сумма однопроцентных взносов по займам, заключённым с 1792 г., оставшаяся после погашения с помощью этих взносов различных займов, в связи с которыми они были первоначально введены. Таким образом, в законе 1802 г. нет ничего, что являлось бы уклонением от духа закона 1792 г." <Речь о положении финансов и фонде погашения, произнесённая г-ном Гэскиссоном 25 марта 1813 г.> Следующее изменение, предложенное по отношению к фонду погашения, было сделано в 1807 г. лордом Генри Петти, тогда канцлером казначейства. Его план был крайне сложен, и целью его являлся именно тот шаг, на который так охотно соглашаются всегда все министры: он хотел облегчить тягость налогов в настоящее время, переложив её на будущее. Лорд Генри Петти вычислил, что расходы страны во время войны превосходят её постоянный ежегодный доход на 32 млн. ф. ст. 21 млн. ф. ст. из этого дефицита были покрыты за счёт военных налогов - налога на собственность в размере 11 500 тыс. ф. ст. и других военных налогов в размере 9 500 тыс. ф. ст. Задача заключалась, следовательно, в том, чтобы раздобыть ещё 11 млн. ф. ст. в год. Если бы эта сумма была получена посредством займа из 3% при курсе в 60, то уплату процентов и взносы в фонд погашения надо было бы обеспечить путём налогов; для этого каждый год потребовались бы добавочные налоги на сумму в 733 333 ф. ст. Но правительство желало получить деньги, не прибегая к этим добавочным налогам или устанавливая их в наименьшем размере, какой только позволяли обстоятельства. С этой целью оно предложило взимать требуемые деньги обычным путём - путём займа, но отчислять из военных налогов сумму, необходимую для уплаты процентов и погашения заключённого займа. Оно предложило увеличить фонд погашения каждого такого займа путём вычета из военных налогов 10% всей его суммы для уплаты процентов и взносов в фонд погашения; таким образом, если бы проценты и расходы по управлению этим займом поглощали только 5% , то фонд погашения составил бы также 5% , а если бы проценты поглощали только 4%, то фонд погашения составил бы 6%. Суммы займов, которые предполагалось заключить этим способом, равнялись бы 12 млн. ф. ст. в первые три года, 14 млн. в течение четвёртого и 16 млн. в каждый последующий год. Всё это вместе составило бы за 14 лет сумму в 210 млн. ф. ст., гарантией для которой явились бы при отчислениях в 10% все военные налоги. Было вычислено, что при помощи фонда погашения каждый заём был бы ликвидирован в течение 14 лет со времени его заключения и что, следовательно, 1 200 тыс. ф. ст., отложенные на проценты и на взносы в фонд погашения по первому займу, были бы высвобождены и могли бы быть использованы для нового займа 15-го года. В конце 15 лет была бы высвобождена такая же сумма, и это повторялось бы каждый последующий год; таким образом, при такой системе можно было бы продолжать заключать займы до бесконечности. Но эти последовательно поступающие суммы нельзя было бы извлекать из военных налогов для уплаты процентов и взносов в фонд погашения по займам и затрачивать в тоже время на текущие расходы, поэтому дефицит в 11 млн. ф. ст., для которого нужно было делать отчисления, возрастал бы из года в год по мере того, как поглощались бы военные налоги; в конце же 14 лет, когда вся сумма военных налогов - 21 млн. ф. ст.- была бы поглощена, дефицит возрос бы с 11 до 32 млн. ф. ст. Чтобы покрыть этот растущий дефицит, было предложено заключить добавочные займы, сумма которых возрастала бы из года в год, причём отчисление на проценты и в фонд погашения по этим займам производилось бы обычным путём, т. е. при помощи ежегодных постоянных налогов; фонд погашения для этих займов не должен был превышать 1 %. Согласно предложенному плану через 15 лет с момента начала его осуществления и при предположении, что война продолжалась бы так долго, основной заём составлял бы 12 млн. ф. ст., а дополнительный - 20 млн. Если бы военные расходы превысили составленную тогда смету, этот излишек должен был быть покрыт из других средств. Так как министерство, предложившее этот план, недолго оставалось у власти, то он действовал всего только один год. "При сравнении достоинств различных систем, - говорит д-р Гамильтон, - приходится принимать во внимание лишь следующие моменты: сумму, на которую заключены займы, ту часть последних, которая уже погашена, проценты, платимые по ним, и суммы, взимаемые путём налогов. Различные способы заключения этих займов и образование особых фондов для уплаты процентов по ним являются делом официального регулирования, и положение государственных финансов не становится ни хуже, ни лучше от того, совершается ли это регулирование тем или иным способом. Сложная система может запутать дело и привести к ошибкам, но она никогда не может улучшить финансовое положение". В соответствии с этим утверждением д-р Гамильтон показал, что вся сумма налогов, которая была бы выплачена в течение 20 лет для ликвидации ежегодного займа в 11 млн. ф. ст., сообразно старому плану однопроцентного фонда погашения составила бы 154 млн. ф. ст. По плану же лорда Генри Петти, эти налоги составили бы в течение того же времени 93 млн., а это даёт разницу в 51 млн. в пользу плана лорда Петти; но, чтобы добиться такого уменьшения, мы обременили бы себя дополнительным долгом в 119 489 788 ф. ст. денежного капитала, который равнялся бы при 3% и при курсе в 60 номинальному капиталу в 199 149 646 ф. ст. Фонд погашения был введён с целью уменьшения национального долга в мирное время и предупреждения быстрого роста его в продолжение войны. Единственная мудрая и благая цель военных налогов заключается, следовательно, в том, чтобы предупредить накопление долга. Фонд погашения и военные налоги полезны только в том случае, если они употребляются единственно лишь для той цели, для которой они взимаются; они превращаются в орудие злоупотребления и обмана, если ими пользуются для уплаты процентов по новым займам. В 1809 г. г-н Персиваль, бывший тогда канцлером казначейства, отчислил 1 040 тыс. ф. ст. из общей суммы военных налогов для покрытия процентов и фонда погашения по займу, заключённому им в этом голу. Взяв свыше 1 млн. ф. ст. из военных налогов не для ежегодных расходов, а для покрытия процентов по займу, г-н Персиваль вызвал тем самым необходимость прибавить 1 млн. ф. ст. к займу ближайшего года и всех последующих лет: таким образом, по своим действительным последствиям эта мера нисколько не отличалась бы от постановления ежегодно брать такую же сумму из фонда погашения. В 1813 г. произведено было ещё одно и наиболее важное изменение в фонде погашения. Канцлером казначейства был тогда г-н Ванситтарт. Мы уже заметили, что в 1786 г., когда Питт учредил свой фонд погашения в 1 млн. ф. ст., национальный долг доходил до 238 231 248 ф. ст. Как только сумма в 1 млн. ф. ст. достигла бы благодаря дивидендам с государственных бумаг, купленных на эту сумму, 4 млн., дальнейшее накопление должно было прекратиться в силу закона 1786 г., дивиденды же с приобретенных фондов должны были обращаться на государственные нужды. Если бы к моменту увеличения этого миллиона путём накопления до 4 млн. ф. ст. трёхпроцентные фонды котировались по 60, государство располагало бы ежегодно фондом в 20 тыс. ф. ст., при курсе в 80 - фондом в 15 тыс. ф. ст., и государство не могло бы получить финансового облегчения до тех пор, пока 4 млн. ф. ст. не помогли бы выкупить всю сумму в 238 млн. ф. ст. - тогдашний размер государственного долга. В 1792 г. г-н Питт прибавил к фонду погашения 200 тыс. ф. ст. в год и высказал при этом следующие соображения: "Когда сумма в 4 млн. ф. ст. была первоначально фиксирована как лимит для фонда погашения, то из прибавочного дохода не предполагалось извлекать более 1 млн. ф. ст. в год; следовательно, фонд погашения не достиг бы 4 млн. ф. ст. до тех пор, пока не была бы выплачена такая часть долга, проценты по которой вместе с ежегодными аннуитетами, срок которых мог бы истечь в этот промежуток времени, не возросли бы до 3 млн. ф. ст. Но так как согласно существующему плану дополнительные суммы сверх первоначального миллиона должны быть ежегодно извлекаемы из дохода и обращаться на увеличение фонда погашения, то в результате, при дальнейшем ограничении 4 млн. ф. ст. этого фонда вместе с прибавлениями к нему, он достиг бы этой цифры, и накопление прекратилось бы раньше, чем была бы погашена та доля долга, какая первоначально предполагалась... С целью избежать такого результата, который означал бы на деле ослабление нашей системы, я предложил бы не прекращать накопления фонда погашения независимо от размеров дополнительных сумм, обращаемых ежегодно на уменьшение долга, до тех пор, пока проценты по погашенной сумме долга и сумма годичных аннуитетов, срок которых истёк, не составили бы вместе с 1 млн. ф. ст. в год и за вычетом всяких дополнительных сумм суммы в 4 млн." <Речь г-на Питта" произнесённая 17 февраля 1792 г.>. Следует вспомнить, что в 1792 г. было принято постановление, в силу которого однопроцентный фонд погашения создавался для каждого отдельного займа и должен был употребляться исключительно на погашение долга по этому займу; ни одна часть этого однопроцентного фонда не должна была быть использована для уменьшения первоначального долга в 238 млн. ф. ст. Закон 1802 г. консолидировал все эти фонды погашения, и государство не было освобождено от уплаты ни самого фонда погашения, ни дивидендов с бумаг, купленных на него комиссарами казначейства, до тех пор, пока весь долг, существовавший в 1802 г., не был бы выплачен сполна. Г-н Ванситтарт предложил отменить закон 1802 г. и восстановить смысл питтовского закона 1792 г. Он полагал, что несоблюдение этого закона, закона 1792 г., в полном его значении было бы нарушением слова, данного национальным кредиторам. Но отказаться от условий закона 1802 г. не было бы, по мнению г-на Ванситтарта, нарушением слова. Даже и при предположении, что закон 1802 г. был действительно более благоприятен для держателя государственных фондов, чем закон 1792 г., нелегко всё же понять, какими аргументами можно доказать, что отмена одного и оставление в силе другого не были бы нарушением слова. Разве все займы, сделанные между 1802 и 1813 гг., не были заключены на основе этого закона? Разве все сделки между покупателями и продавцами государственных бумаг не исходили из той же основы? Правительство имело не больше права отменить закон 1802 г. и поставить на его место другой, менее благоприятный, по признанию самого министра, для держателя государственных бумаг, чем отказаться совершенно от фонда погашения. Но вопрос, который нас занимает теперь, заключается в том, поступил ли г-н Ванситтарт так, как он сам предполагал? Восстановил ли он для держателя государственных бумаг все выгоды закона 1792 г.? Новый закон провозглашал прежде всего, что, поскольку из фонда погашения, консолидированного в 1802 г., было уплачено 238 350 143 ф. ст. 18 шилл. 1 пенс., т. е. на 118 895 ф. ст. 12 шилл. 10 1/2 пенс. больше, чем долг1786 г., то оказалась покрытой и погашенной капитальная сумма, равная всему капиталу государственного долга на 5 января 1786 г., т. е. 238 231 248 ф. ст. 5 шилл. 2 3/4 пенса; "подобным же образом вся сумма государственного долга, равная капиталу и расходам по всем займам, заключённым с 5 января 1786 г., будет последовательно и в соответствующем порядке считаться и объявляться вполне покрытой и погашенной, когда и как скоро дальнейшая сумма капитала в государственных бумагах, не меньшая, чем капитал соответствующего займа, и приносящая проценты, равные дивидендам, приходящимся на него, будет, таким образом, погашаема или переводима". Было также решено, что "после такого объявления, как предыдущее, бумаги, закупленные комиссарами в целях уменьшения национального долга, должны периодически уничтожаться; это будет производиться в такие сроки и в таких размерах, какие будут установлены актом парламента, который будет принят с этой целью, с тем чтобы составить запасную сумму для уплаты по всякому займу или займам, которые были бы заключены впоследствии". Кроме того, в целях осуществления предписаний законов, изданных в 32 и 42-м годах царствования Георга III (1792 и 1802 гг.), о погашении каждой доли национального долга в течение 45-летнего периода со времени заключения его было принято следующее постановление: в будущем, когда размер суммы, которая должна быть получена путём займа или с помощью какого-либо иного увеличения государственного консолидированного долга, будет превосходить в каком-либо году сумму, ассигнованную в том же году для уменьшения государственного долга, является целесообразным удерживать ежегодно из денег, составляющих консолидированный фонд Великобритании, сумму, равную половине процентов с излишка означенного займа или иного излишка сверх суммы, назначенной для этого по смете; удержанная сумма должна передаваться за подписью канцлера казначейства в распоряжение управляющего и компании Английского банка для того, чтобы последние помещали её на счёт комиссаров с целью уменьшения национального долга <действие этого предписания сводилось к тому, что фонд погашения превращался из однопроцентного в полуторапроцентный с этого излишка займа сверх фонда погашения, если заём заключался в трёхпроцентных бумагах, и в 2 1/2-процентный, если заём заключался в пятипроцентных бумагах>; из остатков же такого займа или другой прибавки должна ежегодно откладываться сумма в 1 % с капитальной суммы этого займа согласно предписанию вышеназванного закона. Было также впервые произведено отчисление на однопроцентный фонд погашения неконсолидированного долга, тогда существовавшего или могущего быть заключённым впоследствии. В 1802 г., как уже было замечено, было сочтено целесообразным не делать отчисления на однопроцентный фонд погашения капитальной суммы долга в 86 796 300 ф. ст.; поскольку же человек, предложивший эту меру в 1813 г., считал, что он возвращается к принципу, лежащему в основе закона, проведённого г-ном Питтом в 1792 г., он позаботился, чтобы к фонду погашения в 1 % с созданной вновь капитальной суммы долга было прибавлено 867 963 ф. ст., что не было предусмотрено в 1802 г.
3 февраля 1819 г. комиссары казначейства удостоверили, что на их счёт было переведено 378 519 969 ф. ст. 5 шилл. 3 3/4 пенса в бумагах, процент по которым равнялся 11 448 564 ф. ст. 10 шилл. 6 1/4 пенса, и что долг, заключённый до и в силу закона 37-го года царствования Георга III (1797 г.), достигал 348 684 197 ф. ст. 1 шилл. 5 3/4 пенса, а проценты с него - 11 446 736 ф. ст. 3 шилл. 4 3/4 пенса в год; следовательно, погашенный излишек составлял 29 835 772 ф. ст. 3 шилл. 9 1/4 пенса, а проценты с него - 1 828 ф. ст. 7 шилл. 1 1/4 пенса в год.> Такова была сущность нового плана г-на Ванситтарта, не являвшегося согласно его утверждению убыточным для держателя государственных займов, поскольку он строго соответствовал духу закона, проведённого г-ном Питтом в 1792 г. Во-первых, в силу закона г-на Питта нация не могла получить облегчения от налогового бремени до тех пор, пока капитальная сумма долга, уплаченная благодаря первоначальному фонду погашения в 1 млн. ф. ст., не достигла бы такого размера, при котором дивиденд на выкупленные бумаги составлял бы 3 млн. ф. ст.; это довело бы весь фонд погашения до 4 млн. ф. ст. Начиная с этого времени 4 млн. ф. ст. служили бы, как и прежде, для ликвидации долга, но проценты на выкупленный таким образом долг оставались бы свободными для покрытия нужд государства; нация не получала бы облегчения от расходов по остатку долга в 238 млн. ф. ст. до тех пор, пока капитальный долг в 238 млн. ф. ст. не был бы погашен с помощью 4 млн. ф. ст., приносящих простые проценты, нового фонда погашения, который мог бы образоваться благодаря истечению сроков аннуитетов, а также добавочной суммы в 200 тыс. ф. ст. в год, вотированной в 1792 г., и накоплениям по этой сумме. Согласно закону 1792 г. фонд погашения, получаемый от отчислений в 1% с каждого займа, должен был предназначаться для уплаты каждого отдельного займа, для которого он был образован. Г-н Ванситтарт считал, что имеет право, не нарушая при этом слова, данного держателям государственных займов, брать для покрытия нужд государства не проценты с 4 млн. ф. ст. - всё, что позволил бы ему взять билль г-на Питта, - а проценты с 238 млн. ф. ст. А в силу чего? Лишь потому, что на весь консолидированный фонд погашения, включая 1% на каждый заём, заключённый после 1793 г., было куплено на 238 млн. ф. ст. государственных бумаг. Согласно плану г-на Питта г-н Ванситтарт мог бы взять из фонда погашения 20 тыс. ф. ст. в год, согласно его собственному толкованию этого закона он брал из него более 7 млн. ф. ст. в год. Во-вторых, г-н Ванситтарт признал, что в 1802 г. держатель государственных займов был лишён выгод от существования однопроцентного фонда погашения на капитал в 86 796 300 ф. ст., а поэтому, чтобы соблюсти справедливость, он даёт в 1813 г. 1% на этот капитал. Но разве не должен он был присоединить к нему также накопления, которые можно было получить в течение 11 лет - с 1802 до 1813 г.- на 867 963 ф. ст. по сложным процентам и которые могли увеличить фонд погашения на сумму, превышающую 360 тыс. ф. ст. в год? В-третьих, согласно плану г-на Питта каждый заём должен был быть выплачен благодаря соответствующему фонду погашения при самых неблагоприятных условиях в 45 лет. Если бы заём был заключён в трёхпроцентных бумагах по курсу в 60 и такой курс сохранялся бы непрерывно, то однопроцентный фонд погашения ликвидировал бы долг, для которого он был создан, в 29 лет. Но в этом случае нация не получила бы никакого облегчения от налогового бремени до истечения 29 лет; а если бы в течение периода уплаты первого долга ежегодно заключались займы в 10 млн. ф. ст., то второй из них потребовал бы только одного года для окончательной своей ликвидации, третий - двух лет и т. д. Согласно же плану г-на Ванситтарта фонд погашения займов должен был употребляться при тех же условиях прежде всего на погашение первого займа, а когда этот заём был бы погашен и уничтожен, весь фонд целиком должен опять-таки идти на уплату второго займа и т. д. Первый заём в 10 млн. ф. ст. был бы аннулирован меньше чем в 13 лет, второй - меньше чем в 6 лет после первого, третий - в ещё более короткий срок и т. д. В конце 13-го года государство было бы избавлено от уплаты процентов по первому займу, или, что то же самое, от необходимости изыскивать новые налоги для нового займа в конце 13 лет и для двух новых займов в конце 19 лет. Но в каком состоянии был бы государственный долг в каждый из этих периодов или же по истечении 29 лет? Можно ли было получить такие преимущества без соответствующих потерь? Нет, увеличение долга равнялось бы согласно плану г-на Ванситтарта в точности всем этим суммам, высвобожденным таким образом преждевременно путём аннулирования государственных бумаг и накоплений на них по сложным процентам. Как могло бы это быть иначе? Возможно ли было получить немедленное облегчение от тягости долга без прямого или косвенного займа, заключённого по сложным процентам для обеспечения этого облегчения? "Таким путём, - говорит г-н Ванситтарт, - первый заключённый заём был бы погашен в более ранний период, и суммы, назначенные на уплату процентов по этому займу, могли бы быть использованы для нужд государства. Так, в случае продолжительной войны значительные ресурсы могут образоваться в ходе самой войны, ибо каждый последующий заём будет содействовать ускорению погашения прежде заключённых, общая же сумма расходов, которую пришлось бы нести государству в связи с государственным долгом, была бы сведена к более ограниченным размерам, чем при другом способе, при котором одновременно существовало бы большее количество займов. В то же самое время окончательное погашение всего долга было бы скорее ускорено, чем замедлено... Теперь необходимо только объявить, что сумма государственных обязательств, равная всему долгу, существовавшему в 1786 г., была погашена; таким же образом при произведённом в надлежащем порядке и последовательности погашении долга, равного капитальной сумме любого займа, сделанного начиная с 1792 г., и расходам по этому займу, последний должен рассматриваться и считаться погашенным и покрытым. Каждая часть системы в целом сразу найдёт тогда своё надлежащее место, и мы приступим к дальнейшему погашению, получая все выгоды, какие явились бы результатом принятия с самого начала способа последовательного погашения вместо одновременного. Вместо того чтобы ждать завершения выкупа всего долга, консолидированного в 1802 г., часть его, существовавшая до 1792 г., будет рассматриваться как уже выкупленная, последующие же займы будут выкупаться один за другим по мере того, как будут приобретаться равные им доли государственных бумаг. Мы можем отметить с удовлетворением, что таким постепенным и равномерным движением вперёд мы будем в состоянии осуществить полную ликвидацию долга гораздо скорее, чем при настоящем ходе дел". Возможно ли, чтобы г-н Ванситтарт настолько обманывал сам себя, чтобы думать, что, изымая из фонда погашения 5 млн. ф. ст., изъятие которых не было предусмотрено законом 1802 г. и которые не были бы изъяты на основании закона 1792 г., и изымая затем последовательно другие суммы в более короткие сроки, чем это допускалось предписаниями двух законов, он имел бы возможность закончить выплату долга более быстрым темпом? Возможно ли, чтобы он мог думать, что, уменьшая фонд погашения, т. е. сумму дохода по сравнению с расходами, он быстрее осуществил бы уплату нашего долга? Невозможно поверить этому. Но как следует в таком случае понимать его слова? Он мог рассуждать только следующим образом. Я знаю, сказал бы он, что при моём плане размеры нашего долга будут спустя 10, 20 и 30 лет большими, чем при плане лорда Сидмаутса или плане г-на Питта; но мы могли бы в течение этого времени произвести более значительную уплату по существующему ныне долгу, так как фонды погашения, предназначенные для будущих займов, были бы употреблены на уплату нашего нынешнего долга. Согласно плану г-на Питта эти фонды погашения употреблялись бы для уплаты вновь заключаемых займов, т. е. тех займов, для которых они были соответственно образованы. Мы имели бы больше долгов в каждый последующий период - это верно, но так как наш долг может быть разделён на старый и новый, то я прав, говоря, что мы имели бы возможность закончить выплату нашего долга, имея в виду только ныне существующий долг, скорее, чем при теперешнем курсе. Против плана г-на Ванситтарта возражали с большим знанием дела г-н Гэскиссон и г-н Тирней. Первый из них сказал: "В основе предположения, что старый долг оплачен, лежит то обстоятельство, что мы заключили новый заём на гораздо большую сумму; но даже если это предположение правильно, г-н Ванситтарт не мог всё же построить на нём свою настоящую схему, если бы кредит нашей страны не пострадал основательно в течение последних 20 лет под давлением нового долга. Если бы, с одной стороны, фонд погашения функционировал в это время из 3%, г-н Ванситтарт не тронул бы его даже на основании его собственного понимания закона 1792 г. Но, с другой стороны, если бы курс государственных бумаг был ещё ниже, чем прежде, г-н Ванситтарт взял бы из фонда погашения ещё большие суммы, чем он мог это сделать согласно своему собственному плану. Новая теория фонда погашения заключается, следовательно, в следующем: этот фонд был первоначально учреждён "для предупреждения обременительного и опасного накопления государственного долга" (говоря словами закона), а также для поддержания и укрепления государственного кредита. Но накопление нового долга послужило для г-на Ванситтарта средством и предлогом для заимствований из фонда погашения. Мерой же таких заимствований была для него степень падения государственного кредита. Такова, следовательно, система, о которой серьёзно говорят, что она не отклоняется от буквы и не нарушает духа закона 1792 г., и о которой нас серьёзно хотят заставить думать, как о системе, являющейся лишь дальнейшим развитием и усовершенствованием первоначального плана г-на Питта, а между тем основная и ясная цель последнего заключалась в том, чтобы каждый будущий заём нёс в себе с самого момента его создания семена своего уничтожения и чтобы процесс его уплаты не зависел с этого момента от взглядов и от контроля парламента" <Речь г-на Гэскиссона, произнесённая 25 марта 1813 г.>. Это было последним изменением, произведённым в механизме фонда погашения. На самый фонд производились уже более роковые по своим последствиям наскоки, но они совершались молчаливо и косвенным путём, организация же фонда оставалась не изменённой. Д-р Гамильтон доказал, что на уменьшение долга может оказать действие только фонд, получающийся от превышения доходов над расходами. Предположим, что расходы какой-нибудь страны, находящейся в состоянии мира, составляют, включая проценты по её долгу, 40 млн. ф. ст., а доходы - 41 млн. ф. ст., тогда фонд погашения будет равен 1 млн. ф. ст. Этот миллион будет накопляться по сложным процентам, так как на него будут покупать на рынке государственные бумаги и передавать их на имя комиссаров казначейства для уплаты долга. Эти комиссары будут иметь право получать дивиденды, которые прежде выплачивались частным держателям государственных займов, а теперь будут присоединены к капиталу фонда погашения. Увеличенный таким образом фонд погашения дал бы возможность произвести в следующем году дополнительные закупки, в результате чего к нему прибавилась бы более значительная сумма дивидендов, и он увеличивался бы путём накопления, пока не был бы ликвидирован весь долг. Предположим, что такая страна увеличила свои расходы на 1 млн. ф. ст., не повышая налогов и сохраняя в то же время свой фонд погашения. Очевидно, что ей не удастся уменьшить свой долг; она, правда, будет накоплять фонд погашения, находящийся, как и прежде, в руках комиссаров, по, увеличивая в то же время свой консолидированный или неконсолидированный долг и заключая постоянно займы для получения сумм, необходимых для уплаты процентов по этим займам, она будет накоплять ежегодно долг в 1 млн. ф. ст. по сложным процентам так же, как накопляла ежегодно 1 млн. ф. ст. в свой фонд погашения. Но предположим, что эта страна продолжает покупать с помощью фонда погашения государственные бумаги и заключает заём на сумму в 1 млн. ф. ст., которого ей не хватило на её расходы, и что с целью уплаты процентов и создания фонда погашения для этого займа она взимает с народа новые налоги на сумму в 60 тыс. ф. ст. Тогда действительный и эффективный фонд погашения составил бы в год 60 тыс. ф. ст. и не больше, ибо она имела бы для вложения в государственные бумаги не больше 1 060 тыс. ф. ст., из которых 1 млн. ф. ст. был бы получен путём продажи государственных бумаг; другими словами, её доходы были бы больше расходов на 60 тыс. ф. ст. Предположим, что вспыхнула война и расходы возросли до 60 млн. ф. ст., тогда как доходы составляют, как и прежде, 41 млн. ф. ст., причём операции комиссаров по инвестированию 1 млн. ф. ст. продолжались бы. Если бы для покрытия 20 млн. ф. ст. дополнительных расходов взимались военные налоги, фонд погашения в 1 млн. ф. ст. употреблялся бы, как и прежде, для уменьшения национального долга по сложным процентам. Если бы страна добыла эти 20 млн. ф. ст., выпустив заём в бумагах или билетах казначейства, и не позаботилась бы при этом взыскать новые налоги для уплаты процентов, а получила бы нужные для этого деньги путём увеличения займа следующего года, она накопила бы долг в 20 млн. ф. ст. по сложным процентам; пока война продолжалась бы и объём расходов оставался бы прежним, страна не только накопляла бы долг в 20 млн. ф. ст. по сложным процентам, но это был бы ежегодный долг в 20 млн. ф. ст.; следовательно, действительное возрастание её долга составляло бы, принимая во внимание 1 млн. ф. ст., идущий в фонд погашения, 19 млн. ф. ст. в год по сложным процентам. Но если бы с помощью новых налогов она имела возможность уплачивать 5% по ежегодному займу в 20 млн. ф. ст., она, с одной стороны, просто увеличивала бы долг на 20 млн. ф. ст. в год, а с другой - уменьшала бы его ежегодно на 1 млн. ф. ст. и сложные проценты с него. Если мы предположим, что в придачу к 5% она взимала бы также при помощи ежегодных налогов 200 тыс. ф. ст. в год в фонд погашения каждого займа в 20 млн. ф. ст., она прибавила бы к этому фонду 200 тыс. ф. ст. в первый год войны, 400 тыс. - во второй, 600 тыс. - в третий и т. д. - по 200 тыс. ф. ст. на каждый заём в 20 млн. ф. ст. С помощью добавочных налогов она увеличивала бы свой ежегодный доход, не увеличивая своих расходов. Кроме того, та часть её дохода, которая затрачивалась на покупку государственных бумаг, увеличивалась бы ежегодно на сумму дивидендов с купленных бумаг; таким образом, доходы страны возрастали бы дальше, пока, наконец, они не превысили бы расходы, и тогда страна снова имела бы в своём распоряжении эффективный фонд погашения для уменьшения долга. Очевидно, что при условии сохранения нормы процента на постоянном уровне в 5% или каком-либо другом результат этих операций был бы такой же, какой дало бы прекращение покупки государственных бумаг комиссарами в то время, когда расходы превышали доходы. Действительное возрастание национального долга должно определяться перевесом расходов над доходами, и это никоим образом не может быть изменено какими-либо мероприятиями. Предположим, что вместо заключения в первый год займа в 20 млн. ф. ст. и уплаты 1 млн. был бы заключён заём только на сумму в 19 млн. ф. ст. и что при этом взималась бы та же сумма налогов, а именно 1 200 тыс. ф. ст. Так как 5% уплачивались бы только с 19 млн. ф. ст., а не с 20 млн., иначе говоря, платить пришлось бы только 950 тыс. ф. ст. вместо 1 млн., то в придачу к первоначальному миллиону для займа следующего года оставалось бы ещё 250 тыс. ф. ст., так что сумма займа второго года составляла бы только 18 750 тыс. ф. ст. А так как при помощи дополнительных налогов было бы снова получено 1 200 тыс. ф. ст., то во второй год вся сумма составила бы 2 400 тыс. ф. ст., кроме первоначального миллиона; следовательно, после уплаты процентов по обоим займам остался бы излишек в 1 512 500 ф. ст., и заём третьего года составлял бы поэтому 18 487 500 ф. ст. Прилагаемая таблица показывает соответствующее движение в течение пяти лет (в ф. ст.):
Если бы вместо такого ежегодного уменьшения займа взималась неизменно всё та же сумма налогов и фонд погашения использовался бы обычным порядком, то сумма долга оставалась бы совершенно одинаковой в любой из этих периодов. Третья графа приведённой таблицы показывает, что на пятом году долг вырос бы до 92 371 844 ф. ст. Предполагая, что к фонду погашения ежегодно прибавлялось бы по 200 тыс. ф. ст., затрачиваемых комиссарами на покупку государственных бумаг, сумма непогашенного долга составляла бы те же 92 371 844 ф. ст., как это видно из последнего столбца следующей таблицы:
Всестороннее рассмотрение этого вопроса во всех его деталях привело д-ра Гамильтона к заключению, что такой способ собирания средств во время войны, т. е. уменьшение размеров ежегодных займов и приостановка покупок, производимых комиссарами на рынке, был бы более экономен и что его следует поэтому принять. Во-первых, таким образом были бы сбережены все расходы на агентуру, во-вторых, премия, уплачиваемая обыкновенно при выпуске займа, была бы сбережена на той части займа, которая покупается обратно комиссарами на открытом рынке. Верно, что в промежуток времени между заключением займа и началом покупок, производимых комиссарами, государственные бумаги могут и падать и повышаться и что, следовательно, при теперешнем ведении дела нация может в некоторых случаях выиграть; но так как оба шанса равны и заимодавцам предоставляется некоторая выгода, побуждающая их авансировать деньги независимо от всех колебаний будущих цен, то государство даёт теперь эту выгоду на большей сумме вместо меньшей. В среднем за ряд лет это безусловно должно дать очень значительную сумму. Но оба эти возражения могли бы быть устранены при неизменном соблюдении той статьи первоначального законопроекта о фонде погашения, которая даёт комиссарам право подписываться на любой заём для нужд государства в размере всей суммы ежегодного фонда, находящейся в их распоряжении для инвестирования её. Именно таков способ, настоятельно рекомендуемый г-ном Гренфеллом в течение нескольких лет; он гораздо предпочтительнее способа, предлагаемого д-ром Гамильтоном. Г-н Гренфелл и д-р Гамильтон оба соглашаются, что в военное время, когда расходы превышают доходы и когда мы поэтому ежегодно увеличиваем наш долг, покупка на рынке сравнительно небольшого количества бумаг, в то время когда мы вынуждены производить большие продажи, является совершенно бесполезной операцией; но д-р Гамильтон не считает полезным сохранять фонд погашения в качестве сепаратного фонда, г-н же Гренфелл, наоборот, считает нужным сделать это и даже увеличивать этот фонд по мере роста нашего долга, соблюдая при этом известные установленные правила. Я вполне согласен с г-ном Гренфеллом. Если ежегодно приходится заключать заём в 20 млн. ф. ст., тогда как в руках комиссаров имеется 10 млн., к ним ежегодно поступающих, то наиболее бесспорной и понятной операцией явилось бы заключение займа на сумму в 10 млн. ф. ст. Ясно, что открывать подписку на 20 млн. ф. ст. и позволять комиссарам подписываться на 10 млн. - это весьма удобно. Все возражения д-ра Гамильтона, таким образом, устраняются; исчезают расходы на агентуру и не будет никаких потерь вследствие разницы в цене, по которой государство продаёт и покупает. Назовите заём 20-миллионным, и вы дадите нации стимул легче нести бремя налогов, необходимых для уплаты процентов и создания фонда погашения по займу в 20 млн. ф. ст. Назовите заём только 10-миллионным, уничтожьте во время войны самое название фонда погашения во всех ваших публичных отчётах, и вам трудно будет показать народу целесообразность собирания с помощью добавочных налогов суммы в 1 200 тыс. ф. ст. для уплаты процентов по займу в 10 млн. ф. ст. Поэтому фонд погашения полезен как орудие налогового обложения; если бы страна могла полагаться на министров в том, что этот фонд будет действительно обращён полностью только на те цели, для которых он учреждён, а именно на получение по окончании войны явного дополнительного перевеса доходов над расходами, пропорционального увеличению государственного долга, то было бы разумно и целесообразно сохранить этот фонд в качестве сепаратного с соблюдением определённых правил и постановлений. Мы теперь рассмотрим, можно ли питать такое доверие к министрам и не является ли, следовательно, фонд погашения орудием злоупотреблений и обмана, в действительности скорее способствующим увеличению нашего долга и наших тягот, чем их уменьшению. Против проектов как д-ра Гамильтона, так и г-на Гренфелла выдвигалось следующее возражение: невыгоды, о которых они говорят, ничтожны по своим размерам и больше чем уравновешиваются устойчивостью, которая создаётся на рынке благодаря ежедневным покупкам комиссаров; деньги же, выбрасываемые на рынок благодаря этим покупкам, представляют ресурс, на который могут рассчитывать с уверенностью банкиры и другие лица, могущие внезапно испытать нужду в деньгах. Те, кто делает это возражение, забывают, что если в результате принятия этого плана с рынка исчезает ежедневный покупатель, то вместе с ним исчезает и ежедневный продавец. Министр даёт в настоящее время одной группе людей 10 млн. ф. ст. деньгами для помещения их в государственные бумаги, а другой группе - на 10 млн. ф. ст. государственных бумаг для продажи; а так как взносы по займу уплачиваются ежемесячно, то мы вправе сказать, что предложение так же регулярно, как и спрос. Нельзя также сомневаться в том, что заём в 20 млн. ф. ст. заключается на худших условиях, чем заём в 10 млн. ф. ст. Верно, что на рынке останется к концу года не больше государственных бумаг оттого, что заём будет заключён на ту, а не на другую сумму, однако тот, кто взял на себя размещение займа, должен произвести в течение некоторого времени большие закупки и должен ждать, пока он сможет продать комиссарам бумаг на эти 10 млн. ф. ст. Он вынужден, следовательно, продавать гораздо больше до подписания договора о займе, а это не может не повлиять на рыночную цену. Следует помнить, что именно рыночная цена в день предложения займа определяет условия, на которых он будет продаваться. Ею руководствуется и министр, который продаёт, и посредник, который покупает. Опыт с проектом г-на Гренфелла был в первый раз произведён в 1819 г.; сумма, которая требовалась правительству, составляла 24 млн. ф. ст., из которой комиссары подписали 12 млн. Вместо займа в 24 млн. ф. ст., заключённого при помощи посредников, был заключён заём только в 12 млн. ф. ст.; как только это стало известно ещё до заключения договора, курс бумаг повысился на 4 или 5% и повлиял соответственным образом на условия займа. Причина заключалась в том, что были сделаны приготовления к займу в 24 млн. или в 30 млн. ф. ст.; когда же стало известно, что заём будет заключён только на 12млн. ф. ст., то лишь часть проданных бумаг была скуплена вновь. Другая выгода, связанная с меньшим займом, заключается в том, что 800 ф. ст. с миллиона, которые уплачиваются Английскому банку за управление займом, сберегаются на сумме, подписанной комиссарами. В другой части своего труда д-р Гамильтон замечает: "Если бы фонд погашения мог функционировать без потери для государства или хотя бы с умеренной потерей, то было бы неблагоразумно предлагать изменение системы, завоевавшей доверие нации; эта система устанавливает способ регулирования налогового обложения, имеющий за собой во всяком случае преимущество устойчивости. Если бы это регулирование было отменено, наша система обложения могла бы совершенно расшататься. Средством, и единственным притом средством, задержать рост национального долга является сокращение расходов и увеличение доходов. Ни то, ни другое не стоит в необходимой связи с фондом погашения, но даже если бы они имели связь с ним и если бы нация, убеждённая в значении системы, введённой популярным министром, приняла ради поддержания её меры либо к большей бережливости в расходах, либо к более энергичному взиманию налогов, то фонд погашения нельзя было бы всё же считать лишённым эффективности; действие его могло бы иметь большое значение". Не подлежит, я полагаю, сомнению, что при правильном использовании фонда погашения в том виде, как он был учреждён г-ном Питтом в 1792 г., и при наличии в добавление к военным налогам ежегодных налогов, обеспечивающих уплату процентов и создание однопроцентного фонда погашения по каждому займу, мы сделали бы большие успехи в деле погашения долга. Принципиальное изменение, введённое в системе фонда погашения законом 1802 г., было, по нашему мнению, разумным: закон требовал, чтобы ни одна часть фонда погашения, - ни та, которая образовалась из первоначального миллиона с прибавкой к нему 200 тыс. ф. ст. в год, ни та, которая образовалась из однопроцентных взносов, взимаемых по каждому займу начиная с 1792 г., - не могла быть обращена на нужды государства до тех пор, пока не будет погашен весь тогда существовавший долг. Мы были бы склонны распространить этот принцип дальше и провести постановление, в силу которого ни одна часть фонда погашения не должна затрачиваться на нужды государства до тех пор, пока не будет уплачена вся сумма долга, существующего в данное время и могущего впоследствии быть заключенным. Мы не думаем, что возражение против этого предложения, сделанное лордом Генри Петти в 1807 г. и повторенное в ещё более категорической форме г-ном Ванситтартом в 1813 г., имеет большой вес. Благородный лорд сказал: "Вряд ли необходимо представлять вниманию Комитета все бедствия, которые могли бы возникнуть при возможности неограниченного накопления фонда погашения; нация могла бы подвергнуться благодаря этому накоплению бедствию немедленного исчезновения с рынка значительной части капитала при отсутствии возможности его применения, что, конечно, привело бы к его обесценению. Это зло должно показаться весьма серьёзным всякому, кто его себе представит; всем станет, несомненно, ясно, что погашение всего национального долга сразу вызвало бы нечто, подобное национальному банкротству, каким бы парадоксальным ни казалось это утверждение; капитал почти совершенно обесценится, а проценты, которые он прежде приносил, совершенно исчезнут. Я покажу далее и другие бедствия, которые возникли бы из быстрого погашения национального долга и которые могут служить для доказательства невыгодных последствий этой операции. В законах 1792 и 1802 гг. были приняты различные меры, касающиеся фонда погашения. Во-первых, однопроцентный фонд, учреждаемый согласно первому закону для каждого нового займа, должен был накопляться по сложным процентам до тех пор, пока весь долг, созданный новым займом, не будет погашен. На основании же второго закона все различные фонды погашения, существовавшие в 1802 г., были консолидированы, и вся сумма их должна была накопляться по сложным процентам до тех пор, пока не будет погашен весь долг, существовавший в 1802 г. Но долг, созданный начиная с 1802 г. и составлявший около 100 млн. ф. ст. номинального капитала, оставался попрежнему подчинённым действию закона 1792 г., который предусматривает для каждого отдельного займа фонд погашения всего лишь в 1 % с номинального капитала. План 1802 г., вклинившийся в прежние законы 1786 и 1792 гг., создал условия для ещё более быстрого погашения долга, для которого был создан фонд погашения; этот план откладывал, однако, всякое облегчение налогового бремени на весьма отдалённый срок (по расчётам, произведённым в 1802 г., оно должно было наступить между 1834 и 1844 гг.); в то же время он выбрасывал на денежный рынок в последние годы своего действия такие несоразмерно большие суммы, которые могли вызвать очень опасное по своим последствиям обесценение стоимости денег. Много неудобств возникло бы также от внезапной приостановки использования этих сумм к моменту погашения долга полностью и от не менее внезапного изменения цен всех товаров, которое должно было явиться результатом одновременного прекращения взимания налогов, значительно превосходивших тогда, вероятно, 30 млн. ф. ст. При этих условиях каждый мыслящий человек должен подумать с тревогой о судьбе купцов, фабрикантов, рабочих и всякого рода посредников. Это относится и к моему замечанию относительно национального банкротства; если бы национальный долг был погашен и всё бремя налогов сразу снято, то все товары, остающиеся на руках, оказались бы, сравнительно говоря, совершенно лишёнными стоимости для своих владельцев, ибо, будучи куплены или произведены в период высокого обложения, они должны были бы продаваться теперь по пониженным ценам в силу конкуренции тех, кто мог бы производить эти же товары после отмены указанных налогов. Эти возражения предусматривались и до известной степени признавались в период проведения закона 1802 г.; но тогда на это отвечали, что в случае приближения такой опасности её можно будет предотвратить с помощью соответствующих мероприятий". Многие из этих возражений кажутся нам химерическими, но, будь они даже хорошо обоснованными, мы всё же согласились бы с последними словами приведённой цитаты: "в случае приближения такой опасности её можно будет предотвратить с помощью соответствующих мероприятий". Не было никакой необходимости издавать в 1807 или 1813 г. законы, направленные против опасности, которая не могла наступить раньше, чем между 1834 и 1844 гг. Не было необходимости принимать меры против бедствий, которые могут возникнуть от избытка богатства в отдалённый период, в такой момент, когда наша реальная трудность заключается в проблеме удовлетворения наших непосредственных и настоятельных нужд. В чём заключаются бедствия, которыми грозит чрезмерный рост фонда погашения в течение последних лет его существования? Не в увеличении налогового обложения, ибо рост фонда погашения происходит за счёт дивидендов на купленные бумаги, но, во-первых, в слишком быстром возвращении капитала в руки держателей государственных займов, не имеющих возможности извлечь из него доход, и, во-вторых, в уменьшении суммы налогов, по всей вероятности, на 30 млн. ф. ст., что окажет большое влияние на цены отдельных товаров и будет очень гибельным для интересов тех, кто производит эти товары или торгует ими. Очевидно, что комиссары не имеют никакого капитала. Они получают каждые три месяца или ежедневно определённые суммы, собираемые путём налогов, которые они употребляют на погашение долга. Одна часть народа платит то, что получает другая его часть. Если бы те, кто платит налоги, употребляли выплачиваемые суммы как капитал, т. е. на производство сырых материалов или промышленных товаров, а получатели затрачивали бы поступавшие к ним деньги тем же способом, то в размерах годового продукта произошло бы лишь незначительное изменение. Часть этого продукта мог бы произвести А вместо В, но даже это не есть необходимое следствие, так как А, получив деньги по своим долговым обязательствам, мог бы ссудить их В и получать от него часть продукта в виде процентов, в каковом случае В продолжал бы применять свой капитал, как и прежде. Следовательно, если фонд погашения доставляется капиталом, а не доходом, общество не потерпит от этого никаких потерь, как бы велик ни был фонд погашения. Перемещение капитала могло бы произойти или нет, но годичный продукт, реальное богатство страны, не подвергся бы никакому ущербу. Действительное количество применяемого капитала не возросло бы и не уменьшилось бы, но если бы плательщики налогов, идущих на уплату процентов и на фонд погашения национального долга, платили их из дохода, они продолжали бы применять такой же капитал, как и прежде. А так как при получении этого дохода держателями государственных бумаг он употреблялся бы ими в качестве капитала, то в результате этой операции произошло бы большое увеличение капитала; каждый год добавочная часть дохода превращалась бы в капитал, который мог бы быть употреблён только лишь на снабжение рынка новыми товарами. Но сомнения тех, кто говорит о вредных последствиях большого накопления фонда погашения, вызываются их опасением, что страна может иметь больше капитала, чем требуется для его прибыльного использования, и что может наступить такое переполнение рынка товарами, при котором их невозможно будет сбыть на условиях, обеспечивающих производителям хоть какую-нибудь прибыль на их капитал. Ошибочность этого рассуждения была вскрыта г-ном Сэем в его солидном труде "Есоnomie politique" и затем г-ном Миллем в его превосходном ответе г-ну Спенсу, защитнику учения экономистов <здесь имеются в виду физиократы. - Прим. ред.>. Они показывают, что спрос ограничивается только производством; тот, кто может производить, имеет право потреблять, и он использует это право как можно шире. Эти авторы не отрицают, что спрос на отдельные товары ограничен, и поэтому они говорят, что возможно переполнение рынка такими товарами; но в большой и цивилизованной стране потребности в предметах необходимости или роскоши не ограничены; применение капитала идёт рука об руку с нашей способностью доставлять пищу и другие предметы жизненной необходимости возрастающему населению, которому постоянно увеличивающийся капитал даёт занятие. С каждым возрастанием трудности производства дополнительных количеств сырых продуктов хлеб и другие предметы жизненной необходимости для рабочего повышаются в цене, следовательно, повысится и заработная плата. Действительное повышение заработной платы необходимо сопровождается действительным падением прибыли; когда обработка земли достигает в какой-нибудь стране своей высшей ступени, затрата на неё большего количества труда не даст большего количества пищи, чем то, какое необходимо для поддержания жизни занятых рабочих; такая страна дошла уже до предела увеличения как её капитала, так и её населения. Самая богатая страна в Европе всё ещё очень далека от такой степени усовершенствования, но если бы какая-нибудь страна и достигла её, то с помощью внешней торговли даже и эта страна могла бы в течение неограниченного времени увеличивать своё богатство и население; единственным препятствием для такого увеличения являлась бы скудость, а следовательно, и высокая стоимость пищи и других сырых материалов. Дайте этой стране возможность получать их извне в обмен на промышленные изделия, и тогда трудно будет сказать, где лежит предел, за которым прекращается накопление богатства и извлечение прибыли из использования его. Это - вопрос величайшей важности в политической экономии. Мы надеемся, что и того немногого, что мы сказали об этом предмете, будет достаточно, чтобы побудить людей, желающих полностью понять этот принцип, обратиться к сочинениям названных нами солидных авторов; я признаю, что и сам я многим обязан им. Если изложенные взгляды правильны, то нет никакой опасности, что капитал, могущий быть накопленным при определённых условиях из фонда погашения, не найдёт себе применения или что товары, на производство которых он будет затрачен, не смогут быть проданы достаточно выгодно, чтобы дать адекватную прибыль их производителям. Касаясь этой стороны вопроса, необходимо только прибавить, что для держателей государственных займов не будет никакой необходимости стать фермерами или фабрикантами. В большой стране всегда можно найти достаточное число ответственных людей, обладающих требуемым знанием дела и готовых использовать капитал, накопленный другими, платя им часть прибыли, известную во всех странах под названием процентов на занятые деньги. Нам остаётся теперь рассмотреть второе возражение против неограниченного роста фонда погашения. Внезапное уменьшение налогов на сумму, равную, вероятно, 30 млн. ф. ст. в год, окажет большое влияние на цены товаров. "При этих условиях каждый мыслящий человек должен подумать с тревогой о судьбе купцов, фабрикантов, рабочих и всякого рода посредников; если бы национальный долг был погашен и всё бремя налогов сразу снято, то все товары, остающиеся на руках, оказались бы, при сопоставлении совершенно лишёнными стоимости для своих владельцев, ибо, будучи куплены или произведены в период высокого обложения, они должны были бы продаваться теперь по пониженным ценам в силу конкуренции тех, кто мог бы производить эти же товары после отмены указанных налогов". Следовательно, при этом огромном снижении налогов какие-либо бедствия могли возникнуть лишь при условии, что были бы затронуты интересы купцов, фабрикантов и торговых посредников. При этом, конечно, не скажут, что уменьшение налогов, взимаемых с А, на 5 ф. ст., с В - на 10, с С - на 100 ф. ст. и т. д., причинит им какой-либо ущерб. Если бы они прибавили все эти суммы каждый к своему капиталу, они увеличили бы свой постоянный ежегодный доход и содействовали бы возрастанию массы товаров, увеличивая, таким образом, всеобщее изобилие. Мне удалось, я надеюсь, доказать, что увеличение капитала не приносит ущерба ни тому индивиду, который его сберегает, ни обществу в целом; такое накопление имеет тенденцию увеличивать спрос на труд, а следовательно, и рост населения, а тем самым и могущество и силу страны. Но, скажут нам, эти люди не прибавят сбережённых ими сумм к своим капиталам, они израсходуют их как доход! Но и в этом случае нельзя сказать, чтобы рассматриваемое мероприятие было убыточно для них или для общества. Они ежегодно отдавали часть своего продукта на уплату долга держателям государственных займов, а последние немедленно обращали их в капитал; теперь же эта часть их продукта остаётся в их собственном распоряжении; они могут потреблять её, как им угодно. Фермер, который обычно продавал часть своего хлеба специально для того, чтобы уплатить налог, о котором идёт речь, может сам потребить этот хлеб; он может продать его владельцу винокуренного завода для приготовления из него джина или пивовару для превращения его в пиво; он может обменять его на известное количество сукна, которое фабрикант сукна, освобождённый теперь от налога, так же как и фермер, может обменять по желанию на любой товар. Нас могут также спросить, откуда же возьмётся это сукно, это пиво, джин и т. д.? До уменьшения налогов всех этих товаров имелось не более, чем их требовалось для покрытия общего спроса; если же каждый станет теперь потреблять их в большем количестве, то откуда же взять таковое? Это возражение носит характер, совершенно противоположный тому, какое выдвигалось прежде. Теперь говорят, что существовал бы слишком большой спрос и не было бы никакого дополнительного предложения, а прежде утверждали, что предложение было бы так велико, что оно не покрывалось бы достаточным спросом. Одно возражение так же мало обосновано, как и другое. Когда держателям государственных займов будет уплачено то, что им должны, они либо сами используют полученные средства производительно, либо ссудят их другим лицам, которые используют их таким путём. Так будут произведены именно те добавочные товары, которые может потребить общество в целом, а результатом этого будет всеобщее увеличение дохода и всеобщее увеличение потребления. Отнюдь не следует при этом думать, что возросшее потребление одной части народа происходило бы за счёт другой части его. Это было бы добро без примеси, без амальгамы. Теперь нам остаётся рассмотреть лишь ущерб, который наносится купцам благодаря падению цен товаров, а между тем средство против этой беды так просто, что нас удивляет, как могло выдвигаться подобное возражение. Когда вводится новый налог, то обычно определяют имеющиеся запасы облагаемого товара и в виде меры справедливости требуют, чтобы купец, продающий этот товар, уплатил и налог, которым обложены его запасы. Почему не может быть введён обратный порядок? Почему нельзя вернуть отдельному лицу налог с имеющихся у него запасов товара, раз признано целесообразным освободить от налога товар, который оно производит или которым оно торгует? Для этого было бы только необходимо продлить на очень короткое время существование этого налога. Ни с какой точки зрения мы не можем поэтому признать какую-нибудь силу за аргументами, которые мы цитировали и на которых особенно настаивает г-н Ванситтарт. Некоторые люди полагают, что фонд погашения, даже используемый лишь строго по назначению, не приносит нации никакой пользы. Они говорят, что деньги, которые взимаются для его образования, были бы употреблены гораздо производительнее самими налогоплательщиками, чем комиссарами, которые ведают фондом погашения. Последние покупают на него государственные бумаги, которые, вероятно, приносят не больше 5% ,первые получили бы от использования того же самого капитала гораздо больше чем 5%, следовательно, страна обогатилась бы на эту разность. В последнем случае чистый продукт нашей земли и труда был бы больше, а это и есть источник, из которого в конечном счёте должны быть покрыты все расходы. Те, кто отстаивает это мнение, не замечают, что комиссары только получают деньги от одного класса общества и платят их другому классу и что действительный вопрос заключается в следующем: какой из этих двух классов употребил бы их более производительным образом? Взимаемые налоги дают 40 млн. ф. ст. в год; предположим, что 20 млн. ф. ст. из них вносятся в фонд погашения, а 20 млн. идут на уплату процентов по национальному долгу. Но, после того как комиссары произвели свои покупки в первый год, эти 40 млн. ф. ст. будут распределены иначе: 19 млн. пойдут на уплату процентов, а 21 млн. - в фонд погашения, и т. д. из года в год; хотя в целом взимается всегда 40 млн. ф. ст., однако всё меньшая часть их будет идти на уплату процентов и всё большая - в фонд погашения; так будет продолжаться до тех пор, пока комиссары не скупят всю сумму государственных бумаг; тогда все 40 млн. ф. ст. очутятся в руках комиссаров. Следовательно, поскольку дело касается прибыли, единственный вопрос заключается в том, кто употребит наиболее производительным образом 40 млн. ф. ст.: те, кто платит их, или те, кто получает их. Комиссары в действительности никогда не употребляют их производительно, так как их дело сводится к тому, чтобы передавать эти деньги тем, кто будет их так употреблять. Так вот, мы твердо убеждены, что все деньги, полученные держателями государственных бумаг в обмен на эти последние, должны быть затрачены как капитал; если бы это было не так, то держатели лишились бы своего дохода, на который они обычно рассчитывают. Если, таким образом, налоги, которые платятся для образования фонда погашения, извлекались бы из дохода страны, а не из её капитала, то часть дохода ежегодно превращалась бы благодаря этому в капитал, и, следовательно, весь доход общества возрос бы; но если бы не существовало фонда погашения, то эта часть дохода могла бы быть превращена в капитал самими налогоплательщиками, поскольку им было бы позволено удержать деньги для собственного употребления. Это могло бы иметь место, и если бы эти деньги были действительно использованы таким образом, то, поскольку речь идёт о накоплении богатства всего общества,. учреждение фонда погашения не принесло бы никакой выгоды, Не столь вероятно, однако, что налогоплательщики использовали бы эти деньги в качестве их получателей именно таким путём. Когда они получают деньги за свои бумаги, они только замещают один капитал другим; весь же их годовой доход они привыкли получать со своего капитала. Но как плательщики они хотят располагать всей суммой, которую они уплачивали прежде как дополнение к их прежнему доходу; если бы фонд погашения прекратил своё существование, они могли бы, конечно, реализовать свои деньги как капитал, но могли бы также употребить их как доход, увеличивая расходы на вино, дома, лошадей, одежду и т. д. Кроме того, плательщики могли также уплатить эти деньги из своего капитала, поэтому использование одного капитала могло бы быть заменено использованием другого. И в этом случае фонд погашения не приносит никакой выгоды, так как национальное богатство будет накопляться так же быстро без него, как и при его наличии. Но если бы какая-либо часть налогов, взимаемых специально для фонда погашения, уплачивалась из дохода или же, если бы её не приходилось уплачивать, расходовалась в качестве дохода, то фонд погашения приносил бы очевидную выгоду, так как он имел бы тенденцию увеличивать годичный продукт нашей земли и труда. А так как мы именно и полагаем, что он дал бы как раз этот результат, то мы определённо держимся мнения, что фонд погашения при честном его использовании благоприятствует накоплению богатства. Д-р Гамильтон настойчиво доказывал вслед за д-ром Прайсом невыгоды заключения займов во время войны в трёхпроцентных, а не в пятипроцентных бумагах. В первом случае делается большая прибавка к номинальному капиталу, обычно погашаемому в мирное время по значительно повышенной цене. Трёхпроцентные бумаги, которые продаются по курсу в 60, будут, вероятно, куплены вновь по курсу в 80 и могут быть куплены даже по курсу в 100; при пятипроцентных же займах номинальный капитал увеличится лишь немного или совсем не увеличится, а так как все бумаги подлежат выкупу по паритету, то они будут погашены с небольшой потерей. Правильность этого замечания должна зависеть от относительных цен этих двух бумаг. Во время войны, в 1798 г., трёхпроцентные бумаги продавались по курсу в 50, в то время как пятипроцентные - по курсу в 73. При всех обстоятельствах относительная цена пятипроцентных бумаг очень низка в сравнении с ценой трёхпроцентных. Итак, одна невыгода должна здесь быть сопоставлена с другой, и решение вопроса, более ли желательно заключать заём в одной форме, чем в другой, зависит от того, в какой мере цены пятипроцентных бумаг отличаются от цен трёхпроцентных. Мы нимало не сомневаемся, что в течение многих периодов войны было бы решительно выгоднее заключать заём в пятипроцентных бумагах, а не в трёхпроцентных. Кроме того, рынок для пятипроцентных бумаг ограничен; их нельзя продать принудительно, не вызывая значительного падения их курса. Это обстоятельство хорошо известно лицам, заключающим заём, и они, естественно, застраховали бы себя против него повысив цену, по которой они разместили бы большой заём в таких бумагах. Премия в 2% сверх рыночной цены может казаться им достаточной, чтобы компенсировать их за риск по займу в трёхпроцентных бумагах, но они могут потребовать премию в 5%, чтобы застраховать себя от риска в том случае, если они размещают заём в пятипроцентных бумагах. II. Исследовав надлежащим образом действие фонда погашения, составляющегося из ежегодных налогов, мы переходим теперь к рассмотрению лучшего способа покрытия наших ежегодных расходов как в мирное, так и в военное время; после этого мы исследуем, может ли какая-нибудь страна иметь гарантию в том, что фонд, созданный для уплаты долга, не будет употреблён её министрами не по своему назначению и не сделается ли этот фонд в действительности орудием для создания нового долга, лишая нас разумной надежды на возможность непрерывного уменьшения национального долга. Предположим, что свободная от долга страна вступает в войну, которая вовлекает её в дополнительные расходы на сумму в 20 млн. ф. ст. в год. В таком случае имеются три способа, при помощи которых эти расходы могут быть покрыты. Во-первых, можно взимать ежегодно налоги на сумму в 20 млн. ф. ст., причём страна освободится от них полностью после заключения мира. Во-вторых, можно ежегодно заключать займы и фундировать их, а в таком случае если бы было решено заключить заём по 5% , то для покрытия расходов первого года страна была бы обложена постоянным налогом в 1 млн. ф. ст. в год и не освободилась бы от этого бремени ни в мирное время, ни в период какой-либо будущей войны; для покрытия расходов второго года потребовался бы второй миллион и так далее для расходов каждого следующего года, пока длится война. По истечении 20 лет, "ели бы война продолжалась так долго, страна была бы перманентно обременена налогами на 20 млн. ф. ст. в год и должна была бы повторять ту же самую процедуру при каждом возобновлении войны. Третий способ покрытия расходов во время войны заключался бы, как и в предыдущем случае, в ежегодных займах необходимых 20 млн. ф. ст. и в то же время в образовании с помощью налогов в добавление к процентам особого фонда, который, накопляясь по сложным процентам, в конечном счёте сравнялся бы с суммой долга. В предполагаемом случае при заключении займа из 5% и ежегодных отчислениях в 200 тыс. ф. ст. сверх 1 млн., идущего на уплату процентов, этот фонд достиг бы путём накопления 20 млн. ф. ст. через 45 лет. Соглашаясь взимать ежегодно с помощью налогов 1 200 тыс. ф. ст. для каждого займа в 20 млн. ф. ст., мы погашали бы каждый заём в течение 45 лет со дня его заключения. Таким образом, через 45 лет по окончании войны, если бы не был создан новый долг, весь старый был бы погашен и все налоги были бы отменены. Из всех трёх способов мы решительно отдаём предпочтение первому. Тягости войны, несомненно, велики в течение всего времени, пока она продолжается, но по окончании её они сразу прекращаются. Когда гнёт войны даёт себя знать сразу же без всякого смягчения, мы становимся менее склонными легкомысленно ввязываться в дорогостоящий конфликт, а раз ввязавшись в него, мы скорее захотим покончить с ним, если только этот конфликт не связан с борьбой за национальные интересы большого значения. С точки зрения экономии между этими способами нет действительной разницы, ибо 20 млн. ф. ст., уплаченные сразу, 1 млн., уплачиваемый ежегодно, или 1 200 тыс. ф. ст., уплачиваемые в течение 45 лет, представляют совершенно одинаковую стоимость, но народ, платящий налоги, никогда не расценивает их таким образом и не ведёт поэтому своих частных дел на такой основе. Мы слишком расположены думать, что обременительность войны определяется лишь теми суммами, которые мы должны платить в данное время, собирая на то налоги, и не принимаем во внимание возможную продолжительность таких налогов. Трудно было бы убедить человека, имеющего 20 тыс. ф. ст. или какую-либо другую сумму, что постоянная уплата 50 ф. ст. в год столь же обременительна, как и единовременный налог в 1 тыс. ф. ст. У него имеется смутное представление, что 50 ф. ст. в год будут уплачиваться потомством, а не им самим; если, однако, он оставляет своё состояние сыну и оставляет его обременённым таким постоянным налогом, то какая же разница между 20 тыс. ф. ст., обременёнными налогом, и 19 тыс. ф. ст., свободными от него? Такой аргумент о возможности возложить на потомство уплату процентов по нашему долгу или возможности облегчить его от части этого бремени приводится часто весьма сведущими в других отношениях людьми, но мы признаёмся, что считаем его несостоятельным. Можно, конечно, сказать, что богатство страны может возрасти, поскольку же на уплату налогов будет употреблена какая-то доля увеличившегося богатства, соответствующая доля, падающая на имеющееся теперь богатство, будет меньше, и, таким образом, потомство будет содействовать покрытию наших теперешних расходов. Верно, что это может быть так, но может быть также и иначе; богатство страны может уменьшиться, отдельные лица могут эмигрировать из страны, обложенной тяжёлыми налогами, и поэтому собственники, оставшиеся в стране, могут платить больше, чем справедливый эквивалент, который берётся с них в настоящее время. Что ежегодный налог в 50 ф. ст. не считается равным 1 тыс. ф. ст. наличными, это должен был наблюдать каждый. Если кто-либо должен уплатить 1 тыс. ф. ст. подоходного налога, то он, вероятно, постарается сберечь всю эту сумму из своего дохода; но он поступил бы не иначе, если бы вместо военного налога такого размера был заключён заём и на уплату процентов по этому займу он должен был бы платить только 50 ф. ст. подоходного налога. Итак, с экономической точки зрения военные налоги предпочтительны, так как при уплате их люди стараются сэкономить сумму, равную совокупности военных расходов, не уменьшая национального капитала. Во втором же случае такое усилие делается только для сбережения суммы процентов по имеющимся расходам, и, следовательно, сумма национального капитала уменьшается. Обычное возражение, выдвигаемое против уплаты более значительного налога, заключается в том, что его неудобно уплачивать фабрикантам и землевладельцам, так как у них нет больших свободных сумм. Мы полагаем, что они всячески старались бы сберечь их из дохода и могли бы получить деньги из этого источника. Предположим, что они не могли бы сделать этого, но что мешает им продать часть своей собственности за деньги или занять деньги под проценты? Что имеются лица, расположенные давать деньги в ссуду, видно из того, с какой лёгкостью правительство заключает свои займы. Удалите с рынка этого крупного заёмщика, и частные заёмщики будут быстро удовлетворены. Мудрые постановления и хорошие законы предоставят частным лицам в этого рода сделках величайшие удобства и гарантии. При займе А ссужает деньги, а В платит проценты, и всё остаётся попрежнему. При военных налогах А продолжал бы ссужать деньги, а В платить проценты, с той только разницей, что он будет платить их непосредственно A; теперь же он платит их правительству, а правительство платит их А. Могут сказать, что большие налоги должны падать на собственность, тогда как в настоящее время и менее значительные налоги падают не исключительно на неё. Представители свободных профессий, так же как и те, кто живёт заработной платой и жалованьем и вносит ежегодно налоги, не могли бы произвести больших платежей наличными деньгами, они поэтому пользовались бы льготой за счёт капиталиста и землевладельца. Мы полагаем, что они очень мало выиграли бы или совсем ничего не выиграли бы от системы военных налогов. Гонорары, получаемые людьми свободных профессий, жалованье и заработная плата регулируются ценами товаров, а также взаимоотношениями тех, кто платит их, и тех, кто получает их. Если бы даже предлагаемый нами налог не внёс пертурбации в цены, он изменил бы, однако, отношения между этими классами, и новые соглашения о гонорарах, жалованье и заработной плате имели бы место, так что обычный уровень их был бы скоро восстановлен. Вознаграждение, уплачиваемое профессорам и т. п., регулируется, как и всякая иная плата, спросом и предложением. Не какая-нибудь определённая сумма денег, а известное относительное положение в обществе определяет размер предложения труда со стороны людей, имеющих ту или иную квалификацию. Если вы уменьшите с помощью дополнительных налогов доходы землевладельцев и капиталистов, оставив без изменения гонорары свободных профессий, то относительное положение последних улучшится, добавочное число лиц будет тогда вовлечено в работу такого рода, и конкуренция понизит заработную плату. Величайшая выгода, связанная с военными налогами, заключалась бы в том, что они вызвали бы только незначительное длительное расстройство промышленности данной страны. Такие налоги не вызвали бы внезапных изменений цен, а если бы это и случилось, то только в течение периода, когда во время войны или от других причин всё приходит в расстройство. С началом мирного времени все вещи снова продавались бы по их естественным ценам; ни непосредственное, ни тем менее косвенное влияние налогов на цены различных товаров не побудило бы нас покидать занятия, в которых мы имеем особенную сноровку и навыки, и переходить к таким, для которых у нас не хватает ни сноровки, ни навыков. Будучи свободным, каждый человек, естественно, берётся за то занятие, к которому он более всего приспособлен, и результатом этого является величайшее изобилие продуктов. Нерациональный налог может побудить нас ввозить то, что при других условиях мы производили бы дома, или вывозить то, что при других условиях мы получали бы извне; в обоих случаях, не говоря уже о неудобствах, связанных с уплатой налога, мы получили бы за определённое количество нашего труда меньше, чем дал бы этот же труд, ничем не связанный. При сложной системе обложения даже самое мудрое законодательство не в состоянии вскрыть все последствия, как прямые, так и косвенные, вызываемые налогами; если же оно не может сделать этого, то труд страны не будет использован наивыгоднейшим образом. С помощью военных налогов мы сбережём несколько миллионов на одном только взимании налогов. Мы могли бы избавиться по крайней мере от некоторых дорогостоящих учреждений, и армия служащих, которым они дают занятия, могла бы быть распущена. Не было бы никаких расходов по управлению национальным долгом. Не заключались бы займы по курсу в 50 или 60 ф. ст. за номинальный капитал в 100 ф. ст., с тем чтобы они были выкуплены по курсу в70, 80 или, возможно, 100 ф. ст. Да, пожалуй, - и это гораздо более важно, чем всё остальное, вместе взятое, - мы избавились бы и от таких великих источников деморализации людей, как пошлины и акцизы. Рассматривая вопрос со всех точек зрения, мы приходим к одному и тому же заключению: избавление раз навсегда от практики фундирования займов явилось бы огромным улучшением нашей системы. Будем справляться с нашими трудностями по мере того, как они возникают, и охранять наше имущество от постоянного обременения, гнёт которого мы начинаем сознавать по-настоящему лишь тогда, когда уже нет надежды на исход. Мы теперь переходим к сравнению двух других способов покрытия расходов на войну: один способ заключается в том, что подлежащий расходованию капитал занимается, а для уплаты процентов по этому займу перманентно взимаются ежегодные налоги; при другом способе подлежащий расходованию капитал также берётся взаймы, но, кроме уплаты процентов с помощью ежегодных налогов, взимаются также и добавочные суммы (которые и получают название фонда погашения). Их взимают с целью погасить в течение определённого времени первоначальный долг и избавиться полностью от налогов. Будучи твердо убеждены, что все нации в конце концов примут план покрытия своих расходов, обыкновенных и чрезвычайных, в то самое время, когда они совершаются, мы всё же относимся благоприятно ко всякому плану, который способствовал бы погашению нашего долга наискорейшим образом; но мы должны быть при этом убеждены, что предлагаемый план окажется эффективным с точки зрения поставленной цели; здесь поэтому уместно исследовать вопрос, имеем ли мы или можем иметь какую-либо гарантию, что фонд погашения будет действительно использован только для уплаты долга. Когда г-н Питт учреждал в 1786 г. фонд погашения, он понимал всю опасность передачи его в распоряжение министров и парламента, поэтому он озаботился, чтобы суммы, предназначенные для фонда погашения, выдавались казначейством каждые три месяца комиссарам, последние же обязаны были инвестировать соответствующие суммы денег на покупку государственных бумаг четыре дня в неделю, или около 50 дней в три месяца. Названными комиссарами были спикер (председатель) палаты общин, канцлер казначейства, начальник архивов, главный контролёр суда лорд-канцлера и управляющий, а также заместитель управляющего Английским банком. Г-н Питт полагал, что при нахождении фонда в ведении этих лиц злоупотребления фондом не будут иметь места, и он не ошибся в этом, так как комиссары вполне добросовестно выполняли возложенное на них поручение. Предлагая парламенту учреждение фонда погашения в 1786 г., г-н Питт сказал: "Что касается хранения этого фонда для применения его неизменно в целях уменьшения долга, то сущность плана и заключается именно в том, что фонд является неприкосновенным, и тем более во время войны. Допустить, чтобы этот фонд был когда-либо или под каким-либо предлогом отвращён от своего специального назначения, означало бы уничтожить, разбить, ниспровергнуть самый план; на этом надо настаивать. Нужно поэтому надеяться, что если вносимый билль получит силу закона, то палата даст самое торжественное обещание не выслушивать никаких предложений об отмене этого фонда под каким бы то ни было предлогом. Если миллион, предназначенный для такой цели, будет накопляться по сложным процентам, то он достигнет весьма значительной суммы в течение периода, не очень продолжительного даже в сравнении с жизнью отдельного лица и представляющего не более как час в существовании великой нации; благодаря этому долг нашей страны уменьшится настолько, что даже требования войны не доведут его до той чрезмерной высоты, до какой он обычно поднимался прежде. В течение 28 лет сумма в 1 млн. ф. ст., ежегодно увеличиваясь, достигла бы 4 млн. ф. ст. в год. Необходимо только позаботиться, чтобы из этого фонда не производилось изъятий: именно это было до настоящего времени проклятием нашей страны <курсив Рикардо. - Прим. ред.>; если бы первоначальный фонд погашения охранялся надлежащим образом, то легко доказать, что наши долги не были бы в настоящую минуту очень обременительными. До сих пор мы тщетно старались помешать путем парламентских актов изъятиям uз фонда <курсив Рикардо. - Прим. ред.>; министры неизменно завладевали, когда это им казалось удобным, суммой, которая должна была рассматриваться как самая священная. Каким же путём можно помешать этому? План, который я намереваюсь предложить, состоит в следующем: фонд должен быть отдан в распоряжение определённой группы комиссаров, которые должны затрачивать его каждые три месяца на покупку государственных бумаг; благодаря этому в наличности никогда не будет такой значительной суммы, которую стоило бы захватить при удобном случае, и фонд будет расти беспрерывно. Долго, очень долго страна наша изнывала под тяжёлым бременем без всякой перспективы освободиться от него, но теперь она может надеяться на исход, от которого зависит её существование. Важно поэтому, чтобы фонд был защищён как можно лучше от покушений на него. Способ поквартальной передачи 250 тыс. ф. ст. в руки комиссаров сделает невозможным тайное отчуждение фонда, выгода же, доставляемая им, будет слишком хорошо сознаваться, чтобы допустить издание с этой целью специального акта. У министра не хватит уверенности, чтобы прийти в парламент и потребовать отмены благодетельного закона, который так непосредственно способствовал бы облегчению народа от бремени долга". Странным образом г-н Питт льстил себя надеждой, что нашёл средство против затруднения, которое "было до настоящего времени проклятием нашей страны"; он думал, что нашёл средство помешать "министрам завладевать, когда это им казалось удобным, суммой, которая должна была рассматриваться как самая священная". Удивительно, как при его знании парламента он мог так твердо полагаться на сопротивление, которое оказала бы палата общин какому-либо плану министров, выдвинутому с целью нарушить неприкосновенность фонда погашения. Когда министры желали добиться частичной отмены этого закона, парламент всегда с готовностью соглашался с ними. Мы уже сказали, что в 1807 г. один канцлер казначейства предложил освободить страну от налогов на несколько лет подряд с одним лишь незначительным исключением, и это несмотря на то, что во время войны мы не только не уменьшали расходов, но увеличивали, покрывая их с помощью ежегодных займов. Что же это означает, как не распоряжение фондом, который должен был рассматриваться как самый священный? В 1809 г. другой канцлер казначейства заключил заём, не взимая добавочных налогов для уплаты процентов по этому займу, но отчислив для этой цели часть военных налогов; это привело, конечно, к неизбежному увеличению займов последующего и всех позднейших лет на соответствующую сумму. Разве это не означало возможности для канцлера располагать секретно фондом погашения по своему усмотрению и накоплять долг по сложным процентам? Третий канцлер казначейства предложил в 1813 г. частичную отмену закона, благодаря которой в его распоряжение отдавалось ежегодно 7 млн. ф. ст. из фонда погашения, которые он и употребил на уплату процентов по новому займу. Это сделано было с разрешения парламента и являлось, по моему мнению, прямым нарушением всех прежде изданных законов о фонде погашения. Но какова была судьба остатка этого фонда после вычета из него 7 млн. ф. ст. в силу закона 1813 г.? Он должен был бы составлять теперь 16 млн. ф. ст., и такая сумма его названа в ежегодных финансовых отчетах, представленных парламенту за последнее время. Финансовый комитет, назначенный палатой общин, не преминул установить, что действительным фондом погашения долга в мирное время может быть только фонд, получающийся благодаря превышению доходов над расходами; а так как этот избыток составлял по самым благоприятным расчётам неполных 2 млн. ф. ст., то Комитет полагал, что эту сумму можно рассматривать как действительный фонд погашения, которым можно располагать в настоящее время для ликвидации долга. Если бы закон 1802 г. строго выполнялся, если бы намерения г-на Питта осуществлялись, то мы имели бы теперь чистый излишек доходов в размере почти 20 млн. ф. ст., который мог бы быть использован для уплаты долга; при настоящих же условиях мы имеем только 2 млн. Если мы спросим министров, что сталось с остальными 18 млн. ф. ст., то они укажут нам на большой расходный бюджет мирного времени, который они в состоянии покрыть только с помощью вычетов из этого фонда или же трёхпроцентных займов в несколько сот миллионов, на уплату процентов по которым употребляется фонд погашения. Если бы министры не имели в своём распоряжении большой суммы налогов, то разве они осмелились бы год за годом в продолжение нескольких лет подряд иметь дело с бюджетным дефицитом при доходах, не покрывающихся расходами в общей сложности на сумму больше 12 млн. ф. ст.? Верно, что меры, принятые г-ном Питтом, помешали им немедленно же захватить фонд, но они знали, что он находится в руках комиссаров, и при своём знании парламента правильно полагали, что он как бы находится в их собственных руках. Они рассматривали комиссаров как своих поверенных, накопляющих в их пользу деньги, о которых они знали, что смогут воспользоваться ими, когда этого потребуют, по их мнению, настоятельные нужды дня. Они как будто заключили с комиссарами молчаливое соглашение, в силу которого последние должны накоплять 12 млн. ф. ст. в год по сложным процентам, тогда как сами они накопляли в это время такую же сумму долга по сложным процентам. Эти факты теперь уже больше не отрицаются. В последнюю сессию парламента обман этот был впервые признан министрами, после того как он стал уже очевиден для всех остальных; теперь уже открыто признаётся их намерение продолжать вести дело с этим номинальным фондом погашения, заключая ежегодно заём на сумму разности между его действительным и номинальным размерами и предоставляя комиссарам подписываться на него. На основании какого принципа это может быть, сделано? На такой вопрос трудно дать какой-нибудь разумный ответ. Скажут, быть может, что уничтожение фонда погашения было бы нарушением слова, данного держателям государственных займов; но разве продажа правительством комиссарам большей части тех бумаг, которые последние покупают, не является таким же злоупотреблением доверием? Держатель государственных займов требует чего-нибудь существенного и реального, а не обманчивого и призрачного. Но факт остаётся фактом. Если из 14 млн. ф. ст., которые должны быть инвестированы комиссарами в мирное время, само правительство продаёт на 12 млн. бумаг, и притом бумаг, специально выпущенных им с целью получения этих 12 млн., тогда как на открытом рынке их приобретается лишь на 2 млн., а для уплаты процентов или для создания соответствующего фонда погашения не взимается никаких налогов, то для держателей государственных займов и для всех причастных к делу результат будет тот же, что и при уменьшении фонда погашения до 2 млн. ф. ст. В высшей степени недостойно великой страны потворствовать таким жалким уловкам и махинациям. Итак, фонд погашения не только не способствовал уменьшению долга, но ещё значительно увеличил его. Фонд погашения способствовал росту расходов. Если во время войны страна расходует 20 млн. ф. ст. в год сверх своих обыкновенных расходов и взимает налоги только для уплаты процентов по этой сумме, то за 20 лет она накопит долг в 400 млн. ф. ст., налоги же её увеличатся на 20 млн. ф. ст. в год. Если бы в придачу к 1 млн. ф. ст. в год для создания фонда погашения налогов взималось бы ещё на 200 тыс. ф. ст. и последние регулярно употреблялись бы на покупку государственных бумаг, то к концу 20-летнего периода налоги составили бы 24 млн. ф. ст., а долг- только 342 млн.; 58 млн. были бы выплачены из фонда погашения. Но если бы к концу этого периода был заключён новый заём, фонд же погашения, составляющий со всеми его накоплениями 6 940 тыс. ф. ст., был бы поглощён уплатой процентов по этому займу, то вся сумма долга составила бы 538 млн. ф. ст. и превысила бы на 138 млн. долг, какой мог иметься при отсутствии фонда погашения. Если бы такой дополнительный расход был необходим, то покрытие его должно было бы быть обеспечено без всякого вмешательства в фонд погашения. Если в конце войны не имелось бы перевеса доходов над расходами, составляющего согласно вышеприведённому предположению 6 940 тыс. ф. ст., то нет никакого смысла сохранять систему, столь мало адекватную своей цели. Однако после всего нашего опыта мы опять стараемся создать фонд погашения; в последнюю сессию парламента были приняты новые налоги на 3 млн. ф. ст. с признанной целью поднять остаток нашего фонда погашения, сведённого теперь к 2 млн. ф. ст., до 5 млн. Будет ли с нашей стороны опрометчивостью предсказать, что этот фонд погашения разделит судьбу всех, ему предшествовавших? Он будет, вероятно, накопляться в течение нескольких лет, пока мы не ввяжемся в какой-нибудь новый конфликт, а тогда министры, считая затруднительным взимать новые налоги для покрытия процентов по займам, снова произведут молчаливое покушение на этот фонд. Будет очень счастливо для нас, если в результате их новых мероприятий мы сможем спасти от крушения хотя бы 2 млн. ф. ст. Невозможность для министров дать гарантии в том, что фонд погашения будет со всей добросовестностью использован лишь для уплаты долга, достаточно доказана уже, по нашему мнению, но при отсутствии таких гарантий лучше обходиться без такого фонда. Выплатить весь долг или значительную его часть было бы с нашей точки зрения в высшей степени желательно при условии признания, однако, вредных сторон системы фундирования займов и твёрдого решения устранять наши будущие конфликты, не прибегая к её помощи. Мы не сможем уплатить, точнее не уплатим, наш долг ни с помощью фонда погашения, как он теперь организован, ни с помощью какой-либо иной организации его, могущей быть предложенной; но если бы, не создавая никакого фонда, мы уплатили долг с помощью налога на собственность, то мы достигли бы своей цели раз навсегда. Такая операция могла бы быть закончена в мирное время в течение двух или трёх лет, и если мы действительно хотим ликвидировать наш долг, то я не вижу другого способа достигнуть этой цели. Возражения, выдвигаемые против этого плана, сводятся к тем самым, на которые мы уже пытались ответить, говоря о военных налогах. Держатели государственных займов, получив уплату по ним, располагали бы значительными средствами, для которых они стали бы настойчиво искать применения; фабриканты и землевладельцы нуждались бы в значительных суммах для своих платежей казначейству. Обе эти группы не преминули бы войти в соглашение друг с другом, благодаря которому одна из них нашла бы применение для своих денег, а другая получила бы их. Они могут сделать это или путём займа, или путём купли-продажи, смотря по тому, что они найдут более соответствующим их интересам. Государству до этого нет никакого дела. Таким образом, сделав лишь одно серьёзное усилие, мы освободились бы от одного из самых страшных бичей, которые были когда-либо изобретены для угнетения нации; наша торговля расширилась бы, не подвергаясь всем мучительным отсрочкам и перерывам, на которые обрекает её наша нынешняя искусственная система. Лучшей гарантией сохранения мира является необходимость для министров обращаться к народу за налогами для ведения войны. Но пусть только фонд погашения накопится в период мира до сколько-нибудь значительной суммы, и тогда самый ничтожный вызов послужит для них предлогом вступить в новый конфликт. Они знают, что с помощью небольших усилий они смогут использовать фонд погашения для взимания новых средств, вместо того чтобы употребить его на уплату долга. Когда министры желают ввести новые налоги с целью создать новый фонд погашения вместо только что растраченного ими, они теперь обычно пускают в ход следующий аргумент: "Это заставит чужие страны относиться к нам с уважением; они будут бояться оскорбить или провоцировать нас, если будут знать, что мы обладаем таким могучим ресурсом". Для чего приводят они такой аргумент, раз они не рассматривают фонд погашения как военный фонд, из которого они могут черпать средства для ведения войны? Нельзя ведь пользоваться им одновременно и для нанесения ущерба неприятелю и для уплаты долга. Если налоги взимаются, как и должны взиматься, для покрытия военных расходов, то какую помощь окажет при их взимании фонд погашения? Ровно никакой. Не потому министры расхваливают фонд погашения, что владение последним даст им возможность взимать новые и добавочные налоги. Они знают, что он не будет иметь такого действия. Они его расхваливают, ибо знают, что будут в состоянии заменить налоги фондом погашения и использовать его, как они всегда это делали, для ведения войны и для уплаты процентов по новым займам. Их аргумент означает именно это или ничего не означает, ибо фонд погашения не обязательно способствует росту богатства и процветания страны, а именно от этого богатства и процветания зависит, может ли народ нести новые тяготы. Что имел г-н Ванситтарт в виду в 1813 г., утверждая, что "преимущество нового финансового плана, которое скажется в дальнейшем и состоит в возможности образовать в мирное время фонд в 100 млн. ф. ст., в качестве фонда против возобновления военных действий, имеет огромное значение. Оно даст в руки парламента орудие мощи и может привести к весьма важным результатам... Нам могут возразить, что наличие в резерве большого фонда для покрытия расходов на новую войну может, пожалуй, сделать правительство нашей страны заносчивым и честолюбивым и поэтому создаёт тенденцию к вовлечению нас без всякой необходимости в новые конфликты". По нашему мнению, это довольно разумное возражение. Как отвечает на него г-н Ванситтарт? "По этому вопросу я сказал бы, основываясь на долгом опыте и наблюдении, что для наших соседей лучше рассчитывать на умеренность нашей страны, чем нам полагаться на них. Я не думаю, что план вызывает возражения с этой точки зрения. Если бы накопленные суммы были употреблены не по назначению вследствие заносчивого или честолюбивого поведения нашего правительства, то порицание должно пасть на головы тех, кто злоупотреблял этими суммами, а не тех, кто вложил их в руки правительства для целей защиты. Они выполнили свой долг, предоставив средства для обеспечения величия и славы нашей страны, хотя эти средства и могут быть использованы для целей честолюбия, грабежа и опустошения". Такие замечания весьма естественны в устах министра, но мы полагаем, что накопленное сокровище было бы более безопасно под охраною народа и что у парламента имеются дела поважнее, чем снабжение министров средствами для обеспечения величия и славы страны. Он обязан принимать все меры против неправильного использования ресурсов страны "вследствие заносчивого и честолюбивого поведения нашего правительства" или "для целей честолюбия, грабежа и опустошения". Что план г-на Ванситтарта может каким-нибудь образом обеспечить лучше, чем старый план, использование в дальнейшем 100-миллионного фонда для нужд государства - это весьма странная претензия, по поводу которой д-р Гамильтон делает следующие замечания: "Мы совершенно не в состоянии составить себе ясное представление о ценном сокровище, о котором здесь идёт речь. Как только какая-либо сумма государственных бумаг покупается комиссарами и помещается на их имя, такая же сумма государственного долга фактически ликвидируется. Принимается ли с этой целью парламентское постановление или нет, это только вопрос формы. Если деньги остаются инвестированными в бумагах на имя комиссаров, то эти бумаги могут быть снова отправлены на биржу для продажи, когда опять вспыхнет война, и этим путём можно будет получить деньги для государства. Это равносильно обращению к нации с предложением инвестировать её капитал путём покупки этого бездействующего фонда". "Верно, - замечает г-н Гэскиссон, - что если бы налоги, установленные во время войны на создание фонда погашения, продолжали взиматься и после восстановления мира, до тех пор, пока в руках комиссаров не сосредоточилась бы значительная сумма (допустим, 100 млн. ф. ст.), то государство после возобновления войны могло бы израсходовать такую сумму, не вводя новых налогов. Эта выгода присуща не исключительно этому плану, а обязательно свойственна всякому плану создания фонда погашения в мирное время". Г-н Ванситтарт должен был бы сказать: "Если бы наш фонд погашения вырос в мирное время до столь значительной суммы, что я мог бы брать из него ежегодно 5 млн. ф. ст., то я мог бы израсходовать во время новой войны 100 млн. ф. ст., не обращаясь к вам за новыми налогами. Отрицательная же сторона моего плана заключается в следующем: если я черпаю в настоящее время из фонда погашения 7 млн. ф. ст. ежегодно и принимаю меры к тому, чтобы ещё быстрее и притом через определённые промежутки времени тратить ещё более значительную часть этого фонда для текущих нужд, то фонд погашения уменьшится настолько, что не скоро, а через очень много лет я буду иметь в своём распоряжении 5 млн. ф. ст. для указанной цели". Речь по поводу предложения г-на Уэстерна о назначении комитета для рассмотрения последствий, вызванных возобновлением платежей наличнымиПроизнесена 12 июня 1822 г. (Лондон) Во вторник, 11 июня 1822 г., г-н Уэстерн внёс своё давно возвещённое предложение по поводу возобновления платежей наличными, сформулированное следующим образом: "Да будет назначен Комитет для рассмотрения влияния, которое оказало на сельское хозяйство, обрабатывающую промышленность и торговлю Объединённой империи, а также на положение различных классов общества проведение в жизнь закона 50-го года царствования Георга III о восстановлении прежнего стандарта денежного обращения. Пусть будет сделан об этом доклад палате общин". Вслед за этим г-н Гэскиссон внёс следующую поправку: "Палата общин не будет изменять золотой и серебряный стандарт ни в пробе, ни в весе, ни в величине". Дебаты по этому вопросу продолжались две ночи, во вторую из которых г-н Рикардо произнёс следующую речь: Я в значительной мере согласен с тем, что сказано было моим уважаемым другом (г-ном Холдимандом), который говорил последним, и в особенности с его взглядом на результат подготовительных мер, принятых Английским банком для возобновления платежей звонкой монетой. Нельзя отрицать, что способ, каким Английский банк производил свои покупки золота, чтобы запастись металлическими деньгами, существенно затронул интересы государства. Как велико было действие этой ошибки Английского банка или в какой именно степени закупки им слитков повлияли на стоимость золота, это невозможно было установить; но какова бы ни была эта степень, стоимость обращающихся денег возросла, а цены товаров понизились в той же мере. Мой уважаемый друг (г-н Холдиманд) сказал, что пока Английский банк обязан был оплачивать свои банкноты золотом, государство отнюдь не было заинтересовано во вмешательстве в деятельность банка, поскольку речь шла о сумме бумажно-денежного обращения: если бы эта сумма была слишком низка, то дефицит был бы восполнен путём ввоза золота, а если бы она была слишком высока, она была бы уменьшена путём обмена бумажных денег на золото. С этим мнением я не вполне согласен, потому что возможен такой промежуток, в течение которого страна может испытывать большие неудобства вследствие чрезмерного сокращения обращения банкнот. Чтобы разъяснить свои взгляды на этот предмет, позвольте мне привести пример. Предположим, что Английский банк свёл бы размер своих выпусков до 5 млн. ф. ст., - к каким последствиям это привело бы? Иностранные вексельные курсы обратились бы в нашу пользу, и значительные количества слитков были бы ввезены. Слитки в конце концов были бы перечеканены в деньги и заместили бы бумажные деньги, которые были бы извлечены из обращения ранее; однако, до того как слитки были бы, таким образом, перечеканены, в течение того времени, когда совершились бы все эти операции, количество обращающихся денег сократилось бы до очень низкого уровня, цены товаров упали бы, и мы испытывали бы значительные бедствия. Нечто подобное и имело в действительности место. Английский банк привёл свои дела в полное расстройство благодаря тому способу, каким он вёл свои подготовки к возобновлению платежей наличными; ничто не приносило так много вреда, как его крупные закупки золота в тот период, на который я указал. Банк должен был хорошо помнить, что билль моего достопочтенного друга (г-на Пиля) не обязывал банк возобновить уплату звонкой монетой раньше 1823 г. До наступления этого срока Английский банк был обязан платить только слитками, а в 1819 г., когда этот билль прошёл, сундуки банка содержали достаточно большие запасы, чтобы удовлетворить всем требованиям, связанным с окончательным проведением в жизнь билля достопочтенного г-на Пиля. Я всегда рассматривал этот билль как эксперимент, произведённый с целью установить, не может ли Английский банк вести свои операции - и притом с выгодой для общих интересов страны - на основе принципа оплаты своих банкнот не монетой, а в слитках. Я ничуть не сомневаюсь, что если бы Английский банк вёл свою предварительную подготовку разумно, если бы он ограничился фактически наблюдением за движением вексельных курсов и цены золота и регулировал свои выпуски соответственно этому, то годы 1819, 1820, 1821 и 1822 дали бы хороший результат при реализации той части плана, которая предусматривала обмен банкнот только на слитки; в результате парламент продолжил бы осуществление этой части плана на много лет сверх первоначально назначенного срока. Я был убеждён, что ход дела был бы именно таков, если бы Английский банк воздержался от производства тех совершенно ненужных закупок золота, которые привели к столь многим весьма неприятным последствиям. Но мой уважаемый друг (г-н Холдиманд) сказал, что Английский банк увеличил размеры своих банкнот до прежнего уровня и именно потому не создал благоприятного вексельного курса и прилива золота. Я отрицал, что это было так, я отрицал, что выпуски Английского банка были в настоящее время так же велики, как в 1819 г.; допуская, однако, ради развития аргументации, что они были таковы, я всё же обвинил бы Английский банк в том, что он не увеличил свои выпуски с целью оказать воздействие на иностранные вексельные курсы и предупредить вредные последствия значительного ввоза золота. О поведении Английского банка в этом вопросе один уважаемый директор его (г-н Маннинг) сказал на прошлом заседании в порядке оправдания, что Английский банк не был господином собственных действий; он указал, что нарекания, вызванные по всей стране многочисленными казнями за подделку банкнот, были направлены против Английского банка людьми, желавшими принудить его ускорить замещение монетой его банкнот достоинством в 1 и 2 ф. ст. Однако Английский банк сам лишил себя этого преимущества своей оппозицией против всякого рода платежей металлом в ходе дискуссий в Комитете и в палате общин. Я, однако, думаю, что, после того как Английский банк накопил значительные количества золота, он считал целесообразным заменить свои банкноты в 1 и 2 ф. ст. золотом в форме монеты и именно в силу приведённых им прежде оснований; но это соображение не должно было заставить Английский банк ограничить свои выпуски и покупать значительные количества золота. На действие этого ограничения выпусков и этих закупок золота я и указывал. Известны протесты Английского банка перед Комитетом и канцлером казначейства по поводу вредных последствий ограничения его права на выпуск банкнот. Почему же Английский банк сам способствует злу, против которого он возражает, почему он производит новые закупки, имея переполненные сундуки, почему он предпринимает шаги, столь неизбежно ведущие к усилению зла? Я могу приписать это только одной причине, а именно тому, что Английский банк не имеет никакого понятия о принципах денежного обращения и совершенно не знает, как управлять в такой важный момент сложной машиной, которая ему доверена. После того, что здесь было сказано о характере билля г-на Пиля уважаемым членом от Шефтсбери (г-ном Лейчестером), я был очень удивлён, что он пришёл к заключению о необходимости голосовать за назначение Комитета. Если прежние меры, поскольку парламент осуществляет их в этом билле, были правильны, то для чего нужен Комитет? Признанной целью внесённого предложения является изменение денежного стандарта; я не могу понять поэтому, каким образом уважаемый джентльмен, приведя аргументы в пользу существующего стандарта, мог бы голосовать за предложение, имеющее целью изменение его. Мой уважаемый друг, член от Ньютона (г-н Герней), сказал, что дело начато не с надлежащего конца, что следовало в первую очередь призвать частных банкиров платить по своим банкнотам звонкой монетой, а затем уже предложить Английскому банку следовать тем же путём. Я думаю, что такое предложение было бы абсурдным. Английский банк имел в своих руках власть обесценивать свои банкноты или увеличивать их стоимость путём регулирования своих выпусков в таких размерах, какие ему были угодны, - власть, которой провинциальные банки не имели. Английский банк мог снизить, как это было в 1812 и 1813 гг., стоимость своей однофунтовой банкноты до 14 шилл., или же, идя противоположным путём, поднять её стоимость до двух соверенов при условии, что Монетный двор не противодействовал бы этим операциям, чеканя новую монету. Невозможно было поэтому требовать, а если бы и было возможно, то в высшей степени несправедливо, чтобы частные банки извлекали из обращения свои банкноты и платили по ним звонкой монетой и в то же время оставляли этому огромному Левиафану, Английскому банку, право выпускать свои бумажные деньги по произволу без обязательства разменивать их на металл. Касаясь этой темы, я должен сказать, что мои взгляды были очень плохо поняты как внутри, так и вне стен парламента. Надеясь, что я не слишком сильно злоупотребляю снисходительностью палаты, я желал бы использовать этот случай, чтобы объясниться. Делая это, я считаю наиболее удобным начать с замечания, которое обронил в ходе прений уважаемый олдермен <член городского совета. - Прим. ред.> (г-н Хайгет). Он сказал, что если бы цена золота была показателем обесценения денежного обращения, то мой аргумент, основанный на этом, мог бы быть правильным; пожертвовать 3-4% при восстановлении прежнего стандарта было бы пустяком по сравнению с теми выгодами, которыми сопровождалось это восстановление; однако уважаемый олдермен не разделяет мнения, что цена золота является показателем обесценения денежного обращения. Так вот, что касается этой части моих взглядов, то вся трудность вопроса сводится к значению, которое мы придаём слову "обесценение". Совершенно очевидно, что уважаемый олдермен и я понимаем это слово в различном смысле. Предположим, что в стране существует только металлическое денежное обращение и что благодаря обрезыванию оно потеряло 1/10 своего веса; предположим, например, что соверен сохранил только 9/10 металла, который он должен содержать в силу закона, и что вследствие этого цена золотых слитков, измеряемая таким мерилом, поднимется выше их монетной цены, - разве деньги страны не будут в этом случае обесценены? Я вполне уверен, что уважаемый олдермен признает верность этого вывода. Вполне возможно, что, несмотря на обесценение монет, стоимость их подымается всё же в силу общих причин, влияющих на стоимость золота, как, например, война или уменьшение производительности рудников, откуда ежегодно получается золото; стоимость последнего может повыситься настолько, что обрезанные соверены приобретут на рынке большую стоимость по сравнению с той, какую они имели до уменьшения их веса. Но разве не правильно будет тогда сказать, что наши деньги обесценены, хотя стоимость их и возросла? Большая ошибка, допущенная в этом вопросе, заключалась в смешении слов "обесценение" и "уменьшение стоимости". Что касается до находящихся в обращении денег, то я сказал уже и повторяю теперь, что цена золота является показателем их обесценения, а не показателем стоимости их. Именно по этому вопросу меня неправильно поняли. Если бы, например, металлический стандарт денежного обращения сохранял одну и ту же постоянную стоимость и монета была обесценена путём обрезывания или если бы бумажные деньги были обесценены благодаря росту их количества на 5%, то это падение стоимости денег, хотя размеры его невелики, вызвало бы изменение в ценах товаров, поскольку на них влияла бы стоимость денег. Если бы металл золото (денежный стандарт) продолжал сохранять свою прежнюю стоимость, для. восстановления же стоимости денег, обесцененных на 5%, до их паритета нужно было бы повысить её только на 5%, то соответствующее понижение цен товаров было бы не более значительным. Я предполагал, что золото всегда сохраняет при этом одну и ту же постоянную стоимость; говорил ли я, однако, когда-либо, что не существует ряда других причин, могущих повлиять на стоимость золота, как и на стоимость всех других товаров? Отнюдь нет, как раз наоборот. Нет такой страны, использующей драгоценные металлы в качестве денежного стандарта, которая была бы свободна от изменений в ценах товаров, вызываемых изменением стоимости их металлического стандарта. Таким изменениям мы были подвержены до 1797 г. и должны быть подвержены им снова теперь, когда мы вернулись к металлическому стандарту. Предложенный мною план не включал мероприятий, могущих вызвать спрос на золото, и я, следовательно, имел полное основание, предвосхищая изменение в цене товаров, определить последнее только в 5%, составлявших тогда разницу между стоимостью золота и бумажных денег. Но разве введение золотого стандарта избавило бы нас от тех изменений в ценах товаров, которые являются результатом удешевления их производства в один период по сравнению с другим? Разве дальнейшее усовершенствование машин, или чрезвычайно богатый урожай, или какая-либо другая из общих причин, влияющих на понижение цен, не дали бы никакого эффекта? Разве производившиеся Английским банком неразумные закупки золота не оказали никакого действия на его стоимость? Невозможно также отрицать, что при настоящей мировой обстановке события в Южной Америке могли бы помешать регулярному снабжению Европы драгоценными металлами и, таким образом, повысить их стоимость, что повлияло бы на цены товаров опять-таки во всём мире. Мне приписывали такой экстравагантный взгляд, как невозможность изменения цен товаров больше чем на 5% с момента введения металлического стандарта. Я никогда не выдвигал такого нелепого положения - моё мнение по этому вопросу никогда не изменялось; если это не отнимет слишком много времени у палаты, я позволю себе процитировать одно место из памфлета, опубликованного мною в 1816 г. по вопросу о платежах слитками, чтобы показать палате, какого взгляда я тогда придерживался: "При наличии металлического денежного стандарта стоимость денег подвергается только таким изменениям, какие испытывает стандарт как таковой; но против таких изменений не существует никакого средства, и последние события показали, что в течение периодов войны, когда золото и серебро употребляются для содержания огромных армий вдали от родины, подобные изменения гораздо более значительны, чем это вообще допускалось. Само допущение показывает только, что золото и серебро не являются такой хорошей стандартной мерой стоимости, как это предполагалось до сих пор, ибо сами они подвергаются большим изменениям, чем это желательно по отношению к стандартной мере" <Рикардо цитирует свой памфлет "Предложения в пользу экономного и устойчивого денежного обращения">. Таковы были положения, которые я всегда выдвигал и которых я держусь и теперь. Я надеюсь, что палата простит мне эту личную ссылку на собственное мнение. Мне очень не хотелось злоупотреблять её терпением, но я поставлен в такое положение, как будто нахожусь перед судом. План мой не был принят, и всё же именно моему плану были приписаны последствия, совершенно из него не вытекавшие. Меня сделали ответственным за план, который был принят, хотя это был не мой план. (Смех и "Слушайте!") В этом - особенность моего положения, и если бы палата была столь снисходительна, чтобы позволить ещё одну ссылку на мнения, высказанные мною в этой палате в 1819 г., я покончил бы с той частью моей аргументации, которая является чисто личной. ("Слушайте, слушайте!") Вот что я сказал в своей речи во время прежнего обсуждения билля г-на Пиля. Я цитирую по обычному источнику информации - по протоколам: "Если бы палата приняла предложение уважаемого джентльмена (г-на Эллиса), то мы имели бы дело с иного рода изменением стоимости обращающихся денег, - изменением, которое палата желала бы предотвратить. Если бы эта поправка была принята, то возник бы чрезвычайный спрос на золото с целью чеканки его, а это повысило бы стоимость денег на 3 или 4% сверх первого повышения... До октября 1820 г. Английский банк не должен производить никакого сокращения [своих эмиссий], а затем произвести его лишь в незначительном размере; я не сомневаюсь в том, что, соблюдая осторожность, он сможет перейти к платежам наличными, не выплачивая ни одной гинеи золотом. Английский банк должен был бы осторожно сокращать свои выпуски, но я опасаюсь, что он сделает это слишком быстро. Если бы я мог дать ему совет, я рекомендовал бы ему не покупать слитков; но если бы даже он располагал лишь несколькими миллионами, я бы на его месте смело продавал". Так говорил я в 1819 г. Приняты ли были мои советы? Нет. Почему же я должен нести ответственность за последствия гораздо большего повышения стоимости денег по сравнению с их действительным обесценением в тот период? Выяснив этот личный вопрос, я желал бы теперь сказать несколько слов об общем вопросе, который не был, но моему мнению, разъяснён надлежащим образом. Тут всё время говорят о крайнем пределе обесценения денег, который, как известно, имел место в 1813 г.; между тем билль г-на Пиля подвергается критике, как если бы он был проведён именно в этом году и вызвал все изменения, которые имели место в денежном обращении между 1819 г. и настоящим временем. В каком положении находилось денежное обращение в 1819 г.? Оно было оставлено целиком под управлением и контролем компании купцов - людей, которые, как я охотно допускаю, отличаются прекрасным характером и преисполнены лучших намерений, но которые, несмотря на это, - в своё время я откровенно высказал такие опасения, - не признают правильных принципов денежного обращения и которые, по моему мнению, право же, ровно ничего о них не знают. (Смех.) Этой компании купцов вверено было управление крупным и важным предприятием, от которого существенно зависят благосостояние страны и устойчивость тех условий, в которых она прежде всего заинтересована. Это были люди, имевшие власть придавать своей однофунтовой банкноте стоимость в 14, в 17, в 18 или в 19 шилл., как это последовательно и имело место при их руководстве между 1813 и 1819 гг. В этом последнем году и в течение четырёх лет до него действие этой системы было таково, что стоимость денег упала до уровня, на 5% более низкого, чем паритет. То было время, благоприятное для введения такого денежного стандарта, который мог бы избавить страну от колебаний, вызываемых подобной системой и так сильно отражавшихся на жизни страны. Именно тогда (в 1819 г.) надо было ввести определённый денежный стандарт; единственная задержка состояла в необходимости решить, какой именно стандарт следует выбрать и принять. Два пути были открыты перед страной в этом случае: один заключался в том, чтобы регулировать стоимость стандарта ценой золота в данный момент, другой - в том, чтобы вернуться к прежнему стандарту. Если бы в 1819 г. стоимость денег оставалась на уровне 14 шилл. за однофунтовую банкноту, как это имело место в 1813 г., то, взвесив все выгоды и невыгоды, отсюда проистекающие, я, возможно, считал бы правильным фиксировать стоимость денег на том уровне, из которого исходило большинство существовавших тогда договоров. Но раз стоимость денег отставала от их паритетной стоимости на 5%, приходилось решать только один вопрос: установить ли денежный стандарт, исходя из тогдашней цены золота, т. е. 4 ф. ст. 2 шилл. за унцию, или сразу вернуться к старому стандарту? Принимая во внимание все обстоятельства, я полагал, что лучшим выбором является возвращение к старому стандарту. Действительное зло было совершено в 1797 г., и случай смягчить его последствия был уже потерян благодаря той линии поведения, которой держался в дальнейшем Английский банк. Ведь и после первой приостановки размена он мог, руководствуясь в своих эмиссиях правильными принципами и удерживая стоимость денег на уровне паритета или близко к нему, предупредить последовавшее затем обесценение. Меня могут спросить, как мог бы Английский банк сделать это? Я отвечу на это, что количество регулирует стоимость всех вещей. Это верно по отношению к хлебу, к деньгам и ко всякому другому товару и, быть может, более верно по отношению к деньгам, чем к какому-либо другому предмету. А если это так, то тот, кто обладал властью регулировать количество денег, мог всегда управлять их стоимостью и делать однофунтовую банкноту равной по стоимости, как я сказал раньше, 14 шилл. или двум соверенам при условии, что Монетный двор, открыв чеканку монеты для публики, не противодействовал бы эмиссиям Английского банка. Руководствуясь мудрой и благоразумной политикой, Английский банк мог бы так регулировать свои операции, что средства обращения не подверглись бы никакому обесценению начиная с 1797 г. и позже. Английский банк мог бы действительно управлять рыночной ценой слитков и иностранными вексельными курсами, но, к несчастью, он не предпринял шагов, необходимых для этой цели. Что касается билля 1819 г., то я должен сказать, что никогда не сожалел об участии, которое я принял в осуществлении этой меры. ("Слушайте, слушайте!") Нередко приходилось слышать замечания по поводу высказанного мною мнения о влиянии закупок золота Английским банком на стоимость золота, а следовательно, и на стоимость денег. Я оценивал это влияние в 5 %, что делало всё повышение стоимости денег равным 10%. Я признаюсь, что имел очень незначительное основание для того, чтобы составить себе сколько-нибудь правильное мнение об этом предмете. Сравнивая деньги с их стандартом, мы имеем известную возможность судить об их обесценении или об их относительной стоимости, но я не знаю способа, с помощью которого мы имели бы возможность точно определить изменения в их действительной или абсолютной стоимости. Моё мнение о том, что покупки Английского банка повысили стоимость денежного стандарта на 5 %, основывалось главным образом на том действии, которое, как я ожидал, должен был оказать спрос, предъявленный к общему мировому запасу, а последний равнялся по своей стоимости 15-20 млн. ф. ст. чеканной монеты. Если бы во всём мире было, как я думал, в 20 раз больше золота и серебра, чем потребовалось в последнее время Англии для восстановления её денежного стандарта в старом размере, то я сказал бы, что действие этой меры не превзошло бы 5%. Уважаемый член палаты (г-н Уэстерн), внёсший разбираемое предложение, оспаривал пригодность стандарта, признанного биллем г-на Пиля, и утверждал, что стоимость хлеба образовала бы лучший и более постоянный стандарт. Его довод в пользу этого мнения основывался на том, что средняя цена хлеба, взятая за период в 10 лет, даёт менее подверженный изменению стандарт, чем средняя цена золота. Я не совсем понимаю эту часть аргументации уважаемого члена палаты. Не то он полагает, что страна должна иметь установленный металлический стандарт, ежегодно регулируемый ценой хлеба, установленной на основе средней цены за предшествующие 10 лет, не то эта средняя цена за 10 лет определяется по истечении каждых 10 лет. Так вот, каким бы способом ни определялась эта средняя цена, тем ли методом или иным, в стоимости средств обращения происходили бы внезапные и значительные изменения. Сегодня, например, денежный стандарт был бы установлен на основе цены хлеба при средней его цене в 80 шилл. за квартер, а завтра, если бы в силу соответствующего постановления настал срок для исправления денежного стандарта, могло бы стать необходимым повысить его до 85 или 90 шилл., вызывая, таким образом, внезапное изменение во всех денежных платежах от одного дня к другому. (Г-н Уэстерн выражает здесь своё несогласие.) Я очень сожалею, что не совсем понял уважаемого члена, и не буду настаивать на этой части его аргументации. Он должен, однако, согласиться, что брать среднюю цену хлеба как лучшую меру стоимости - это в высшей степени ошибочный принцип. Притом же уважаемый член (г-н Уэстерн) приводил в защиту такой меры стоимости объединённый авторитет Локка и Адама Смита, которые утверждали, что средняя цена хлеба за 10-летний период представляет менее изменчивую меру, чем золото. Чтобы подкрепить это мнение, он привёл цены, взятые в соответствии с такими средними. Но крупная ошибка этой аргументации заключается в следующем: цитируемые авторы предполагали, что деньги, исходя из стоимости которых они обосновывали своё мнение о неизменности хлебного стандарта, представляют сами по себе неизменную меру, имеющую одну и ту же стоимость в течение всех лет, за которые выводилась средняя, - иными словами, для того чтобы доказать, что стоимость золота более изменчива, чем стоимость хлеба, они были вынуждены предположить с самого начала, что золото не изменяется в стоимости. Но если нельзя утверждать, что мера, которой определяется стоимость хлеба, не изменяет своей стоимости, то как можно сказать, что относительная стоимость хлеба не изменилась? ("Слушайте, слушайте!") Если они должны допустить, что эта мера изменчива, - а кто будет отрицать это? - то что станется со всеми их аргументами? ("Слушайте, слушайте!") Я не только не думаю, что хлеб является лучшей мерой стоимости, но я считаю его гораздо худшей мерой, более зависимой в своей внутренней стоимости от разных неустойчивых условий. Каковы действительные факты? В населённых странах люди вынуждены взращивать хлеб на землях худшего качества, чем та, какую они стали бы обрабатывать при отсутствии столь сильного спроса на средства существования. Следовательно, в таких странах цена хлеба должна повыситься, чтобы вознаградить хлебопашца, или же этот товар должен быть получен извне путём косвенного применения более значительного капитала. Имеется целый ряд причин, воздействующих на стоимость хлеба и делающих её поэтому изменчивым мерилом. Улучшения в сельском хозяйстве удешевили хлеб; открытие новых удобрительных веществ, усовершенствование молотилок - всё это имело тенденцию понизить цены. Наоборот, величина некоторых производственных затрат по отношению к капиталу, необходимому для обработки земли, а также рост населения, которое нужно снабдить пищей, имели тенденцию увеличивать цену. Таким образом, всегда существовали два фактора цены хлеба, действовавших одновременно и конкурировавших друг с другом; один уменьшал, а другой увеличивал цену этого товара, - как же можно в таком случае говорить, что стоимость хлеба представляет наименее изменчивую меру? ("Слушайте, слушайте!") Аргументация Адама Смита включала также и следующее соображение: хлеб является более постоянным мерилом на том основании, что для поддержания существования одного человека требуется в общем одно и то же количество хлеба. Это возможно, но издержки его производства тем не менее изменяются всё-таки, и это должно регулировать его цену. Я вполне соглашаюсь с уважаемым членом палаты от Эссекса, что существует также ряд обстоятельств, воздействующих на стоимость золота, но одни носят постоянный, а другие временный характер. Большая или меньшая производительность рудников является одной из постоянных причин; спрос на золото для нужд денежного обращения или производства утвари вследствие возрастающего богатства и населения был временной причиной, хотя, вероятно, значительной продолжительности. Спрос на шляпы или сукно повысил бы стоимость этих товаров, но как только необходимое количество капитала было бы затрачено на производство требующегося увеличения их количества, стоимость их упала бы до прежнего уровня. То же самое верно относительно золота: возросший спрос повысил бы его стоимость и в конце концов привёл бы к возросшему предложению его, тогда его стоимость понизилась бы до своего первоначального уровня при условии, что не возросли одновременно и издержки его производства. Нет более верного принципа, чем тот, согласно которому издержки производства являются регулятором стоимости, а спрос оказывает на неё только временное действие. Уважаемый член (г-н Уэстерн) привёл детально разработанные данные, сопоставляющие количество уплаченных в различные периоды налогов со значительно изменяющейся стоимостью квартера пшеницы на основе стоимости последней; из этого сопоставления он сделал вывод об огромном падении стоимости денег. Так вот, если эти вычисления и практическое применение их имеют какое-нибудь значение, то они должны применяться во все времена так же, как и в настоящее время. Пусть же уважаемый член палаты распространит в таком случае свои расчёты на более ранние времена, тогда мы увидим, насколько применимы его рассуждения. Если речь пойдёт, в частности, о тех трёх годах, которые я назову, то расчёты уважаемого джентльмена будут выглядеть несколько иначе, чем при отнесении их к настоящему времени. Цена пшеницы составляла в 1796 г. 72 шилл. за квартер, в 1798 г. (только два года спустя) она упала до 50 шилл., в 1801 г. (а в течение всего этого периода стоимость денег почти не изменилась) цена пшеницы поднялась неимоверно высоко - до 118 шилл. ("Слушайте!") Так велики были колебания цены хлеба в течение всего лишь трёх лет. Итак, палата имеет перед собой опыт столь краткого периода, как три года, и изменения цен за это время. Уважаемый джентльмен принимал в своей аргументации, что цена пшеницы должна быть постоянно такой, какой она является в данный период. Я же полагал, что она отнюдь не будет постоянной; я ожидал, что она поднимется; и, разумеется, если бы настоящая цена не была достаточной ценой, то было бы невозможно, чтобы она не увеличилась, ибо производство ни в коем случае не могло бы продолжаться в течение значительного периода времени при недостаточных ценах. В течение трёх лет цена квартера пшеницы изменялась в пределах от 50 до 118 шилл. Но в 1803 г., когда наше денежное обращение было обесценено гораздо сильнее, чем в каком-либо предшествовавшем году, цена её снова упала до 56 шилл. В 1810 г. она достигла 106 шилл., а в 1814 г. понизилась до 73 шилл. Изменения, говоря кратко, были бесконечны и постоянны. ("Слушайте!") Что касается цены муки, я установил, что в 1801 г. в июле продовольственное бюро в Дептфорде платило 124 шилл. за мешок муки. В декабре того же года оно платило только 72 шилл. В декабре 1802 г. оно платило за тот же самый товар и в том же самом количестве 52 шилл., в декабре 1804 г. - 89 шилл., и в последующие годы цена мешка колебалась последовательно от 99 до 50 шилл., короче говоря, была так неопределённа, как только возможно. ("Слушайте!") Я привожу все эти детали с целью показать, что цена хлеба постоянно колебалась и изменялась. Было бы удивительно, если бы это было не так. Уважаемый джентльмен выразил надежду, что ни один член этой палаты, питающий противоположное убеждение, не откажется из мотивов ложной гордости или из-за предрассудка признать какую-нибудь ранее совершённую им ошибку, в которую он мог впасть при рассмотрении этих вопросов. Я могу уверить уважаемого джентльмена, что, поскольку дело касается меня, я не позволю себе поддаться влиянию глупой гордости этого рода. Уважаемый джентльмен сделал ряд достаточно подробных замечаний по поводу представленного палате показания г-на Тука, в котором он рассматривает влияние изобилия товаров на понижение цен. Говорят, что цены упали значительно больше чем на 10%, но г-н Тук отметил особо, что из всех упомянутых им товаров нет ни одного, о понижении стоимости которого он не мог бы дать объяснений. Общее количество предметов потребления, доставленных на наши рынки в продолжение периода, о котором говорил уважаемый джентльмен, превзошло количество, доставленное в течение какого-либо прежнего периода; среди же импортированных товаров были некоторые, как сахар и хлопок, цены которых продолжали с тех пор падать. Но это, несомненно, не могло быть неожиданностью для палаты, наблюдавшей рост их количества. Уважаемый джентльмен много распространялся об убытках, которые страна потерпела, по его мнению, вследствие займов, заключённых в периоды низких цен государственных фондов; чтобы сделать эти невыгоды ещё более явными, уважаемый джентльмен произвёл расчёты в стоимости квартера пшеницы по хлебным ценам тех времён. Затем уважаемый джентльмен указал на повышение цен фондов со времени заключения мира и сказал: "Чтобы уплатить этот капитал по существующей стоимости денег, я требую добавочного количества квартеров хлеба". Всякий, кто слышал речь уважаемого джентльмена, естественно, предположил бы, что повышение цены фондов было необходимо связано с возросшей стоимостью денег. Но это не могло быть так; если бы стоимость денег имела к этому какое-нибудь отношение, то это дало бы противоположный эффект. Изменение стоимости денег не имеет никакого отношения к этому вопросу; если бы дивиденды выплачивались на основании более дорогого стандарта, то и цены исчислялись бы также на основе этого дорогого стандарта, а если бы дивиденды оплачивались на основании менее дорогого стандарта, то и цены также исчислялись бы на базе такого стандарта. В продолжение американской войны трёхпроцентные консоли продавались по такому низкому курсу, как 53, а затем они поднялись до 97. В то время не делалось попыток воздействия на денежное обращение. Какое поэтому могла иметь отношение к цене фондов стоимость обращающихся денег? Если кто-нибудь нуждается теперь в деньгах под закладные, он может получить их из 4%, между тем как в продолжение последней войны он вынужден был платить 7 или 8% и к тому же доставать деньги окольным путём. "Вся аргументация может быть сведена к констатированию простого факта, который заключается в следующем: те, кто инвестирует теперь денежные суммы в государственных фондах, получают за них низкий процент; те, кто инвестировал деньги во время войны, получали значительный процент. Что касается аргумента, который был выдвинут моим уважаемым другом, членом от Шрюсбери (г-ном Беннетом), то я не могу согласиться с ним. Мой уважаемый друг утверждал, что вся потеря от перечеканки денег в царствование короля Вильяма, когда они были возвращены из обесцененного в здоровое состояние, составляла около 2,5 млн. ф. ст.; в эту сумму он оценивал неудобства и потери для отдельных лиц. Но мой уважаемый друг забыл, что во всех странах имелись обязательства на сумму во много раз большую, чем наличные деньги, и что, следовательно, потеря должна была быть гораздо значительнее, чем её оценивает мой уважаемый друг. Сумма, на которую были выданы обязательства, могла в действительности превышать сумму денег в 20 или в 50 раз, поэтому интересы отдельных сторон были бы затронуты соответственно. Было совершенно ясно, что всякое изменение, произведённое в стоимости обращающихся денег, должно по необходимости затронуть как в настоящее время, так и во все другие времена либо одну, либо другую сторону, связанную этими обязательствами; но такой эффект произведённой реформы был совершенно естественным и неизбежным. Возвращаясь к вопросу, находящемуся на рассмотрении палаты, я должен сказать, что предложение уважаемого члена палаты от Эссекса было рассчитано на пробуждение и возобновление тревоги, которая, как я надеялся, уже давно улеглась. Оно было рассчитано на возможность причинить много вреда. ("Слушайте!") Если бы имелся какой-нибудь шанс, что предложение уважаемого джентльмена получит поддержку палаты, то успех его должен будет сопровождаться теми последствиями, о которых так красноречиво и подчёркнуто говорил на прошлом заседании мой достоуважаемый друг (г-н Гэскиссон). Всякий человек старался бы всеми силами избавиться от денег, которые могли бы подвергнуться громадному и немедленному обесценению. Каждый старался бы извлечь их из обращения, судьбу которого он предвидел; он непосредственно обратил бы их в золото, суда, товары - в имущество любого рода, которое могло бы, по его мнению, скорее сохранить постоянную стоимость, чем деньги. Я думал, что мера, принятая в 1819 г., была гибельной для провинции главным образом из-за неосновательной паники, которую она создавала в умах некоторых людей; к этому следует также прибавить те неопределённые опасения, которые весьма сильны у людей, всегда боящихся, что случится что-нибудь такое, сущность чего они сами не могут определить. Эта паника теперь улеглась, эти опасения рассеялись; обесценение стоимости наших денег, которое мы имели несколько лет тому назад, вероятно, не повторится в будущем, если мы будем и дальше сохранять принятые нами меры; я думаю поэтому, что изменять закон, нарушение которого опрокинуло бы установленный нами великий принцип, было бы самой немудрой вещью в мире. Я льщу себя надеждой, что после страданий, которые страна пережила вследствие закона о приостановке размена банкнот Английским банком, подобная мера никогда больше не будет принята. Мой уважаемый друг (г-н Беннет) констатировал, что обесценение стоимости денег составляло в 1813 г. около 42%. Я думаю, что мой уважаемый друг чересчур преувеличил размер обесценения. Высшая цена, которой когда-либо достигало золото, да и то только на короткое время, составляла 5 ф. ст. 10 шилл. за унцию. Даже и в этом случае банкнота была обесценена только на 29%, потому что на 5 ф. ст. 10 шилл. в банкнотах можно было купить такое же количество товаров, как и на 3 ф. ст. 17 шилл. 10 1/2 пенс. в золотой монете. Если, таким образом, 5 ф. ст. 10 шилл. в банкнотах стоили 3 ф. ст. 17 шилл. 10 1/2 пенс. в золоте, то 100 ф. ст. в банкнотах стоили 71 ф. ст. золотом, а 1 ф. ст.- 14 шилл., что представляет обесценение на 29%, а не на 42%, как заявил мой уважаемый друг. При другом способе формулировать это положение может действительно казаться, что стоимость денег повысилась теперь на 42%: если банкнота, стоившая в 1813 г. 14 шилл., стоит в настоящее время 20 шилл., то банкнота, стоившая тогда 100 ф. ст., стоит теперь 142 ф. ст.; но, как я уже заметил, нет ничего более трудного, как определить изменения стоимости денег. Чтобы сделать это сколько-нибудь точно, мы должны были бы иметь неизменную меру стоимости, но такой меры мы никогда не имели и никогда не будем иметь. В данном случае стоимость золота могла упасть, а стоимость бумажных денег повыситься; следовательно, когда они встречаются и находятся в паритете друг с другом, то повышение стоимости бумажных денег может не равняться целиком прежней разности между ними. Итак, никто не может определить с точностью стоимость денег для какого-либо отдельного периода. Когда мы говорили об обесценении, мы всегда имели стандарт, с помощью которого это обесценение могло быть измерено. Меня сильно удивил другой аргумент, выдвинутый моим уважаемым другом (г-ном Беннетом): он возражал против поправки моего достопочтенного друга (г-на Гэскиссона) на том основании, что она не даёт ему достаточной гарантии против возможности нового изменения денежного стандарта когда-либо в будущем. Он, повидимому, опасался, что при известных условиях могут снова прибегнуть к мероприятию 1797 г. Говоря коротко, мой уважаемый друг (г-н Беннет) стоял за сохранение денежного стандарта, установленного биллем г-на Пиля, и тем не менее сейчас же прибавил - это показалось мне в высшей степени непоследовательным, - что будет голосовать за предложение уважаемого члена палаты от Эссекса (г-на Уэстерна), направленное на изменение этого стандарта. Г-н Рикардо кончил свою речь, извинившись перед палатой за то, что так долго злоупотреблял её снисходительностью. Палата приступила к голосованию в три часа утра.
План учереждения национального банка
ПРЕДИСЛОВИЕ МАК-КУЛЛОХАПо окончании сессии парламента и по возвращении в провинцию Рикардо имел намерение использовать часть своего досуга, чтобы подготовить к опубликованию следующую работу: он выработал план, при осуществлении которого государство могло бы, по его мнению, получать прибыль от эмиссии бумажных денег, причём гарантии против неудобств, свойственных бумажному обращению, отнюдь не должны были уменьшиться. Было известно, что ещё до своей последней болезни он привёл своё намерение в исполнение, и после смерти среди его бумаг найдены были приводимые здесь страницы. Неизвестно, считал ли Рикардо необходимым какое-либо изменение или дополнение, за исключением одного лишь пункта. Закончив работу, он показал свою рукопись одному из членов своей семьи, находившемуся в это время около него; последний указал ему на те трудности, которые могли встретиться в провинции при получении денег для путевых издержек, если бы банкноты одного округа не оплачивались в другом. Рикардо признал, что для устранения этого неудобства следует принять какие-нибудь меры, но думал, что для этого было бы достаточно какого-нибудь весьма простого мероприятия. Повидимому, он не успел изложить, какое именно мероприятие казалось ему пригодным для этой цели, и друзья его сочли самым лучшим опубликовать рукопись с этим пояснением в том самом виде, в каком она была найдена. ПЛАН УЧРЕЖДЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКААнглийский банк выполняет две банковские операции, которые совершенно отличны одна от другой и не имеют никакой необходимой связи друг с другом: он выпускает бумажные деньги, заменяющие металлические, и авансирует деньги в виде ссуд купцам и другим лицам. Что обе эти банковские операции не имеют между собой никакой необходимой связи, вытекает со всей очевидностью из следующего: они могут выполняться двумя отдельными учреждениями без малейшего ущерба как для страны, так и для купцов, для которых такие ссуды весьма удобны. Предположим, что у Английского банка отнята привилегия эмиссии бумажных денег и что в дальнейшем последняя будет предоставлена только государству с подчинением его той же регламентации, какой в настоящее время подчиняется Английский банк, т. е. с обязательством оплачивать свои банкноты по предъявлении звонкой монетой, - как может пострадать от этого хотя бы в малейшей степени национальное богатство? Мы совершали бы тогда, как и теперь, все сделки и вели бы торговлю страны при помощи дешёвого орудия обращения - бумажных денег, вместо дорогого - металлических денег; мы точно так же получали бы все выгоды, проистекающие от того, что эта часть национального капитала становится производительной, принимая форму сырого материала, пищи, одежды, машин и инструментов, вместо того чтобы оставаться бесполезной в форме металлических денег. Государство или правительство по полномочию государства должно Английскому банку сумму, значительно большую, чем вся сумма банкнот, находящихся в обращении; правительство должно Английскому банку не только 15 млн. ф. ст. - первоначальный капитал, который был отдан в ссуду государству из 3%, - но и ещё несколько миллионов, которые авансированы ему под билеты казначейства, аннуитеты и пенсии в размере половинного жалованья и другие обязательства. Очевидно, следовательно, что если бы правительство было само единственным эмиссионером бумажных денег, а не занимало их у Английского банка, то разница касалась бы только процентов: Английский банк перестал бы получать их, а правительство - платить их, но все остальные классы общества находились бы в таком же положении, как и в настоящее время. Очевидно также, что в обращении находилось бы ровно столько же денег; в этом отношении было бы совершенно безразлично, выпускаются ли 16 млн. ф. ст. бумажных денег, находящиеся теперь в обращении в Лондоне, правительством или какой-либо банковской корпорацией. Купцы не испытывали бы никакого стеснения из-за трудности получить обычный кредит путём учёта векселей или каким-либо другим способом: прежде всего объём таких ссуд должен в основном зависеть от количества денег, находящихся в обращении, последнее же было бы точно таким же, как и прежде; далее, Английский банк должен был бы давать взаймы купцам такую же долю находящихся в обращении денег, не большую и не меньшую. Если верно, что ссуды, выданные правительству Английским банком, превышают всю сумму банкнот последнего, находящихся в обращении, - а я полагаю, что вполне доказал это, - то часть его ссуд правительству, а также все его ссуды другим лицам, очевидно, должны быть сделаны из других фондов, находящихся в его владении или распоряжении; этими фондами он продолжал бы владеть и после того, как правительство погасило бы свой долг ему и все его банкноты были бы извлечены из обращения. Пусть не говорят поэтому, что, поскольку речь идёт об эмиссиях бумажных денег, хартия Английского банка должна быть возобновлена на том основании, что если бы это не было сделано, то купцы были бы лишены обычных способов получения кредита; надеюсь, я доказал, что они будут иметь не меньшую возможность заключать займы, чем прежде. Можно сказать, однако, что если бы Английский банк был лишён той части своих операций, которая состоит в выпуске бумажных денег, то у него не было бы стимула продолжать своё существование в форме акционерной компании, и он решил бы тогда ликвидировать товарищество. Это, по-моему, совершенно не так, ибо он мог бы всё же использовать с прибылью свои собственные фонды. Но предположим, что я неправ и что компания была бы распущена. Какие неудобства испытала бы благодаря этому торговля? Объединённым капиталом компании может управлять несколько директоров, выбранных общим собранием владельцев, или же этот капитал может быть разделён между самими владельцами так, что каждая часть его будет находиться в ведении того лица, которому она принадлежит. Но разве это может изменить действительные размеры капитала или тот эффект, какой он даёт при использовании его для коммерческих целей? Вероятно, он ни при каких условиях не будет находиться в ведении индивидуальных владельцев, а будет собран в массу или в массы, и им будут управлять с большим умением и бережливостью, чем им управляет теперь Английский банк. Слишком много значения придавалось всегда тем выгодам, которые торговля извлекает из услуг, оказываемых ей Английским банком. Я считаю их совершенно незначительными в сравнении с услугами, оказываемыми купцам частными фондами отдельных лиц. Мы знаем, что в настоящее время ссуды, выдаваемые Английским банком купцам путём учёта, представляют ничтожную сумму; имеется также множество показаний, свидетельствующих, что эти ссуды никогда и не были очень значительны. Все фонды, находившиеся в распоряжении Английского банка в течение последних 30 лет, хорошо известны. Они состояли из его собственного капитала и накоплений и из суммы правительственных вкладов, а также вкладов отдельных лиц, пользующихся Английским банком в качестве банкира. Из этого совокупного фонда должна быть вычтена сумма металлической наличности и слитков в сундуках банка, сумма авансов предъявителям квитанций на займы, заключаемые каждый год, и сумма авансов, выдаваемых правительству тем или иным путём. Только остаток, получающийся после всех этих вычетов, мог быть использован для коммерческих целей; будь его размеры установлены, он, я уверен в том, оказался бы сравнительно небольшим. Один остроумный человек сделал на основании предъявленных парламенту в 1797 г. документов, в которых Английский банк принял известное число за единицу и привёл далее шкалу своих учётов за различные годы, следующее вычисление: он сравнил эту шкалу с другими документами, также предъявленными парламенту, и вычислил, что сумма денег, выдававшаяся в ссуду купцам путём учёта, колебалась в течение трёх с половиной лет, предшествовавших 1797 г., от 2 млн. до 3 700 тыс. ф. ст. Это - ничтожная сумма для такой страны, как наша; она должна составлять только незначительную часть тех сумм, которые ссужаются с такими же целями частными лицами. В 1797 г. ссуды, выданные Английским банком только правительству, не считая принадлежащего банку капитала, также отданного в ссуду правительству, превышали больше чем в три раза сумму ссуд, выданных всей массе купцов. В последнюю сессию парламента для рассмотрения закона о залогах, а также отношений между отправителями товаров из-за границы и их получателями был назначен Комитет палаты общин. Этот Комитет вызвал для дачи показаний г-на Ричардсона, представляющего фирму Ричардсон, Оверенд и Ко, и видных учёных маклеров в Сити. "Вопрос. Не имеете ли вы обыкновение учитывать по временам в широком размере векселя маклеров и других лиц, выдаваемые под залог товаров, находящихся в их руках? Ответ. В очень значительном размере. Вопрос. Не вели ли вы дело учёного маклера и денежного агента в весьма обширном размере, значительно большем чем кто-либо другой в этом городе? Ответ. Думаю, что в значительно больших размерах. Вопрос. На сумму в несколько миллионов ежегодно? Ответ. На сумму во много миллионов: около 20 млн. ежегодно, иногда больше". Показания г-на Ричардсона достаточно доказывают, по-моему, что размеры операций такого рода, в которых Английский банк не принимает никакого участия, очень велики Может ли кто-нибудь сомневаться, что если бы Английский банк прекратил своё существование и разделил свои фонды между отдельными владельцами, то операции г-на Ричардсона и других, занимающихся тем же делом, значительно разрослись бы С одной стороны, к ним чаще обращались бы для получения денег путём учёта, а с другой - люди, имеющие свободные деньги обращались бы к ним, чтобы найти применение для этих денег. То же, а не большее количество денег потребовалось бы для предприятий этого рода; но если бы ни Английский банк, НИ отдельные владельцы, лично управляющие принадлежащими им фондами, не использовали этих денег, то они неизбежно нашли бы свой путь, по прямому или по обходному каналу, в руки г-на Ричардсона или какого-нибудь другого денежного агента и были бы использованы ими для поднятия торговли и поощрения промышленности страны, ибо никаким другим способом нельзя сделать эти фонды в большей мере доходными для тех, кому они принадлежат. Если мой взгляд на этот предмет правилен, то ясно, что торговля страны ничуть не пострадает от того, что Английский банк будет лишён права выпускать бумажные деньги, если, конечно, правительство будет выпускать таковые в размерах, равных банковскому обращению; единственным .последствием лишения Английского банка этой привилегии было бы перемещение прибыли, получающейся от процента по выпускаемым таким образом деньгам, от банка к правительству. Однако остаётся ещё одно возражение, на которое следует обратить внимание читателя. Говорят, что правительство не может быть облечено правом выпуска бумажных денег без риска, что оно, наверное будет злоупотреблять им и что всякий раз, когда ему настоятельно понадобятся деньги для ведения войны, оно перестанет платить по своим билетам звонкой монетой по предъявлению; начиная с этого момента деньги превратятся в правительственные бумаги с принудительным курсом. Надо признать, что облечение правительства как такового, иначе говоря - министров, правом выпуска бумажных денег представляло бы большую опасность. Но я предлагаю вручить это право комиссарам, которые могут быть лишены своего официального положения только путём голосования одной или обеих палат парламента. Я предлагаю также принять меры предупреждения против всяких сношений между этими комиссарами и министрами, запретив всякого рода денежные сделки между ними. Комиссары не должны ни под каким предлогом ссужать деньги правительству или находиться даже в малейшей степени под его контролем или влиянием. Над комиссарами, в такой мере независимыми от них, министры имели бы меньше власти, чем они имеют теперь над директорами Английского банка. Опыт показывает, как мало последняя корпорация способна была сопротивляться уговорам министров и как часто её убеждали увеличивать ссуды под билеты и боны казначейства. Это происходило как раз тогда, когда, по её собственному заявлению, такое увеличение сопровождалось величайшим риском и для Английского банка и для государственных интересов. Ознакомление с перепиской между правительством и Английским банком, предшествовавшей приостановке им платежей в 1797 г., показывает, что, по мнению Английского банка, необходимость этой меры была вызвана (в этом банк, по моему мнению, ошибался) частыми и настоятельными требованиями увеличения ссуд со стороны правительства. А раз это так, то я спрашиваю: не обладала ли бы страна большей гарантией против всяких влияний на умы эмиссионеров бумажных денег, побуждающих их отклоняться от строгой линии своих обязанностей, если бы бумажные деньги этой страны выпускались комиссарами на основе предложенного мною плана, а не Английским банком, как он теперь организован? Если правительство нуждалось в деньгах, то его надо было обязать взимать их законным путём: облагая народ налогами, выпуская и продавая билеты казначейства, путём фундированных займов или же займов в одном из многочисленных банков, существующих в стране, но ни в каком случае нельзя было позволить, чтобы оно занимало их у тех, кто имеет право выпуска денег. Если бы фонды комиссаров увеличились настолько, что у них оставался бы излишек, который можно было бы использовать с выгодой, то пусть они открыто покупали бы на рынке за этот излишек правительственные обязательства. Если же, напротив, для них сделалось бы необходимым сократить свои выпуски, не уменьшая своего запаса золота, то пусть они продают имеющиеся у них обязательства тем же порядком на открытом рынке. При таком порядке пришлось бы пожертвовать ничтожной суммой, равной биржевой премии, которую предположительно получают те, кто употребляет свой капитал и свой опыт на сделки с государственными бумагами; но в таком важном деле эта сумма не имеет никакого значения. Следует вспомнить, что благодаря большой конкуренции в этого рода делах биржевая премия сводится к очень незначительной доле и что сумма таких сделок никогда не может быть велика; размеры обращения удерживаются на своём надлежащем уровне при помощи незначительного сокращения или расширения размеров находящегося в сундуках комиссаров сокровища в монете и слитках. Вложить деньги в покупку бумаг, приносящих проценты, явилось бы целесообразным лишь в период, когда благодаря росту богатства и процветанию страны для неё потребовалось бы непрерывно увеличивающееся количество средств обращения; продать же часть этих бумаг потребовалось бы лишь в противоположном случае. Ясно, таким образом, что можно добиться полнейшей гарантии против влияния, которое, как это может показаться на первый и поверхностный взгляд, правительство может иметь на эмиссионную деятельность Национального банка; благодаря организации такого учреждения вся сумма процентов, которые уплачиваются теперь правительством Английскому банку, стала бы частью национальных ресурсов. Я предложил бы, таким образом, следующий план учреждения Национального банка: 1. Назначаются пять комиссаров, которым вручается исключительное право выпуска всех бумажных денег страны. 2. По истечении срока хартии Английского банка в 1833 г. комиссары должны выпустить на 15 млн. ф. ст. бумажных денег, составляющих отданный в ссуду правительству капитал банка. Таким образом, этот долг будет погашен, и уплата 3% по этой ссуде с этого времени прекращается. 3. В этот же день комиссары должны будут выпустить на 10 млн. ф. ст. бумажных денег, использовав их следующим образом: на известную часть этой суммы, какую они сочтут достаточной, они должны купить у Английского банка или у других лиц золотые слитки, а на остаток они должны выкупить в течение шести месяцев после названного дня часть правительственного долга Английскому банку по билетам казначейства. Выкупленные таким образом билеты казначейства должны в дальнейшем оставаться в распоряжении комиссаров. 4. Английский банк должен взять на себя обязательство выкупить через наиболее короткий промежуток времени после истечения срока своей хартии все свои банкноты, находящиеся в обращении, оплатив их новыми банкнотами, выпущенными правительством. Он не должен платить по ним золотом, но обязан всегда держать резерв новых банкнот, равный по своей сумме его собственным банкнотам, остающимся в обращении. 5. Банкноты Английского банка будут иметь хождение в течение шести месяцев по истечении срока хартии банка, после чего они не будут больше приниматься правительством в уплату налогов. 7 <В подлиннике шестой параграф отсутствует. - Прим. ред.>. В продолжение шести месяцев по истечении хартии Английского банка банкноты провинциальных банков должны прекратить своё хождение, банки же, их выпустившие, будут обязаны платить по ним, подобно Английскому банку, правительственными банкнотами. Они будут иметь право платить по своим банкнотам золотой монетой, если они это предпочтут. 8. Для того чтобы держатели правительственных банкнот, живущие вне городов, имели все гарантии, в различных городах будут назначены агенты, обязанные удостоверять по предъявлении подлинность банкнот, прилагая к ним свою подпись, после чего такие банкноты будут обмениваться только в том округе, где они получили соответствующую подпись. 9. Банкноты, выпущенные в данном округе или носящие подпись агента этого округа, не должны оплачиваться в другом; однако при внесении известной суммы этих банкнот в качестве вклада в окружной банк, первоначально выпустивший или подписавший их, можно получить вексель на какой-нибудь другой округ, оплачиваемый в банкнотах последнего. 10. Банкноты, выпущенные в провинции, не будут оплачиваться монетой в провинции же, но за такие банкноты можно получать векселя на Лондон, которые будут оплачиваться там монетой или лондонскими банкнотами по выбору предъявителя. 11. Если кто-либо внесёт в лондонское отделение вклад монетой или лондонскими банкнотами, то он может получить вексель, оплачиваемый банкнотами любого округа, который он должен назвать при получении векселя. Точно так же всякий, кто вносит в лондонское отделение вклад монетой, может получить лондонские банкноты на такую же сумму. 12. Комиссары будут обязаны покупать в Лондоне любое количество золота стандартной пробы, превышающее 100 унций весом, какое только может быть им предъявлено, по цене, не меньшей чем 3 ф. ст. 17 шилл. 6 пенс. за унцию. 13. С момента учреждения Национального банка комиссары будут обязаны платить по своим банкнотам и векселям золотой монетой по требованию. 14. Немедленно по учреждении Национального банка будут выпускаться банкноты достоинством в 1 ф. ст. и выдаваться по требованию всем в обмен за банкноты более крупного достоинства, если лицо, представляющее последние, предпочитает такие однофунтовые банкноты монете. Это правило остаётся в силе только в течение одного года, поскольку дело касается Лондона, но должно иметь постоянную силу для всех провинциальных округов. 15. Следует твердо запомнить, что в провинциальных округах агенты не будут обязаны давать ни банкнот за монету, ни монету за банкноты. 16. Комиссары должны действовать в качестве всеобщего банкира для всех государственных ведомств, точно так же как это делает в настоящее время Английский банк, но они не должны выполнять такой функции ни по отношению к какой-либо корпорации, ни по отношению к отдельному лицу. По содержанию статьи 1 я уже высказался. Комиссаров, по моему мнению, должно быть пять; они должны получать соответствующее жалованье за работу, которую должны будут выполнять и контролировать; они должны назначаться правительством, но не смещаться им. Статья 2 относится к способу, каким новое бумажное обращение должно заместить старое. Как это предусмотрено выше, будет выпущено на 25 млн. ф. ст. бумажных денег. Эта сумма не будет слишком велика для обращения всей страны, но если бы она оказалась такой, то излишек может быть обменён на золотую монету или же комиссары продадут часть своих билетов казначейства и уменьшат, таким образом, объём бумажного обращения. Имеются и другие способы, путём которых могла бы быть осуществлена замена старых банкнот новыми, если бы Английский банк работал совместно с комиссарами, но предлагаемый способ даст надлежащий эффект. Было бы желательно, чтобы правительство купило у Английского банка по справедливой оценке все его здания, если бы он согласился расстаться с ними, а также взяло на службу всех его клерков и служащих. Предоставление клеркам и служащим банка оплачиваемых занятий было бы лишь актом справедливости, для государства же было бы полезно иметь в своём распоряжении для ведения его дел столько опытных и испытанных работников. В мой план входит также полное прекращение оплаты Английского банка за управление делами национального долга сейчас же по истечении срока хартии банка; этой отраслью государственной деятельности должны управлять и контролировать ее комиссары. Статья 3 предусматривает меры для депонирования надлежащего количества золотой монеты и слитков, так как без этого новое учреждение не могло бы функционировать. На деле в распоряжении комиссаров было бы 14 млн. ф. ст. вместо 10 млн. Из одной из последующих статей видно, что комиссары будут действовать в качестве банкира для всех государственных ведомств, а так как опыт показал, что эти ведомства отдают в руки своего банкира в среднем 4 млн. ф. ст., то в добавление к 10 млн. комиссары получили бы эти 4 млн. Если бы 5 млн. ф. ст. были обращены на покупку монеты и слитков, то 9 млн. были бы инвестированы в переходных обязательствах. Если бы 8 млн. ф. ст. были инвестированы в золоте, то 6 млн. оставались бы на покупку билетов казначейства. Если бы после второй уплаты, произведённой комиссарами, государство было должно Английскому банку ещё какую-либо сумму, то этот долг должен был быть покрыт путём займа или же сделан предметом специального соглашения между правительством и Английским банком. Статьи 4 и 5 имеют в виду замену старых бумажных денег новыми и защищают Английский банк от оплаты звонкой монетой его банкнот, могущих находиться в обращении. Для держателей последних это не может сопровождаться никакими неудобствами, ибо Английский банк обязан давать им правительственные банкноты, которые обмениваются по предъявлении на золотую монету. Статья 7 предусматривает меры для замещения старых провинциальных банкнот новыми. Провинциальные банки не встретили бы никакого затруднения в деле получения для этой цели новых банкнот. Все их сделки завершаются в конечном счёте в Лондоне, и обращение их покоится на обязательствах, там депонированных. Располагая этими обязательствами, они могли бы получить требующееся им количество денег, чтобы обеспечить платежи по своим банкнотам; следовательно, провинция никогда не испытывала бы недостатка в соответствующем количестве средств обращения. Сумма находящихся в обращении банкнот провинциальных банков оценивается приблизительно в 10 млн. ф. ст. Статья 8 предусматривает гарантии против обмана и подделки. Прежде всего бумажные деньги нельзя выпускать в каждом округе, их нужно высылать полностью из Лондона. Вполне справедливо поэтому, чтобы какой-нибудь государственный агент занимался проверкой банкнот в таком количестве местностей, в каком это будет сочтено удобным. По истечении известного времени обращение каждого округа будет обслуживаться банкнотами, выпущенными в этом же округе, но по формам, присланным для этой цели из Лондона. Статья 9 предусматривает меры для возможно большего облегчения доставки переводов и платежей в любой округ страны. Если кто-нибудь желает уплатить в Йорке 1 тыс. ф. ст. лицу, живущему в Кентербери, и вносить с этой целью 1 тыс. ф. ст. банкнотами, выпущенными в Йорке, агенту, находящемуся в этом городе, то он может получить вексель на 1 тыс. ф. ст., подлежащий оплате в Кентербери, в банкнотах этого округа. Статья 10 обеспечивает платежи монетой в Лондоне по банкнотам каждого округа. Если кто-нибудь нуждается в Йорке в 1 тыс. ф. ст. монетой, то правительство не должно брать на себя расхода по их пересылке ему: он должен взять этот расход на себя. Такой суммой можно пожертвовать ради пользования бумажными деньгами. Если же жители данного округа не пожелают пожертвовать этой суммой, они смогут пользоваться золотом вместо бумажных денег; однако они должны будут всё же взять на себя расходы, связанные с получением золота. Статья 11, так же как и статья 9, заботится об облегчении доставки переводов и платежей во все части нашей страны. Статья 12 предусматривает меры против слишком большого ограничения объёма бумажно-денежного обращения, обязывая комиссаров выпускать бумажные деньги во всякое время в обмен на золото по цене 3 ф. ст. 17 шилл. 6 пенс. за унцию. Регулируя свои выпуски ценой золота, комиссары никогда не могут ошибиться. Было бы, быть может, целесообразно обязать их продавать золотые слитки по 3 ф. ст. 17 шилл. 9 пенс., тогда монета никогда не вывозилась бы, потому что её никак нельзя было бы получить дешевле 3 ф. ст. 17 шилл. 10 1/2 пенс. за унцию. При такой системе колебания цены золота могли бы иметь место лишь в пределах от 3 ф. ст. 17 шилл. 6 пенс. до 3 ф. ст. 17 шилл. 9 пенс. Тщательно следя за рыночной ценой золота и увеличивая выпуск бумажных денег, когда эта цена приближается к 3 ф. ст. 17 шилл. 6 пенс. или падает ниже, и ограничивая их выпуск или извлекая из обращения небольшую часть их, когда цена золота приближается к 3 ф. ст. 17 шилл. 9 пенс. или подымается выше, комиссары должны были бы совершить, вероятно, не больше дюжины сделок в год по покупке и продаже золота, поскольку же таковые производились бы, они всегда были бы выгодны и давали бы учреждению небольшую прибыль. Однако так как в таком важном деле, как управление бумажно-денежным обращением большой страны, желательно всегда проявлять осторожность, то было бы правильно образовать большой запас золота, как это предложено в одной из предыдущих статей; такой запас был бы очень полезен при признании целесообразности регулировать от времени до времени вексельный курс с чужими странами путём вывоза золота, а также путём сокращения количества бумажных денег. Статья 13 обязывает комиссаров платить по своим банкнотам золотой монетой по требованию. Статья 14 предусматривает меры снабжения провинциального обращения банкнотами достоинством в 1 ф. ст. Они должны выпускаться в Лондоне сейчас же после учреждения Национального банка, а не впоследствии; в дальнейшем же они будут контрассигнованы в провинции. Банкноты всех категорий, пронумерованные и подписанные, могут посылаться из Лондона в форме чека на имя провинциальных агентов. Получив их, агент должен будет контрассигновать их, прежде чем они выпускаются в обращение; он должен быть строго ответственным за всё количество, посланное ему, точно так же как служащие, распределяющие гербовые марки, ответственны за всю сумму марок, посланных им. Едва ли необходимо отметить, что провинциальные агенты должны находиться в постоянной переписке с лондонским округом с целью сообщения сведений о всех своих операциях. Предположим, что провинциальный агент дал 100 банкнот в 1 ф. ст. за банкноту в 100 ф. ст.; он должен сообщить об этом факте, отсылая в то же время крупную банкноту, за которую он отдал мелкие купюры. Его счёт в Лондоне будет соответственно кредитован или дебитован. Если он получает 100 ф. ст. банкнотами и выдаёт вексель на другой округ, он должен послать уведомление как в лондонский округ, так и в округ, на который он выдал вексель, отсылая при этом, как и в прежнем случае, банкноту. Его счёт будет закредитован на 100 ф. ст., а агент другого округа будет считаться должником на эту сумму. Нет необходимости входить в дальнейшие детали; я, быть может, сказал уже и так слишком много, но я стремился показать, что гарантия против подлога является при такой системе почти совершенной; все документы по каждой сделке выпускались бы первоначально в Лондоне и должны были бы либо быть возвращены в Лондон, либо находиться в руках провинциального агента. Статья 15 является только пояснительной по отношению к некоторым из предыдущих статей. Статья 16 постановляет, что комиссары должны действовать как банкир для всех государственных ведомств и только для государственных ведомств. Если бы предлагаемый нами план был принят, страна сберегла бы, вероятно, по самому умеренному подсчёту 750 тыс. ф. ст. в год. Предположим, что обращение бумажных денег составляет 25 млн. ф. ст., а правительственные вклады - 4 млн., всего - 29 млн. ф. ст. Были бы сбережены проценты на всю эту сумму, за исключением, быть может, 6 млн. ф. ст., которые считалось бы необходимым сохранить в качестве депозитов в золотой монете и слитках и которые, следовательно, были бы непроизводительны. Итак, сберегая 3% только с 23 млн. ф. ст., государство выиграло бы 690 тыс. ф. ст. К этому следует прибавить 248 тыс. ф. ст., которые теперь платятся за управление национальным долгом, вместе же это составляет 938 тыс. ф. ст. Предположим теперь, что расходы составляют около 188 тыс. ф. ст.; в распоряжении государства остаётся, следовательно, ежегодно сбережение, или выигрыш, в 750 тыс. ф. ст. Читатель заметит, что согласно нашему плану никто, кроме комиссаров в Лондоне, не будет иметь права выпускать самостоятельно банкноты. В провинции агенты отдельных округов, связанные с комиссарами, могут давать банкноты одной категории вместо банкнот другой; они могут давать векселя под банкноты или банкноты за векселя, выданные на них, но в первую очередь каждая из этих банкнот должна быть выпущена комиссарами в Лондоне. Всё происходит, таким образом, строго с их ведома. Если в силу каких-нибудь обстоятельств денежное обращение окажется чрезмерным в каком-нибудь отдельном округе, будут приняты меры для перемещения излишка в Лондон; если же обращение в данном округе недостаточно, то из Лондона получается дополнительное количество банкнот. Если денежное обращение в Лондоне будет чрезмерным, то это сейчас же скажется в возросшей цене слитков и в падении иностранных вексельных курсов совершенно таким же образом, как обнаруживается чрезмерность денежного обращения в данное время. Средство против этой чрезмерности то же, что и теперь, а именно уменьшение количества средств обращения, достигающееся путём сокращения количества находящихся в обращении бумажных денег. Это сокращение может быть осуществлено двумя путями: с помощью продажи билетов казначейства на рынке и аннулирования полученных за них бумажных денег или путём обмена золота на бумажные деньги и опять-таки аннулирования последних при вывозе золота. Вывоз золота не будет производиться комиссарами. Он будет осуществлён торговыми операциями купцов, которые не преминут использовать золото для наиболее выгодного перевода денег при чрезмерном и избыточном количестве бумажных денег. Наоборот, при недостаточно высоком уровне денежного обращения в Лондоне мы имели бы два способа поднять его: путём покупки правительственных обязательств на рынке и создания для этой цели новых бумажных денег или путём ввоза и покупки комиссарами золотых слитков, для чего пришлось бы создать новые бумажные деньги. Ввоз был бы осуществлён при помощи торговых операций, так как золото всегда представляет прибыльную статью ввоза, если количество находящихся в обращении денег недостаточно. ПриложениеДоклад Комитета о высокой цене золотых слитков Начав свою работу, Комитет прежде всего установил, каковы были цены золотых слитков и ставки вексельного курса за ряд прошлых лет, в частности, в течение последнего года. Комитет нашёл, что рыночная цена золотых слитков, равная согласно уставу Монетного двора его величества 3 ф. ст. 17 шилл. 10 1/2 пенс. за унцию стандартной пробы, поднялась в 1806, 1807 и 1808 гг. до 4 ф. ст.; к концу 1808 г. она начала расти очень быстро и продолжала оставаться очень высокой в течение всего 1809 г. Рыночная цена стандартного золота в слитках колебалась за этот период от 4 ф. ст. 9 шилл. до 4 ф. ст. 12 шилл. за унцию; при цене в 4 ф. ст. 10 шилл. она превышала монетную цену почти на 15 1/2%. Комитет нашёл, что в течение трёх первых месяцев текущего года цена стандартного золота в слитках оставалась приблизительно на том же уровне, что и в течение прошлого года, колеблясь между 4 ф. ст. 10 шилл. и 4 ф. ст. 12 шилл. за унцию. В продолжение марта и апреля цена стандартного золота котировалась в таблицах Уайттенголла только один раз, а именно 6 апреля, по 4 ф. ст. 6 шилл., т. е. почти на 10% больше монетной цены. Последние котировки цены золота, данные в этих таблицах, относятся к 18 и 22 мая, когда португальское золото в монете котировалось по 4 ф. ст. 11 шилл. за унцию; португальское же золото имеет почти такую же пробу, как и наше стандартное золото. В тех же таблицах сказано, что в марте текущего года цена новых дублонов поднялась с 4 ф. ст. 7 шилл. до 4 ф. ст. 9 шилл. за унцию. Испанское золото богаче нашего на 4 1/2 - 4 3/4 грана, а это даёт разницу в стоимости почти в 4 шилл. за унцию. Из показаний свидетелей явствует, что цена иностранной золотой монеты в общем выше, чем цена слиткового золота, вследствие того, что первая находит более лёгкий сбыт на иностранных рынках. Разница между ценами испанского и португальского золота в монетах и золота в слитках составляла недавно около 2 шилл. за унцию. Комитет констатирует также, что между ценами золота в слитках, являющегося согласно данной при вывозе присяге иностранным золотом, и золота в слитках, о котором экспортёр не осмелился дать такой присяги, имеется в настоящее время, как утверждают, разница в 3-4 шилл. за унцию; первое оценивалось на рынке приблизительно в 4 ф. ст. 10 шилл. за унцию, второе стоило, как утверждают, почти 4 ф. ст. 6 шилл. В силу этих внешних различий, вызванных или расходами чеканки, или же законодательными ограничениями, цена стандартного золота в слитках, дозволенного к экспорту, и является той ценой, которую в высшей степени важно принимать во внимание в ходе настоящего исследования. Комитет полагал, что при суждении о границах этой высокой цены золотых слитков окажется также полезным иметь аналогичные сведения о ценах серебра за тот же самый период. Цена стандартного серебра на Монетном дворе его величества составляет 5 шилл. 2 пенса за унцию; на основе этой стандартной цены стоимость испанского доллара равняется 4 шилл. 4 пенс., или, что сводится к тому же, испанский доллар стоит по этой стандартной цене 4 шилл. 11 1/2 пенс. за унцию. В таблицах Уайттенголла сказано, что в продолжение 1809 г. цена новых долларов колебалась от 5 шилл. 5 пенс. до 5 шилл. 7 пенс. за унцию; иначе говоря, она превышала на 10-13% монетную цену стандартного серебра. В продолжение последнего месяца новые доллары котировались очень высоко - по 5 шилл. 8 пенс. за унцию, или больше чем на 15% выше их монетной цены. Комитет установил также, что на континенте вексельные курсы стали к концу 1808 г. очень неблагоприятными для нашей страны и продолжали оставаться ещё более неблагоприятными в течение всего 1809 г. и первых трёх месяцев текущего года. Главными центрами, с которыми в настоящее время установлен вексельный курс, являются Гамбург, Амстердам и Париж. В продолжение последних шести месяцев 1809 г. и первых трёх месяцев текущего года вексельный курс на Гамбург и Амстердам упал на 16-20% ниже паритета, а вексельный курс на Париж - ещё ниже. Вексельный курс на Португалию соответствовал другим курсам, но уровень его изменялся в связи с некоторыми обстоятельствами, которые требуют отдельного объяснения. Комитет находит, что в течение марта настоящего года, т. е. от 2 марта до 3 апреля, вексельные курсы с вышеупомянутыми тремя центрами испытали постепенное улучшение. Вексельный курс на Гамбург поднялся постепенно с 29,4 до 31; на Амстердам - с 31,8 до 33,5; на Париж - с 19,16 до 21,11. Начиная с 3 апреля и до настоящего времени они оставались приблизительно устойчивыми на указанном уровне, причём вексельный курс на Гамбург был, как показано в таблицах для экспортёров, против нашей страны, будучи ниже паритета на 9% с фунта стерлингов; на Амстердам он был ниже паритета больше чем на 7% с фунта стерлингов, а на Париж - также ниже больше чем на 14% с фунта стерлингов. При обсуждении этих фактов Комитет давно уже пришёл к выводу, что такое чрезвычайное повышение цены золота в нашей стране в соединении с такими достопримечательными паритетами наших вексельных курсов со странами континента заставляет нас искать причин этих явлений в состоянии нашего собственного денежного обращения. Однако, раньше чем принять этот вывод, совпадавший, повидимому, со всеми прежними указаниями Комитета и со всем его опытом, последний считал целесообразным исследовать более детально условия, связанные с каждым из двух приведённых фактов; он решил узнать, как объясняют это необычайное положение вещей люди, имеющие торговый опыт и детально знакомые с делом. С этой целью Комитет вызвал к себе нескольких экспортёров с обширной практикой и знанием дела и пожелал выслушать их мнения о причинах высокой цены золота и низких ставок валютного курса. IИз показаний свидетелей видно, что высокая цена золота целиком приписывается большинством их предполагаемой редкости этого предмета, вызванной необычайным спросом на него на континенте Европы. В некоторых показаниях об этом необычайном спросе на золото на континенте говорится, как о прямом результате требований французских армий; но такой рост спроса на золото объясняется также наступившей паникой и недостатком доверия, которые привели к практике припрятывания золота. Комитет держится мнения, что при здоровом и естественном состоянии британского денежного обращения, основой которого является золото, никакой рост спроса на золото в других частях мира, - как бы велик он ни был и какими бы причинами он ни объяснялся, - не может вызвать у нас на значительный период времени серьёзное повышение рыночной цены золота. Но прежде чем перейти к объяснению причин, в силу которых Комитет единодушно держится такого мнения, он считает желательным привести некоторые соображения, заставляющие его сомневаться в том, что этот спрос на золото мог, как утверждают, действительно влиять предположенным способом. Если бы на континенте существовал необычайный спрос на золото и притом в таких размерах, что он мог бы повлиять на рыночную цену его в нашей стране, то он, конечно, повлиял бы также на деле в первую очередь на цену золота на рынках континента. Можно было ожидать, что люди, приписывающие высокую цену золота у нас большому спросу извне, отметят также наличие соответствующих высоких цен его и за границей. Комитет не находит, однако, чтобы они основывали свой вывод на такой информации; поскольку же он был в состоянии проверить положение дел, он не мог констатировать соответствующего повышения цены золотых слитков на континентальных рынках при оценке их в деньгах данной страны за период повышения цены слитков у нас при оценке их в наших бумажных деньгах. Действительно, г-н Витмор, бывший управляющий Английским банком, заявил, что, по его мнению, именно высокая цена золота за границей выкачала нашу золотую монету из страны; он не мог, однако, представить Комитету никаких доказательств существования такой высокой цены. Г-н Грефюль, коммерсант, ведущий торговлю на континенте и великолепно знакомый со всеми деталями торговли, ответил на вопрос Комитета о том, произошло ли, по его мнению, в течение последнего года какое-либо изменение в цене золота на каком-нибудь из иностранных рынков: "Мне ничего неизвестно о каком-либо существенном изменении". На следующий день, уже после того как он имел возможность справиться с текущими ценами, он опять заявил Комитету: "Я должен заметить, что в последнее время за границей не замечалось никаких изменений монетной цены золота, а также никаких повышений его рыночной цены по сравнению с ценами в Англии; представленный мною документ показывает иностранные цены, переведённые в стерлинги по существующим низким вексельным курсам; превышение их над нашими рыночными ценами объясняется издержками транспорта" (этот документ находится в приложениях). Заявление г-на Грефюля проливает яркий свет на эту сторону вопроса, ибо оно показывает, что разница между ценами золота на иностранных рынках и у нас соответствует в точности разнице вексельных курсов. Документ г-на Грефюля подтверждается другим, предъявленным Комитету. Авраам Гольдсмид также заявил Комитету, что при весьма значительном повышении цены золота у нас в течение части последнего года цена его в Гамбурге колебалась не больше чем на 3-4%. Комитет здесь должен заметить, что как в Гамбурге, так и в Амстердаме, где мерой стоимости является не золото, как у нас, а серебро, чрезвычайный спрос на золото затронул бы его денежную цену, т. е. цену его в серебре; поскольку же какого-либо значительного повышения цены золота, выраженной в серебре, там в течение последнего года не наблюдается, мы можем заключить, что сколько-нибудь значительный спрос на золото не имел там места. Постоянное превышение рыночной цены золота над его монетной ценой, которое, как видно из документа г-на Грефюля, наблюдалось в течение нескольких лет одинаково в Гамбурге и в Амстердаме, может быть отчасти приписано, по мнению Комитета, тому изменению, которое произошло в относительной стоимости двух драгоценных металлов со всём мире. Много любопытных и хороших материалов по этому вопросу можно найти в приложении, в особенности в документах, представленных Комитету г-ном Алленом. В силу той же причины произошло, повидимому, падение относительной цены серебра и в нашей стране за некоторое время до того, как увеличение нашего бумажно-денежного обращения начало оказывать своё действие. Так как стоимость серебра по отношению к золоту понизилась во всём мире, то золото поднялось, следовательно, в цене на тех рынках, где серебро является установленной мерой, цена же серебра понизилась там, где установленной мерой является золото. Что касается предполагаемого спроса на золото на континенте для снабжения французских армий, то Комитет должен, далее, заметить, что если нужды военной казны значительно возросли за последнее время, то общее снабжение Европы золотом увеличилось на всю ту сумму его, какую сберегла наша великая торговая страна благодаря замене золота другим средством обращения. Комитет не может не отметить здесь следующее обстоятельство: хотя условия, которые могут вызвать такое увеличение спроса, могли действовать в последнее время с большей силой, чем в предшествующие периоды, всё же и во время прежних войн и потрясений, имевших место на континенте, действие этих условий должно было быть достаточно сильно. Сэр Френсис Бэринг очень справедливо сослался на Семилетнюю и Американскую войны и заметил, что тогда в нашей стране не испытывалось никакой нужды в слитках. Согласно таблицам, публиковавшимся для купцов, как "Бюллетени Ллойда" и "Вексельные курсы Уайттенголла", Комитет нашёл, что начиная с середины 1773 г., когда произведена была реформа золотого монетного обращения, и до середины 1799 г., т. е. через два года после приостановки размена банкнот Английским банком, рыночная цена стандартного золота в слитках оставалась неизменной и составляла всё время 3 ф. ст. 17 шилл. 6 пенс. (с учётом небольшой потери, являвшейся результатом пребывания золота на Монетном дворе, она соответствовала монетной цене в 3 ф. ст. 17 шилл. 10 1/2 пенс.); исключение составляет лишь один год от мая 1783 г. до мая 1784 г., когда она случайно поднялась до 3 ф. ст. 18 шилл. Следует отметить, что в течение того же самого периода цена португальского золота временами поднималась до 4 ф. ст. 2 шилл. Комитет отмечает также, что, согласно заявлению, сделанному Авраамом Ньюлэндом Комитету палаты лордов в 1797. г., Английский банк был часто вынужден покупать золото по более высокой цене, чем монетная; в одном же случае он расплатился за небольшое количество, которое его агент достал в Португалии, по очень высокой цене в 4 ф. ст. 8 шилл. за унцию. Комитет находит, что за весь период в 24 года, протекший со времени реформы золотого обращения до прекращения платежей наличностью Английским банком, цена стандартного золота в слитках никогда не была в течение продолжительного времени значительно выше монетной цены. До настоящего времени, когда рыночная цена золота превзошла в нашей стране его монетную цену, было два таких особо заметных периода: в царствование короля Вильяма, когда серебряная монета стоила значительно ниже своей стандартной цены, и в первые годы царствования нынешнего короля, когда золотая монета была изношена ниже своего стандартного содержания. В течение обоих этих периодов превышение рыночной цены золота над его монетной ценой объяснялось плохим состоянием денежного обращения, и в обоих случаях реформа последнего снизила рыночную цену золота до уровня монетной цены. В течение же двух лет (1796 и 1797 гг.), когда имел место недостаток в золоте, вызванный большим спросом на него со стороны провинциальных банкиров, желавших увеличить свои вклады, рыночная цена золота никогда не была выше его монетной цены. В связи с этим пунктом Комитет должен также заметить, что выслушанные им показания свидетелей вызвали в нём большие сомнения относительно достоверности сведений о недостатке золотых слитков, испытываемом в последнее время в стране. Что гинеи исчезли из обращения, - вполне бесспорно, но это так же мало доказывает недостаток в слитках, как и их высокая цена. Если золото стало дороже в силу какой-либо другой причины, а не в силу недостатка его, то люди, не могущие купить его иначе, как за высокую цену, будут весьма склонны объяснить последнюю недостатком золота. Опрошенный Комитетом купец, имеющий большие торговые обороты, говоривший очень много о недостатке золота, признал, что он не встречал бы никаких затруднений в получении такого количества золота, какое ему было бы угодно, если бы он был готов уплатить требуемую цену. Комитет напоминает, что если в течение последнего года имел место большой вывоз золота на континент, то в это же время в нашу страну были ввезены очень значительные количества золота из Южной Америки, главным образом через Вест-Индию. Перемены, происшедшие в Испании и в Португалии, а также морские и торговые преимущества нашей страны превратили её как бы в канал, через который проходит продукция рудников Новой Испании и Бразилии по пути ко всему остальному миру. Благодаря такому положению ввоз слитков и монеты даёт нам полную возможность получения первых и делает наш рынок настолько крупным, что он чувствует недостаток в золоте последним. Это прекрасно иллюстрируется тем фактом, что португальская золотая монета регулярно посылается в настоящее время в хлопковые поселения Бразилии, Пернамбуко и Марангамы <Maranham - вероятно, опечатка вместо Maranhao - Маранхао. - Прим. ред.>, тогда как доллары пересылаются в значительном количестве из Рио-де-Жанейро в нашу страну. Следует также отметить, что повышение рыночной цены серебра в нашей стране, приблизительно соответствовавшее повышению рыночной цены золота, ни в коей степени не может быть приписано недостатку серебра. Ввоз серебра в последние годы был необычайно велик, тогда как обычный отлив его в Индию и Китай приостановился. В силу всех этих оснований Комитет склонен думать, что люди, приписывающие высокую цену золота чрезвычайному спросу на этот предмет, принимают факты, не доказанные никакими показаниями, за достоверные. Но если бы даже эти утверждения были доказаны, Комитет всё же полагал бы, что объяснять высокую цену золота в нашей стране его недостатком - значит впадать в недоразумение, которое он считает важным разъяснить. В нашей стране одно лишь золото представляет меру всякой меновой стоимости, являясь тем стандартом, которым измеряются все денежные цены. Это не только результат обычаев и торговых привычек страны: закон, изданный в 14-м году царствования ныне здравствующего короля (превращённый в постоянно действующий актом 39-го года царствования короля), отнял у серебряной монеты функцию законного платёжного средства для сумм, превышающих 25 ф. ст. Так как золото представляет, таким образом, нашу меру цен, то товар считается дорогим или дешёвым соответственно тому, большее или меньшее количество золота даётся в обмен за данное количество этого товара, но определённое количество самого золота никогда не будет обмениваться на большее или меньшее количество золота той же самой стандартной пробы. При известных условиях может быть выгодно давать в обмен на золото в какой-либо специальной монете более чем равное количество другого золота, но эта разница никогда не может превысить некоторого небольшого предела. Так, например, в период, когда Английский банк был обязан платить по своим банкнотам звонкой монетой, он должен был в случае особенной нужды покупать золото с потерей для себя, чтобы сохранить или возместить свой золотой запас. Но, вообще говоря, цена золота, которая сама измеряется и выражается в золоте, не может быть повышена или понижена в силу возросшего или уменьшенного спроса на него. Унция золота будет обмениваться не больше и не меньше как на унцию золота той же самой пробы, за исключением лишь скидки, которая делается в том случае, когда одна унция перечеканена в монеты или подверглась обработке иным путём, а другая - нет; скидка делается, следовательно, за расходы чеканки или обработки. За унцию стандартного золотого слитка можно получить на нашем рынке не больше 3 ф. ст. 17 шилл. 10 1/2 пенс., если только эти 3 ф. ст. 17 шилл. 10 1/2 пенс. не составляют в наших теперешних деньгах эквивалент меньшего количества золота, чем 1 унция. Увеличение или уменьшение спроса на золото или, что сводится к тому же, уменьшение или увеличение общего предложения золота будет, несомненно, иметь существенное влияние на денежные цены всех других предметов. Возросший спрос на золото и следующий за ним недостаток в нём увеличат его стоимость по сравнению с другими предметами: то же самое количество золота купит теперь более значительное количество всех других предметов, чем прежде; другими словами, действительная цена золота или количество товаров, отдаваемых в обмен за него, повысится, а денежные цены всех товаров понизятся; денежная цена самого золота останется без изменения, но цены всех других товаров упадут. Что настоящее положение вещей не таково, - это нам великолепно известно; цены всех товаров повысились, золото же кажется повысившимся в цене только сообща с другими товарами. Если это общее действие следует приписать одной и той же причине, то эта причина может быть найдена только в состоянии денежного обращения нашей страны. Комитет считает необходимым изложить ещё подробнее принципы, управляющие, по его мнению, относительными ценами золота в слитках и золота в монете, а также бумажных денег, обращающихся вместо них и обменивающихся на них. Он считает наиболее удобным начать своё изложение, обратившись сперва к тем простым началам и постановлениям, на которых основана чеканка денег в королевском Монетном дворе. Задача её состоит в том, чтобы обеспечить народу эталон определённой стоимости: для этого на монеты из золота накладывается именем королевской власти печать, удостоверяющая, таким образом, что они имеют определенный вес и пробу. Золото в слитках является тем стандартом стоимости, с которым согласно постановлению законодательной власти должна сообразоваться стоимость монеты и с которым она должна в меру возможности отождествляться. Если бы это постановление законодательной власти было осуществлено полностью, чеканное золото имело бы такую же точно цену при обмене на все другие товары, какую оно имело бы, оставаясь в форме слитка; цена чеканного золота подвержена, однако, некоторым незначительным колебаниям. Прежде всего превращение слитков в монеты связано с некоторыми издержками. Те, кто посылает слитки для чеканки, - а всякий имеет право сделать это, хотя и не платит никакой пошлины за чеканку, - теряют проценты за всё время пребывания их золота на Монетном дворе. Эта потеря до сих пор составляла около 1% с фунта стерлингов, но можно думать, что усовершенствования в системе работы нового Монетного двора уменьшат время пребывания золота там, а следовательно, и потерю. Этот 1% с фунта стерлингов являлся пределом, или почти пределом, возможного увеличения стоимости монеты по сравнению со стоимостью слитков: предположить, что стоимость монеты могла бы благодаря какой-нибудь причине значительно перешагнуть через этот предел, значило бы допустить возможность получения высокой прибыли по сделке, не представляющей никакого риска и могущей быть заключённой кем угодно. Два обстоятельства, взятые в совокупности, объясняют, почему цена монеты понизилась в сравнении с ценой слитков, и покажут вероятный предел этого понижения до 1797 г., когда Английский банк прекратил платежи наличностью. Во-первых, монета, однажды начав своё хождение, постепенно уменьшалась в весе в силу стирания, а поэтому, будучи переплавлена, доставляла меньшее количество слиткового золота. Среднее уменьшение веса находящейся теперь в обращении золотой монеты по сравнению с весом той же самой монеты, только что покинувшей Монетный двор, составляет, согласно данным показаниям, приблизительно 1% с фунта стерлингов. В прежние времена это зло было значительно больше. Особенно сильно это чувствовалось в первые годы царствования ныне здравствующего короля, что и привело к реформе золотого монетного обращения в 1773 г. Теперь приняты, однако, все меры против этого зла не только путём уголовного наказания за всякую злонамеренную порчу золотой монеты, но также и путём особого постановления в монетном уставе. В силу этого последнего гинеи, полный вес которых составляет сейчас же после оставления Монетного двора 9 39/89 грана, перестают быть законным средством платежа, когда вес их становится меньше 8 гранов; допускаемое, таким образом, обесценение составляет максимум 1,11%. Ещё более существенной причиной понижения цены монеты является затруднение, в которое поставлены были держатели её, желавшие превратить её в слитки. Закон страны запрещает переплавлять какие-либо другие золотые монеты, кроме тех, которые потеряли законный вес; запрещается также - и это является весьма спорной политикой - вывозить нашу золотую монету и всякое иное золото, если не дана присяга, что оно не переплавлено из национальной золотой монеты. Из данных показаний явствует, что разница между стоимостью золотых слитков, относительно которых принесена требуемая для вывоза присяга, и стоимостью золота, полученного из нашей собственной монеты и могущего в силу закона быть использованным только для внутренних нужд, доходит в настоящее время до 3-4 шилл. за унцию. Оба только что упомянутых обстоятельства, бесспорно, и составляют в совокупности, по суждению Комитета, причину падения стоимости золотой монеты нашей страны при обмене её на товары ниже стоимости слитков при обмене их на товары; это падение возникло или могло возникнуть в то время, когда Английский банк платил звонкой монетой и золото поэтому могло быть получено в любом желаемом количестве. Совокупность двух указанных обстоятельств определяет, таким образом, предел перевеса рыночной цены золота над его монетной ценой приблизительно в 5 1/2 %. В основном эта депрессия должна быть приписана старой, но сомнительной политике нашей страны. Последняя, стремясь удержать монету внутри государства, привела, так же как и постоянные ограничения вывоза других предметов, к невыгодному положению монеты, обладающей на рынке менее значительной стоимостью, чем та, какую она имела бы, если бы не подвергалась никаким запрещениям такого рода. Верность этих замечаний о причинах и пределах обычной разницы между рыночной и монетной ценой золота может быть иллюстрирована ссылкой на способ обеспечения постоянного стандарта стоимости для крупных коммерческих платежей в Гамбурге. Этот способ был объяснён в заслушанных показаниях и состоит в следующем. В обычных повседневных сделках платежи производятся при помощи денег, состоящих из монет нескольких соседних государств, но серебро является, подобно золоту в Англии, стандартом для крупных коммерческих платежей. В Гамбурге отнюдь не может произойти по отношению к серебру что-либо аналогичное той разнице между рыночной и монетной ценой, какая имеется в нашей стране по отношению к золоту, ибо там приняты меры, предупреждающие действие тех трёх причин, которые мы перечислили выше (расходы на чеканку, обесценение в силу стирания или препятствия к вывозу). Крупные платежи производятся в Гамбурге в банковских деньгах, состоящих из настоящего серебра определённой пробы, внесённого в Гамбургский банк местными купцами; последние имеют в банковских книгах соответствующий кредит, обеспеченный этим серебром и переносимый с одного счёта на другой в соответствии с их нуждами. Так как серебро проверяется и взвешивается почти без всякой потери времени, то первая из упомянутых причин колебаний относительной стоимости принятого в данной стране денежного стандарта по сравнению со стоимостью слитков устраняется. После того как установлено наличие определённых масс серебра, их количество и их проба, стоимость переходит от одного лица к другому единственно при помощи банковских книг; поскольку этим путём предупреждается снашивание монеты, устраняется одна из причин её обесценения. Людям предоставляется также полное право извлекать это серебро, переплавлять и вывозить его; благодаря этому совершенно исключается второй и главный источник случайных падений стоимости принятого в данной стране платёжного средства ниже стоимости слитков того металла, которые оно должно представлять. Таким образом, в Гамбурге серебро не только мера всякой меновой стоимости, но оно сделано притом же неизменной мерой; исключения возможны лишь в случае изменения относительной стоимости серебра в связи с изменяющимся предложением этого драгоценного металла из рудников. Точно таким же образом обычай, а впоследствии и закон, который сделал золотую монету общепринятым, а в дальнейшем и единственным законным платёжным средством при крупных расчётах у нас, превратил этот металл в нашу меру стоимости. Со времени реформы золотого монетного обращения и до прекращения Английским банком платежей звонкой монетой в 1797 г. последняя была малоизменчивой мерой стоимости; она была подвержена только тем изменениям в относительной стоимости золотых слитков, которые зависят от его предложения из рудников, а также тем ограниченным расхождениям между рыночной и монетной ценой золотой монеты, которые, как было показано выше, имеют иногда место. Высший размер депрессии монеты, возможный при условии, что Английский банк платит золотом, может составлять, как мы только что констатировали, около 5 1/2%. Мы действительно констатируем, что во всё время, предшествовавшее 1797 г., разница между тем, что называется монетной ценой, и рыночной ценой золота никогда не превышала этого предела. Оказывается, однако, что со времени прекращения платежей наличными в 1797 г. появилась ещё одна причина изменения стоимости золота, даже если оно продолжает ещё быть мерой стоимости и стандартом цен; причина эта состоит в возможном излишке бумажных денег, которые нельзя превратить по желанию в золото, предел же этого изменения так же неопределёнен, как и излишек, в котором могут быть выпущены бумажные деньги. Приходится, право же, сомневаться в том, что золото всё ещё было в действительности нашей мерой стоимости, с тех пор как установилась новая система платежей Английского банка; сомнительно, есть ли у нас какой-либо другой стандарт цен, кроме денег, выпускавшихся первоначально Английским банком, а вслед за ним провинциальными банками, хотя относительная стоимость этих денег может быть столь же неопределённой, как и возможный излишек их. Является ли нашей настоящей мерой стоимости и стандартом цен это бумажное средство обращения, относительная стоимость которого так изменчива? Или им продолжает быть золото, но золото, ставшее более изменчивым в стоимости, чем оно было прежде, раз оно может быть обменено на бумажные деньги, не могущие быть по желанию превращёнными в золото? И в том и в другом случае в интересах государства желательно, чтобы стоимость наших денег снова была приведена, как только обстоятельства это позволят, в соответствие со стоимостью их законного и подлинного стандарта - золота в слитках. Если бы золотая монета нашей страны стала когда-либо слишком стёртой и неполновесной или если бы она пострадала от снижения своей стандартной стоимости, то это, очевидно, повлекло бы за собой соответственное повышение рыночной цены золотых слитков в сравнении с их монетной ценой; монетная цена - это та сумма в монете, которая эквивалентна по своей внутренней стоимости данному количеству, например унции, металла в слитках; если же внутренняя стоимость монеты изменяется, она эквивалентна меньшему количеству металла в слитках, чем прежде. Такое же превышение рыночной цены золота над его монетной ценой будет иметь место в любой стране при излишнем выпуске денег, неразменных больше на золото. Этот излишек не может быть вывезен в другие страны: поскольку же он не подлежит размену на звонкую монету, неизбежное возвращение его к тем, кто его выпустил, не имеет места: он остаётся в каналах обращения и постепенно поглощается путём повышения цен всех товаров. Увеличение объёма денежного обращения отдельной страны приведёт к повышению цен в ней точно таким же образом, как увеличение общего предложения драгоценных металлов повышает цены во всём мире. Благодаря росту их количества стоимость данной части средств обращения понижается при обмене на другие товары: другими словами, денежные цены всех других товаров повышаются, а вместе с ними растёт и цена слитков. Таким образом, излишек средств обращения отдельной страны вызовет превышение рыночной цены золота над его монетной ценой. Не менее очевидно, что если в какой-либо стране цены товаров растут благодаря увеличению количества денег, тогда как в соседней стране такое же увеличение количества денег не приводит к подобному повышению цен, то прежнее соотношение стоимостей средств обращения этих двух стран нарушится. Так как внутренняя стоимость данной части средств обращения одной страны уменьшилась, в то время как внутренняя стоимость их в другой остаётся без изменения, то вексельный курс будет установлен между этими двумя странами к невыгоде первой. Итак, общее повышение всех цен, повышение рыночной цены золота и падение иностранных вексельных курсов - таковы последствия излишнего количества денег в стране, установившей у себя средство обращения, не могущее быть ни вывезенным в другие страны, ни разменянным по желанию на монету, которую можно вывозить. IIКомитет переходит теперь к следующему разделу своего исследования - состоянию вексельных курсов между нашей страной и странами континента в данное время. И здесь, как в предыдущем разделе, Комитет сначала изложит развитые перед ним практиками взгляды на причины существующего состояния вексельных курсов. Г-н Грефюль, оптовый торговец, ведущий торговлю главным образом со странами континента, падение вексельного курса между Лондоном и Гамбургом в 1809 г. почти на 18% ниже паритета всецело приписывает "торговому положению нашей страны по отношению к странам континента, - тому обстоятельству, что ввоз и уплата субсидий намного превысили вывоз". Он, однако, заявил, что составил своё суждение о торговом балансе в значительной степени на основе состояния самого вексельного курса, хотя его суждение было подкреплено также и его собственными наблюдениями. Он особенно настаивал на большом ввозе из балтийских портов, а также на ввозе вин и водок из Франции, в обмен за которые из нашей страны не было вывезено никаких товаров. С другой стороны, он заметил, что вывоз колониальных товаров на континент увеличился в прошлом году по сравнению с предыдущими годами и что в течение последнего года вывоз колониальных товаров и британских изделий в Голландию значительно превышал ввоз оттуда; однако этот перевес не был, по его мнению, вполне равен перевесу ввоза из других частей света, если судить по состоянию вексельного курса, а также на основании его общих наблюдений. Далее он объяснил, что, строго говоря, не торговый баланс, а платёжный баланс был неблагоприятен для нашей страны, а именно это он считает главной причиной данного уровня вексельных курсов. Он заметил также, что платёжный баланс данного года может быть против нас, в то время как общая сумма вывоза превышает сумму ввоза. Согласно его мнению, причина современного состояния вексельного курса является полностью коммерческой, учитывая также заграничные расходы правительства; перевес же ввоза над вывозом объясняет, почему в течение определённого периода времени уровень вексельного курса был неизменно на 16% против нашей страны. Сэр Френсис Бэринг заявил Комитету, что, по его мнению, современное неблагоприятное положение вексельных курсов есть следствие двух весьма важных причин: ограничения торговли с континентом и увеличения бумажно-денежного обращения в нашей стране, связанного с недостатком в слитках. В качестве примеров противоположного положения вещей он привёл Семилетнюю и Американскую войны, во время которых также приходилось перевозить деньги на континент для расходов на флот и армию, и всё же недостатка в слитках тогда не чувствовалось. Комитет опросил также одного выдающегося коммерсанта, ведущего торговлю на континенте, показание которого содержит множество ценных сведений. Этот джентльмен заявляет, что вексельный курс не может в настоящее время упасть в какой-либо европейской стране, поскольку он высчитывается в монете определённой стоимости или в каком-либо заместителе, разменном на такую монету со скидкой на расходы по пересылке монет, или их заместителей и включает прибыль, адекватную риску, сопровождающему такие пересылки. Он полагает, что падение нашего вексельного курса, превысившее за последние 15 месяцев размер таких накидок, должно быть, без сомнения, объяснено прекращением размена наших бумажных денег на звонкую монету; если бы бумажные деньги были разменны и в обращении находились гинеи, то неблагоприятный торговый баланс едва ли причинил бы столь значительное падение вексельного курса, как 5-6%. Своё мнение об этом предмете он развивает более подробно в дальнейших ответах, взятых из различных частей его показаний. "Какими причинами объясняете вы настоящее неблагоприятное состояние вексельного курса?" - "Первое большое обесценение произошло, когда французы овладели Северной Германией и издали несколько строгих декретов против сношений с Англией; в то самое время, когда на все английские товары и имущество был наложен секвестр, платежи за счёт Англии должны были всё время производиться, средства же на покрытие их должны были получаться из Англии. Поэтому в продажу поступило больше векселей, чем их требовалось людям, которым нужно было производить платежи в Англии. Письменная корреспонденция была также весьма затруднена и ненадёжна; нельзя было найти, как в обычное время, посредников, которые покупали и отсылали такие векселя в Англию для реализации; в то же время нельзя было возбудить в суде дело против лиц, которые предпочитали отказаться от уплаты по предъявленному векселю, или оспаривать расходы по вексельным операциям. Все эти причины оказывали давление на вексельный курс, а платежи в пользу Англии поступали только через большие промежутки времени; после того как в силу этих обстоятельств вексельный курс понизился, слитки же удерживались в Англии, чтобы восполнить эти случайные колебания, операции между Англией и континентом продолжали производиться по низкому курсу. Вопрос о том, сколько стоит фунт стерлингов, является тут чисто теоретическим, так как нельзя получить за него сумму, которую он должен собой представлять". "Раз вексельный курс колеблется против Англии на 15- 20% ниже паритета, то какую часть этой потери следует приписать влиянию мер к перерыву торговых сношений, принятых неприятелем в Северной Германии и вызвавших такой перерыв, и какую - влиянию неразменности банкнот Английского банка, - обстоятельству, которому вы приписали часть этого обесценения?" - "Я считаю, что это обесценение имело первоначально место благодаря мерам неприятеля, но то, что оно не было устранено, я приписываю невозможности обмена английских банкнот на звонкую монету". "Кроме тех поступков неприятеля, о которых вы говорили, какие другие причины продолжали оказывать влияние на континенте на понижение вексельного курса?" - "Очень значительные погрузки из портов Балтийского моря, которые совершались под векселя, продаваемые сейчас же после погрузки, и не согласовывались с интересами собственников в Англии; в интересах последних продажа этих векселей могла быть отсрочена до того времени, когда на такие векселя будет иметься спрос. Продолжающиеся затруднения и ненадёжность письменной корреспонденции между Англией и континентом, сокращение на континенте числа торговых домов, желающих заниматься такими операциями и принимающих за счёт Англии либо векселя, выданные в различных портах, где имели место погрузки, либо за её же счёт векселя, выданные под отправленный груз, либо, наконец, векселя, выданные в предположении, что вексельный курс должен подняться или, вероятно, поднимется. Продолжительность срока, требующегося для превращения товаров в наличность, благодаря обходным путям, которыми вынуждены идти товары. Значительность денежных сумм, уплачиваемых заграничным судовладельцам и достигающих в некоторых случаях, как, например, при покупке русской конопли, почти стоимости купленного товара. Недостаток посредников, затрачивавших прежде большие капиталы на вексельные операции; в настоящее время благодаря возросшим трудностям и опасностям, связанным с такими операциями, посредники, которые могли бы производить сложные операции, антиципирующие вероятные будущие результаты, встречаются редко". Приведённые ответы, а также остальная часть показаний этого джентльмена исходят из более или менее отчётливо выраженного принципа, согласно которому золото в слитках является подлинным регулятором как стоимости местных средств обращения, так и уровня вексельных курсов, тогда как свободный размен бумажных денег на драгоценные металлы и свободный вывоз этих металлов кладут предел падению вексельных курсов и не только удерживают последние от падения ниже этого предела, но и выправляют их путём восстановления баланса. Комитету незачем указывать, в каких именно отношениях эти мнения, высказанные практиками, являются неопределёнными и неудовлетворительными и в каких отношениях они противоречат друг другу. Однако информация, содержащаяся в этих показаниях, может оказать значительную помощь при установлении подлинных причин настоящего положения вексельного курса. Комитет полагает, что нет ни одного вопроса торговой политики более ясного, чем вопрос о вексельных курсах. Вексельный паритет между двумя странами - это та сумма денег той или иной страны, которая точно равняется по своей внутренней стоимости данной сумме денег другой страны или содержит в себе, иначе говоря, золото или серебро того же веса и той же пробы. Если 25 французских ливров содержат точно такое же количество чистого серебра, как и 20 шилл., то 25 составит вексельный паритет между Лондоном и Парижем. Если одна страна употребляет в качестве своей основной меры стоимости золото, а другая - серебро, то паритет между этими странами за какой-либо определённый период может быть установлен только с учётом относительной стоимости золота и серебра за этот именно период; поскольку же относительная стоимость двух драгоценных металлов подвержена колебаниям, вексельный паритет между двумя странами не представляет строго постоянную величину, а колеблется в известных пределах. Иллюстрацию к этому можно найти в показаниях, где приведён расчёт паритета между Лондоном и Гамбургом, равного 34 фламандским шиллингам и 3 1/2 гротам за фунт стерлингов. Такой уровень вексельного курса устанавливается в течение известного периода на основе торгового или платёжного баланса между двумя странами и последующей диспропорции между спросом и предложением на векселя, выданные одной страной на другую; он является отклонением в одну или другую сторону от действительного и постоянного паритета. Но этот действительный паритет изменится, если произойдёт какая-нибудь перемена в денежном обращении одной из двух стран; эта перемена может состоять в стирании или деградировании металлических денег ниже их стандарта, в дискредитации принудительного бумажно-денежного обращения или же в наличии излишка неразменных бумажных денег. Если, таким образом, внутренняя стоимость данной части денег одной страны понизится, то эта часть не будет уже больше равняться такой же части денег другой, какой она равнялась до того. Но хотя действительный паритет средств обращения, таким образом, изменится, купцы, имеющие мало поводов обращаться к паритету или совсем не имеющие их, продолжают высчитывать вексельный курс на основе прежнего наименования паритета. При таком положении вещей необходимо проводить различие между действительным и вычисленным вексельным курсом. Тогда вычисленный вексельный курс, приводимый в таблицах, употребляемых купцами, будет включать не только золотую разницу курса, являющуюся результатом состояния торговли, но также и разницу между первоначальным и новым паритетом. При вычислении эти две суммы могут быть сложены или противопоставлены друг другу. Если страна, деньги которой обесценены по сравнению с деньгами другой страны, имеет притом же неблагоприятный торговый баланс, то вычисленный уровень вексельного курса будет казаться более неблагоприятным, чем действительная разница в вексельном курсе. Точно так же при благоприятном торговом балансе данной страны вычисленная норма вексельного курса будет казаться менее неблагоприятной, чем действительная разница в вексельном курсе. До новой перечеканки нашего серебра в эпоху короля Вильяма вексельный курс между Англией и Голландией, вычисленный обычным способом соответственно стандартам монетных дворов этих стран, составлял 25% против Англии, причём стоимость ходовой монеты в Англии была ниже её стандартной стоимости на 25% с лишним; таким образом, при вполне стандартном вексельном курсе действительный вексельный курс был бы на деле в пользу Англии. Таким же образом может случиться, что обе части расчёта окажутся в одно и то же время противоположными и равными друг другу; тогда действительный вексельный курс, который, поскольку он зависит от состояния торговли, будет в пользу страны, окажется равным номинальному вексельному курсу, а этот последний, поскольку он зависит от состояния денежного обращения, будет против неё. В этом случае вычисленный вексельный курс будет на уровне паритета, действительный же вексельный курс окажется благоприятным для этой страны. Опять-таки средства обращения обеих стран, ведущих торговлю друг с другом, могут подвергнуться изменениям в равной степени или в неравной; в последнем случае вопрос о действительном состоянии вексельных курсов между ними становится более сложным, но он решается на основании тех же самых принципов. Мы можем успешно иллюстрировать это, не выходя за пределы настоящего исследования, современным состоянием лондонского вексельного курса на Португалию, приведённым в таблицах от 18 мая текущего года. Вексельный курс Лондона на Лиссабон составляет, повидимому, 67 1/2. Эти 67 1/2 пенс. за мильрейс представляют исстари установленный вексельный паритет между двумя странами, и соответственно этому мы продолжаем говорить, что паритет именно таков. А между тем из показаний г-на Лайна явствует, что в Португалии все платежи совершаются в настоящее время в силу закона наполовину в металлических деньгах, наполовину в правительственных бумажных, причём эти бумажные деньги обесценены на 27%. Таким образом, на все платежи, совершаемые в Португалии, существует дисконт или потеря в 13 1/2, и вексельный курс в 67 1/2, хотя и представляет номинально паритет, в действительности на 13 1/2 % против нас. Если бы вексельный курс был действительно на уровне паритета, он котировался бы по 56,65 или же был бы, очевидно, по сравнению с прежним паритетом, установленным до обесценения португальских средств платежа, на 13 1/2 % в пользу Лондона. Представляют ли при данном вексельном курсе на Лиссабон эти 13 1/2 % против нашей страны действительную разницу в вексельном курсе, вызванную ходом торговли и производством платежей правительственными деньгами Португалии, или таков номинальный и видимый вексельный курс, вызванный чем-либо в состоянии нашего Собственного денежного обращения? Или же это частью действительный, частью номинальный курс? Это можно, вероятно, определить на основе следующих соображений, к которым теперь переходит Комитет. Комитет считает, что согласно давно уже установленному принципу разница в вексельном курсе, происходящая от состояния торговли и характера платежей между двумя странами, ограничивается издержками пересылки и страхования драгоценных металлов при их передвижении из одной страны в другую; во всяком случае она не может превышать этот предел в течение значительного периода времени. Действительная разница в вексельном курсе, происходящая от состояния торговли и характера платежей, никогда не может упасть ниже суммы расходов по пересылке, включая сюда страхование. Очевидность этого тезиса настолько ясна и он до такой степени единогласно принимается всеми практиками как в торговой, так и в политической области, что Комитет считает его бесспорным. Комитет полагает, однако, что в силу тех особых обстоятельств, которые препятствуют в настоящее время торговым сношениям между нашей страной и континентом Европы, сумма расходов по пересылке и страховой премии может подняться выше того уровня, которого она достигала в обычные периоды, даже во время войны, но такой рост этих издержек может лишь понизить больше обычного предел возможного падения нашего вексельного курса; требуется, следовательно, дать объяснение его настоящему необычайному падению. Комитет решил поэтому исследовать особо это обстоятельство. Купец, о котором мы говорили выше, близко знакомый с торговлей между нашей страной и континентом, заявил Комитету, что существующие расходы по пересылке золота из Лондона в Гамбург составляют без страховой премии от 1 1/2 до 2%; так как риск меняется изо дня в день, то постоянной премии не существует; он полагает, однако, что средний риск в течение последних 15 месяцев составлял около 4%. Таким образом, общая сумма всех расходов по пересылке золота из Лондона в Гамбург составляла за эти 15 месяцев при указанном среднем риске от 5 1/2 до 6%. Авраам Гольдсмид заявил, что в последние пять или шесть месяцев 1809 г. расходы по пересылке золота в Голландию колебались очень сильно - от 4 до 7%, охватывая как страховую премию, так и издержки транспорта. Из показания же, данного Комитету о банковских делах в 1797 г., явствует, что издержки по пересылке звонкой монеты из Лондона в Гамбург составляли в военное время, включая все расходы и страховую премию, немного более 3 1/2%. Ясно, таким образом, что вследствие особых обстоятельств настоящего военного времени и возросших трудностей сношений с континентом издержки перевозки драгоценных металлов из нашей страны на континент не только подвержены большим, чем обычно, колебаниям, но и повысились очень значительно. Оказывается, однако, что за последнюю половину прошлого года при высшем размере среднего риска издержки перевозки золота в Гамбург или в Голландию не превышали, включая страхование, 7%. Они были, конечно, большими в исключительные времена, когда риск был выше этого среднего уровня. Очевидно также, что риск, а следовательно, и общая сумма издержек транспорта на внутреннем рынке или, например, в Париж была бы в среднем выше, чем расходы по пересылке золота в Амстердам или в Гамбург. Отсюда следует, что предел, до которого могут упасть вексельные курсы и на котором они могут оставаться неблагоприятными в течение значительного времени в результате состояния торговли, был в течение указанного периода гораздо ниже, чем в прежнее военное время. Очевидно также, что расходы по пересылке звонкой монеты не возросли в такой степени, а крайний предел понижения вексельных курсов не снизился настолько, чтобы дать адекватное объяснение столь значительному падению вексельных курсов - от 16 до 20% ниже паритета. В такие периоды, когда риск достигал своего максимума, возросшие издержки такой пересылки могли бы объяснить падение вексельного курса на Гамбург или Голландию несколько более чем на 7%, и возможно даже ещё большее падение вексельного курса на Париж; однако остальная часть падения, имевшая на деле место, должна быть объяснена каким-нибудь иным образом. На основании всех полученных показаний, как бы ни были они противоречивы, Комитет считает вероятным, что действительное падение вексельных курсов с континентом было вызвано до известной степени условиями торговли в нашей стране за последний год; это падение было, вероятно, в течение одного периода настолько низко, что достигло предела, диктующегося расходами по пересылке отсюда золота на соответственные рынки. Комитет склоняется к этому мнению также и в силу установленного факта перевеса ввоза с континента над вывозом (хотя эта часть вопроса возбуждает больше всего сомнений), а также на основании показаний о способе, каким в последнее время совершались платежи в нашей торговле; мы имеем в виду уплату авансов под ввоз с континента Европы и долгосрочный кредит, предоставляемый под вывоз в другие части света. Заметив, что многие приписывают полностью настоящее понижение вексельного курса с Европой большому перевесу нашего ввоза над вывозом, Комитет потребовал справку о действительной стоимости ввоза и вывоза за последние пять лет. Г-н Ирвинг, главный инспектор таможенных сборов, доставил нам наиболее точные статистические данные о ввозе и вывозе какие он только был в состоянии разработать. Он постарался также содействовать задаче Комитета, вычислив сумму, которую следовало бы вычесть из стоимости ввезённых товаров, чтобы выделить товары, в обмен на которые не вывозилось ничего. Эти вычеты состоят из стоимости продуктов рыболовства и ввоза из Ост- и Вест-Индии, представляющего ренту, прибыль и капитал, пересылаемые собственникам в нашей стране. Торговый баланс в нашу пользу за вычетом указанных статей составлял:
Поскольку это можно заключить на основании выведенных таким образом балансов, вексельные курсы в течение настоящего года, когда в связи с очень выгодными балансами двух предыдущих лет можно ожидать многочисленных платежей нашей стране, должны быть особенно благоприятны. Однако Комитет не относится с большим доверием к выводам, сделанным даже на основе исправленного документа, который мы получили благодаря усердию и знаниям главного инспектора. Согласно указаниям самого г-на Ирвинга этот документ имеет большой недостаток, ибо он не приводит никаких данных о суммах, истребованных иностранцами за фрахты, следуемые им за пользование их судами (особенно большие в данное время); с другой же стороны, нет данных о суммах, полученных от них за фрахты, следуемые нам за пользование британскими судами и повышающие стоимость вывезенных нами товаров. Не приняты также во внимание проценты на капитал в Англии, находящийся во владении у иностранцев, и на капитал за границей, принадлежащий жителям Великобритании, а также денежные сделки между английским и ирландским правительствами. Игнорируются контрабандная торговля, ввоз и вывоз слитков, о которых в таможенное ведомство не поступает никаких сведений. Опускается также весьма важная статья, изменения которой, правильно констатированные, соответствуют, вероятно, в большой степени колебаниям благоприятного баланса; речь идёт о векселях, выданных на правительство в связи с нашими морскими, военными и другими расходами в иностранных портах. Комитет надеялся получить эти данные через посредство палаты общин, но при подборе их встретились затруднения, обусловившие затяжку в исполнении важнейших частей данного приказа. Из "Отчёта, поскольку таковой мог быть составлен, о суммах, уплаченных за расходы за границей в 1793, 1794, 1795, 1796 гг.", напечатанного в приложении к докладу палаты лордов в связи с принятием билля о приостановке размена, следует, что уплаченные суммы составляли:
Следующая таблица представляет отчёт об официальной стоимости нашего вывоза только на континент Европы и ввоза оттуда в каждый из последующих пяти годов:
Балансы в пользу Великобритании, взятые только для Европы, находятся, как видно из этого несовершенного подсчёта, приблизительно в соответствии с общими и более точными балансами, приведёнными прежде. Благоприятный баланс 1809 г., взятый только для Европы, дал бы при вычислении его в соответствии с действительной стоимостью более значительную сумму, чем сумма, указанная за тот же год в предыдущем общем итоге. Благоприятный торговый баланс ввоза и вывоза, представляемый ежегодно парламенту, является, вероятно, результатом больших требований, предъявляемых правительству в связи с заграничными расходами. Благодаря этим требованиям увеличение вывоза и уменьшение ввоза поощряются и даже усиливаются, ибо если предложение векселей, трассированных за границей агентами правительства или частными лицами, не соответствует спросу, то цена их в иностранных деньгах падает, пока не понизится настолько, что привлечёт покупателей; покупатели же эти, обычно являющиеся иностранцами, не желают переносить постоянно свою собственность в Англию и справляются с условиями приобретения в обмен за векселя на АНГЛИЮ тех британских товаров, на которые имеется спрос в их собственной стране или в посреднических пунктах, с которыми можно производить расчет. Но, поскольку цена векселей регулируется до некоторой степени ценой британских товаров, она будет падать, пока не понизится до такой точки, при которой можно получить прибыль при покупке и вывозе этих товаров: таким образом, не преминет развиться деятельный вывоз, почти пропорциональный сумме трассированных векселей. Отсюда следует, что в течение очень длительного периода не может существовать слишком благоприятный или слишком неблагоприятный торговый баланс, ибо этот баланс оказывает воздействие на цену векселей не раньше, чем цена последних вызовет благодаря воздействию на состояние торговли выравнение торгового вывоза и ввоза. Комитет рассматривал здесь наличность и слитки как составные части общей массы вывозимых и ввозимых товаров; наличность и слитки перевозятся соответственно состоянию предложения и спроса, но представляют, однако, при определённых условиях, в особенности в случае больших колебаний во всей торговле, особенно удобное средство платежа. Комитет остановился подробно на документах, доставленных г-ном Ирвингом, для того чтобы пролить дальнейший свет на общий вопрос о торговом балансе и вексельном курсе, а также для того, чтобы рассеять некоторые весьма распространённые ошибки, имеющие большое практическое влияние на решение рассматриваемого нами в настоящее время вопроса. Исходя из вышеизложенных принципов, Комитет твердо убеждён, что для континента Европы действительный вексельный курс, неблагоприятный для нашей страны, отнюдь не может значительно превысить предел, диктующийся размерами издержек на перевозку звонкой монеты в данное время. Что эти вексельные курсы не превосходили на деле этот предел, вполне удовлетворительно доказывает одна часть показания г-на Грефюля: из всех опрошенных купцов он больше всех укрепился, кажется, в мнении, что состояние платёжного баланса достаточно объясняет само по себе всякое падение вексельных курсов, как бы велико оно ни было. Из того, что Комитет констатировал уже по отношению к вексельному паритету, ясно, что вексельный курс между двумя странами сохраняет свой действительный паритет при следующих условиях: данное количество золота или серебра должно обмениваться по рыночной цене на такую сумму денег одной страны, на какую можно купить вексель на другую страну за ту сумму её денег, которая обменивается по рыночной цене на равное количество золота или серебра той же самой пробы. Таким же образом действительный вексельный курс будет благоприятен для страны, имеющей денежные сделки с другой страной, при условии, что данное количество золота или серебра можно обменять в первой стране на такую сумму денег второй, какая может быть обменена на большее количество золота или серебра той же самой пробы. Исходя из этих принципов, Комитет выразил пожелание, чтобы г-н Грефюль сделал несколько расчётов, приводимых в его ответах на следующие вопросы: "Предположим, что вы имеете в Париже тройский <мера веса стандартного серебра. Одна тройская унция == 31,103 г> фунт золота английского стандарта и желаете получить при помощи его вексель на Лондон, - как велика будет сумма, на которую при настоящих условиях вам удалось бы получить вексель?" - "На фунт золота британского стандарта можно купить при существующей рыночной цене в 105 франков и вексельном курсе в 20 ливров вексель в 59 ф. ст. 8 шилл.". "Сколько стандартного золота можете вы купить за 59 ф. ст. 8 шилл. при существующей рыночной цене золота в Лондоне?" - "При цене в 4 ф. ст. 12 шилл. можно будет купить 13 унций золота с очень малой дробью". "Чему же равна тогда процентная разница между количеством стандартного золота в Париже и в Лондоне, эквивалентным 59 ф. ст. 8 шилл. наших денег?" - "Около 81/2%". "Предположим, что вы имеете тройский фунт нашего стандартного золота в Гамбурге и что вы желаете приобрести на него вексель на Лондон. Как велика будет сумма, на которую при настоящих условиях вам удалось бы получить вексель?" - "При гамбургской цене в 101 и вексельном курсе в 29 можно было бы купить вексель на Лондон в 58 ф. ст. 4 шилл.". "Какое количество нашего стандартного золота вы покупаете при существующей цене в 4 ф. ст. 12 шилл. за 58 ф. ст. 4 шилл.?" - "Около 12 унций и 3 драхм". "Чему же равна в таком случае разница в процентах между количеством золота в Гамбурге и Лондоне, эквивалентным 58 ф. ст. 4 шилл.?" - "Около 5 1/2%". "Предположим, что вы имеете тройский фунт нашего стандартного золота в Амстердаме и что вы желаете на него приобрести вексель на Лондон. Как велика будет в стерлингах сумма, за которую вам удалось бы купить вексель?" - "При амстердамской цене в 14 1/4, вексельном курсе в 31,6 и банковском лаже в 1% можно было бы купить вексель на Лондон за 58 ф. ст. 18 шилл.". "Какое количество нашего стандартного золота покупаете вы в Лондоне при настоящей цене его в 4 ф. ст. 12 шилл. за 58 ф. ст. 18 шилл.?"-"12 унций и 16 драхм". "Сколько это составляет процентов?" - "7%". Аналогичные вычисления, хотя и сделанные на основании других предположенных данных, можно найти в показании Авраама Гольдсмида. Из отчётов г-на Грефюля явствует, что, когда вычисленный вексельный курс на Гамбург равнялся 29, т. е. был на 16-17% ниже паритета, действительная разница вексельного курса, являющаяся результатом состояния торговли и платёжного баланса, составляла не больше 5 1/2% против нашей страны; когда же вычисленный вексельный курс на Амстердам равнялся 31,6, т. е. был почти на 15% ниже паритета, действительный вексельный курс был ниже паритета не больше чем на 7%; далее, когда вычисленный вексельный курс на Париж равнялся 20, т. е. был на 20% ниже паритета, действительный вексельный курс был против нашей страны не больше чем на 81/2%. Таким образом, сделав все поправки, необходимые для учёта влияния торгового и платёжного баланса на наши вексельные курсы с указанными центрами, мы всё же констатируем падение вексельного курса на Гамбург на 11%, вексельного курса на Голландию - более чем на 8% и вексельного курса на Париж-на 11 1/2%; эти падения должны быть объяснены как-нибудь иначе. Если бы этот же способ калькуляции был применён к более недавним ставкам вексельного курса с континентом, то оказалось бы, быть может, что, хотя вычисленный вексельный курс в настоящее время против нашей страны, действительный вексельный курс для неё благоприятен. Основываясь на предыдущих рассуждениях, относящихся к состоянию изолированно рассматриваемых вексельных курсов, Комитет не может не сделать следующего вывода: по меньшей мере часть того значительного падения, которому подверглись в последнее время вексельные курсы, является результатом не состояния торговли, а изменения в относительной стоимости денег нашей собственной страны; а раз такой вывод подкрепляет прежде сделанный вывод об изменении в рыночной цене золота, то заключения Комитета можно, очевидно, считать доказанными. IIIКомитет полагает, что при настоящем искусственном положении денежного обращения нашей страны в высшей степени важно бдительно следить за вексельными курсами и рыночной ценой золота. Комитет пожелал поэтому осведомиться, разделяют ли это мнение директора Английского банка, извлекли ли они из него какое-нибудь практическое правило для контроля над денежным обращением и, в частности, не внушило ли им большое падение вексельных курсов и большое повышение цены золота каких-либо подозрений относительно избыточности средств обращения в нашей стране. Г-н Витмор, бывший управляющий Английским банком, заявил Комитету, что, регулируя общую сумму ссуд и дисконтов, он "не обращал внимания на вексельные курсы, так как из сведений о сумме находящихся в обращении банкнот и о вексельном курсе вытекало, что между ними часто нет никакой связи". Далее он сказал: "По моему мнению, - я не знаю, есть ли это также мнение Английского банка, - сумма нашего бумажного обращения не имеет никакого отношения к состоянию вексельных курсов". А на следующий день г-н Витмор заявил, что "настоящее неблагоприятное состояние вексельных курсов не имело никакого влияния на объём эмиссий Английского банка, ибо последний поступал так же, как и прежде". Его спросили также, обращал ли Английский банк при регулировании суммы выпускаемых им в обращение банкнот когда-либо внимание на разницу между рыночной и монетной ценой золота. Г-н Витмор выразил сначала желание подумать над этим вопросом, а на следующий день дал ответ, вызвавший дальнейшие вопросы. "Определяя количество наших банкнот, выпускаемых в обращение, и ограничивая размер ваших ссуд купцам, принимаете ли вы во внимание разницу, если таковая существует, между рыночной и монетной ценой золота?" - "Мы принимаем её во внимание, поскольку мы никогда не дисконтируем векселей тех лиц, относительно которых мы знаем или имеем основание предполагать, что они вывозят золото". "Не принимаете ли вы во внимание эту разницу ещё каким-нибудь путём, кроме отказа в дисконте таким лицам?" - "Мы обращаем на неё внимание, поскольку тот или иной из наших директоров настаивает на обсуждении вопроса, полагая, что он имеет значение для наших дисконтов". "Рыночная цена золота повысилась в течение последнего года до 4 ф. ст. 10 шилл. или 4 ф. ст. 12 шилл. за унцию. Было ли это обстоятельство принято вами во внимание и имело ли оно какое-либо действие на уменьшение или расширение суммы подлежащих уплате счетов?" - "С этой точки зрения я не принял его во внимание". Г-н Пирс, в настоящее время управляющий Английским банком, выразил своё согласие с г-ном Витмором в связи с этими его ответами о практике банка и целиком присоединился к его взглядам. Г-н Пирс: "При рассмотрении этого вопроса я должен сослаться на способ, каким выпускаются банкноты; выпуск последних является результатом требований дисконтов для удовлетворения текущей нужды в банкнотах, а это даёт возможность так контролировать количество выпускаемых банкнот, что они никогда не могут быть в излишке; я не могу понять, каким образом количество выпущенных банкнот может воздействовать на цену слитков или состояние вексельных курсов; поэтому я лично держусь мнения, что цена слитков или состояние вексельных курсов отнюдь не могут служить основанием для уменьшения количества выпускаемых банкнот, принимая во внимание контроль, о котором я уже говорил". "Держится ли управляющий банком того же мнения, которое было только что выражено заместителем управляющего?" <Когда Витмор и Пирс давали в марте 1810 г. свои показания перед Комитетом, первый был управляющим, второй - заместителем управляющего, но в то время, когда доклад Комитета составлялся, Пирс стал уже управляющим. - Прим. ред.> Г-н Витмор: "Я разделяю это мнение в такой мере, что никогда не считал необходимым принимать во внимание цену золота или состояние вексельных курсов в те дни, когда мы выдавали ссуды". "Принимали ли вы во внимание эти два обстоятельства при регулировании общей суммы ваших ссуд?" - "Я не принимал их во внимание, потому что, по моему мнению, они не имеют никакого отношения к вопросу". Г-н Гарман, другой директор Английского банка, выразил своё мнение в следующих словах: "Я должен был бы весьма основательно изменить свои взгляды, прежде чем предположить, что вексельные курсы испытывают влияние каких-либо изменений в нашем бумажно-денежном обращении". Эти джентльмены, так же как и некоторые из вызванных в Комитет купцов, ссылались на имевшее место в течение нескольких лет отсутствие хронологического соответствия между количеством банкнот Английского банка и состоянием вексельных курсов. Г-н Пирс представил по этому вопросу записку, напечатанную в приложениях. Комитет не стал бы, однако, относиться с недоверием к изложенным им общим принципам даже и в том случае, если бы это несоответствие было более значительно, ибо необходимо принять во внимание разнообразие обстоятельств, имеющих временное влияние на вексельные курсы, и неопределённость как периодов, так и степени воздействия на них количества находящихся в обращении бумажных денег. Можно ещё добавить, что количество банкнот (предполагая, что банкноты достоинством в 1 и 2 ф. ст. исключены из подсчёта) не изменялось существенно в течение периода, взятого для сравнения, тогда как за последний год, когда главные вексельные курсы с Европой стали гораздо более неблагоприятными, количество банкнот Английского банка, а также и банкнот провинциальных банков весьма значительно увеличилось. Однако Комитет не держится в общем мнения, что размер или степень существующей депрессии вексельных курсов могут быть отчётливо прослежены до увеличения числа банкнот, совпадающего хронологически с этой депрессией. Он полагает, что более мелкие и более обычные колебания вексельного курса соответствуют в общем ходу нашей торговли; политические события, воздействующие на состояние торговли, могут нередко вызывать как повышение, так и понижение вексельных курсов, - в частности, первое необычайное падение их в начале 1809 г. должно быть приписано, как это было указано в вышецитированном показании, торговым событиям, последовавшим за оккупацией Северной Германии войсками французского императора. Зло заключается в том, что, раз упав, вексельный курс не может быстро подняться при существующей системе. Если случайные депрессии, возникающие в силу состояния торговли, не выравниваются по истечении известного времени с помощью приёма, автоматически применявшегося до прекращения Английским банком платежей наличностью, то это приводит в конце концов к тем же последствиям, какие вызывает внезапный необычайно большой выпуск бумажных денег. Восстановление вексельного курса производилось обычно путём тайной пересылки гиней, временно улучшавшей вексельный курс и заменявшей перевод денег; бесспорно также, что тот же результат достигался частью и, вероятно, гораздо более полно путём уменьшения общего количества остающихся в обращении денег; Английский банк вынужден был содействовать этому уменьшению уже в силу осторожности, которую, естественно, возбуждала всякая утечка золота. При существующей же системе первое из этих средств должно всё больше и больше утрачивать своё значение, ибо в обращении осталось так мало гиней, что они не могут уже быть использованы для переводов значительных размеров; уменьшение бумажного обращения является теперь поэтому главным, если не единственным, коррективом, к которому можно прибегнуть. Только после того, как Английский банк возобновит на некоторое время платежи наличностью, оба указанных средства смогут снова производить то действие, какое они производили во всех предыдущих случаях до приостановки размена. После очень обстоятельного рассмотрения этой части вопроса Комитет не может не выразить следующее мнение: предполагать, что на вексельные курсы с чужими странами и на цену слитков не оказывает воздействия количество бумажных денег, выпущенных без обязательства оплатить их звонкой монетой по желанию держателя, - это значит допускать ошибку, имеющую большое практическое значение. Что вследствие излишнего выпуска бумажных денег вексельные курсы понижаются, а цена слитков повышается, - это не только теоретический принцип, установленный наиболее выдающимися авторитетами по вопросам торговли и финансов. Практическая истинность его иллюстрируется также историей почти всех государств, пользовавшихся бумажными деньгами в новое время; во всех этих странах государственные люди обращались в конце концов к этому принципу, как к лучшему критерию для суждения о том, имеется ли налицо излишек бумажных денег. В наиболее известных примерах из истории иностранных государств излишек бумажных денег сопровождался также обстоятельством, не имеющим места в нашем настоящем положении, - недостатком доверия к полноте тех фондов, под которые были выпущены бумажные деньги. Там, где налицо имеются оба эти обстоятельства - излишние эмиссии и недостаток доверия, их совокупное действие будет гораздо более быстрым, чем при наличии одного только излишка бумажных денег, пользующихся, однако, прекрасным кредитом; в обоих случаях вексельные курсы и цена слитков испытают на себе влияние одного и того же порядка. Наиболее замечательные примеры первого рода даёт история бумажно-денежного обращения британских колоний в Северной Америке в начале прошлого столетия, а также история ассигнатов Французской республики. К этому Комитет может добавить едва ли менее замечательный пример денежных спекуляций австрийского правительства в течение последней кампании. Настоящее положение денежного обращения в Португалии даёт также пример этого рода. Примеры другого рода, когда обесценение было произведено только излишком бумажных денег, может дать опыт Соединённого королевства в различные времена. В Шотландии излишний выпуск банкнот к концу Семилетней войны дошёл до очень большого размера. Благодаря включению в обязательства Шотландского банка так называемой optional clause, т. е. статьи, определяющей его право платить по своим банкнотам наличностью немедленно по предъявлении или же через шесть месяцев с оплатой процентов за это время, разменность таких банкнот на звонкую монету по желанию держателя была в действительности приостановлена. Эти банкноты подверглись поэтому обесценению по сравнению со звонкой монетой. Пока длилось это злоупотребление, вексельный, курс между Лондоном и Демфрисом, например, был на 4% против Демфриса, в то время как вексельный курс между Лондоном и Карляйлем, находящимся не дальше 30 миль от Демфриса, стоял на уровне паритета. Когда эдинбургским банкам предъявляли назад их банкноты, чтобы обменять их векселя на Лондон, они имели обыкновение растягивать или сокращать срок выдаваемых ими векселей соответственно состоянию вексельного курса; они уменьшали таким путём стоимость этих векселей почти в той же степени, в какой излишний выпуск вызвал обесценение банкнот. Этот излишек бумажных денег был, наконец, устранён путём выдачи векселей на Лондон лишь на определённый срок; для уплаты же по этим векселям, или, другими словами, для оплаты этого излишка бумаги, банки должны были в первую очередь оставлять большие денежные средства в руках своих лондонских корреспондентов. В помощь таким мерам предосторожности эдинбургских банков парламентский акт запретил практику optional clause, а также выпуск банкнот достоинством в 10 и 5 шилл. Вексельный курс между Англией и Шотландией был быстро восстановлен до своего естественного уровня; поскольку же векселя на Лондон всегда выдавались с тех пор в обмен на банкноты, обращающиеся в Шотландии, на определённый срок, какой-либо значительный излишек шотландских бумажных денег по сравнению с банкнотами Английского банка был тем самым предупреждён, и вексельный курс стал постоянным <см. "Богатство народов", кн. 1, стр. 492, а также "Доклад Комитета об ирландском вексельном, курсе", показание Мансфильда>. Опыт самого Английского банка в течение очень короткого времени после его учреждения даёт весьма поучительную иллюстрацию ко всем предыдущим принципам и рассуждениям. Последствия обесценения монеты в силу порчи и стирания соединились в данном случае с действием излишнего выпуска банкнот. Директора Английского банка не сразу приобрели достаточно точное знание всех принципов, которыми должно руководствоваться такое учреждение. Они ссужали деньги не только путём учёта, но и под реальные обеспечения, ипотеки и даже под залог непортящихся товаров; в то же время Английский банк оказывал весьма существенное содействие правительству в деле содержания армии на континенте. Благодаря щедрости в выдаче ссуд частным лицам, а также крупным авансам правительству количество банкнот Английского банка чрезмерно увеличилось, их относительная стоимость обесценилась, и они обращались с дисконтом в 17%. В этот период отнюдь не было, повидимому, недостатка в доверии к надёжности фондов Английского банка, ибо акции его продавались за 110% , хотя по подписке по ним было выплачено только 60%. Благодаря соединённому действию обесценения банкнот Английского банка в силу излишка их и обесценению серебряной монеты в силу стирания и порчи её цена золота поднялась настолько, что за гинеи платили до 30 шилл.; вся хорошо сохранившаяся серебряная монета постепенно исчезла из обращения, вексельный же курс на Голландию, несколько затронутый уже прежде вследствие переводов для содержания армии, упал на 25% ниже паритета при обесценении банкнот на 17%. Как парламентом, так и Английским банком были испробованы разные средства для удержания в обращении лучшей серебряной монеты и уменьшения цены гиней, но без успеха. Наконец, были найдены настоящие средства: во-первых, чеканка новой серебряной монеты; она восстановила часть обращающихся денег до их стандартной стоимости, несмотря на то, что недостаток металлических денег, вызванный извлечением из обращения старой монеты, поставил Английский банк в затруднение и даже подверг на время потрясению его кредит, во-вторых, извлечение из обращения излишка банкнот. Эта последняя операция была, повидимому, проведена очень толково. Парламент согласился на увеличение основного капитала Английского банка при условии, что известная часть новых подписчиков будет удовлетворена банкнотами. Соответственно уменьшению, таким образом, числа банкнот стоимость тех, которые остались в обращении, начала сейчас же подниматься; через короткое время банкноты достигли паритета; иностранные вексельные курсы тоже почти достигли его. Все эти детали подробно упоминаются в опубликованных тогда материалах; событие как таковое является, по мнению Комитета, весьма поучительным для нашего исследования <см. "Краткий отчёт Английского банка", составленный Годфреем, одним из первых директоров его, а также "Краткую историю последнего парламента", написанную Дрэком в 1699 г. Обе брошюры находятся в коллекции лорда Сомерса>. Комитет должен сначала указать, что все его рассуждения находят подтверждение и санкцию в работах Комитета палаты общин, назначенного прежним парламентом для исследования причины значительного обесценения ирландского вексельного курса с Англией в 1804 г. Большинство торговых людей, дававших показания перед Комитетом, включая двух директоров Ирландского банка, не хотело допустить, что падение вексельного курса было хотя бы в какой-нибудь степени результатом излишка бумажных денег, возникшего благодаря приостановке размена в 1797 г. Падение было полностью объяснено тогда, как и теперь, неблагоприятным торговым или платёжным балансом. Тогда утверждали также, что "банкноты, выпускаемые только пропорционально спросу на них и в обмен на хорошие и легко реализуемые обеспечения, подлежащие при этом уплате в определённые периоды, не могут повлечь за собой какой-либо излишек денежного обращения или какое-либо обесценение". Эта доктрина, хотя и смягчённая несколько некоторыми свидетелями, проникает собой большинство показаний, данных Комитету; примечательным исключением является лишь показание г-на Мансфильда, так как знакомство с последствиями только что упомянутого излишнего выпуска шотландских банкнот помогло ему составить себе более верное мнение об этом предмете. Многие из лиц, дававших свои показания Комитету, сделали всё же, несмотря на нежелание признать действительную природу зла, серьёзные уступки, что вовлекло их по необходимости в противоречия. Как практики они не могли бы оспаривать истинность того общего положения, согласно которому "колебания вексельного курса между двумя странами ограничиваются в общем ценой, по которой определённое количество слитков может быть куплено в деньгах страны-должника и превращено в деньги страны-кредитора с добавлением страховой премии и издержек по перевозке этих слитков из одной страны в другую". В то же время было установлено, что издержки транспорта золота из Англии в Ирландию составляли, включая страховую премию, меньше 1% и что до приостановки размена колебания никогда не превышали надолго и намного этот предел: более того, вексельный курс с Бельфастом, где в период работы Комитета гинеи обращались свободно, был тогда на 1 1/4 в пользу Ирландии, тогда как вексельный курс с Дублином, где в ходу были только бумажные деньги, был на 10% против Ирландии. Из весьма несовершенных документов, какие можно было достать, явствовало также, что торговый баланс был тогда благоприятен для Ирландии. Однако все продолжали утверждать, что никакого обесценения ирландских бумажных денег не существует, а имеется только недостаток в золоте, объясняющий его высокую цену, и что уменьшение количества бумажных денег не внесёт корректива в вексельный курс. "Обесценение банкнот в Ирландии (так говорил один из дававших показания - директор Ирландского банка) является для человека, совершающего в Дублине с помощью этих общепринятых денег покупки и продажи, понятием совершенно условным; для него они нисколько не обесценены, но для покупателя векселя на Лондон, да и для него лишь в одном отношении и при известных условиях, имеется обесценение в 10%". Избегая, таким образом, всякого сравнения по основному признаку между стоимостью их собственных банкнот и стоимостью обращавшихся тогда бумажных денег нашей страны или золотых слитков, или даже золотой монеты, обращавшейся тогда в других частях Ирландии с премией, руководители Ирландского банка продолжали быть уверенными, что никакого обесценения ирландских банкнот не было. Здесь следует отметить, что стоимость большого количества долларов, выпущенных в течение этого времени Ирландским банком, была поднята до 5 шилл. за доллар с нарочитой целью приспособить новую серебряную монету к существующему состоянию вексельного курса; Комитет высказался в своём докладе против такого приёма; последний доказывает лишь, что ирландские бумажные деньги не могут выдержать сравнения со стандартной ценой серебра и так же мало со стоимостью золотых слитков и золотой монеты или же со стоимостью тогдашних бумажных денег Соединённого королевства. Г-н Кольвиль, директор Ирландского банка, привёл тогда в своём показании факт, который, хотя и не убедил его в тенденции бумажных денег снижать вексельные курсы, показался ему всё же очень убедительным в этом отношении. Г-н Кольвиль заявил, что в 1753 и 1754 гг., когда при чрезвычайно неблагоприятном вексельном курсе банкноты Дублинского банка были внезапно извлечены из обращения, вексельный курс стал весьма благоприятным. Вызванная этим торговая заминка была очень сильна благодаря внезапности операции, ибо она была осуществлена не путём постепенных и благоразумных мероприятий нескольких банков, но в результате насильственного давления, которому банки подвергались благодаря своим неосмотрительным эмиссиям. Общий результат заслуживает тем не менее нашего внимания. Чтобы сделать ещё более ясным вопрос об ирландских вексельных курсах, привлёкший в последнее время внимание парламента, следует заметить, что Ирландия производит свои вексельные операции с иноземными странами только через посредство Лондона; деньги, уплачиваемые Ирландией континенту, превращаются сначала в английские деньги, а затем уже в деньги тех стран, которым Ирландия должна. Весной 1804 г. вексельный курс Англии с континентом стоял выше паритета, вексельный же курс Ирландии был в таком состоянии, что на 118 ф. ст. 10 шилл. в банкнотах Ирландского банка можно было купить только 100 ф. ст. в банкнотах Английского банка. Поэтому если банкноты Ирландского банка не были обесценены, как это нам доказывали, то банкноты Английского банка пользовались, следовательно, более чем 10-процентной премией сверх стоимости стандартной монеты обеих стран. Принципы, изложенные Комитетом в 1804 г., пользовались, вероятно, у директоров Ирландского банка некоторым авторитетом, ибо между периодом, когда был написан доклад (июнь 1804 г.), и январём 1806 г. количество находившихся в обращении банкнот Ирландского банка было постепенно (хотя и с небольшими случайными колебаниями) сведено от почти 3 млн. до 2 410 тыс. ф. ст., что составляет уменьшение примерно на 1/5. В этот же период были отменены законом все деньги, выпущенные под названием серебряных жетонов. Бумажно-денежное обращение как Английского банка, так и английских провинциальных банков, повидимому, постепенно увеличивалось в течение этого же периода. Комбинация этих двух причин имела, вероятно, существенное влияние на восстановление паритета ирландского вексельного курса с Англией. Ирландский банк снова увеличил постепенно свои эмиссии до суммы, равной почти 3 100 тыс. ф. ст., т. е. несколько превышавшей сумму банкнот 1804 г.; это увеличение соответствует, вероятно, увеличению эмиссий за тот же период в Англии. Не следует, однако, думать, что уменьшение эмиссий Ирландского банка между 1804 и 1806 гг. вызвало соответствующее уменьшение эмиссий частных банков в Ирландии таким же образом, как уменьшение количества банкнот Английского банка оказывает соответствующее действие на провинциальные банки Великобритании, - Ирландский банк не владеет той исключительной властью снабжать какую-нибудь часть страны бумажными деньгами, какой пользуется Английский банк по отношению к столице империи. Ограничивая количество этих необходимых орудий обращения в таком важном районе, Английский банк может с большей эффективностью обеспечить поднятие их стоимости, а всякое поднятие её должно обязательно привести к подобному же увеличению стоимости банкнот провинциальных банков, обменивающихся на банкноты Английского банка, через соответствующее уменьшение числа первых. Более чем вероятно, что и в Ирландии имело место аналогичное сокращение числа обращающихся банкнот, ибо частные банки Ирландии привыкли отдавать банкноты Ирландского банка в обмен на свои собственные, если этого от них требуют; они поэтому не могли бы не почувствовать влияния всякого нового ограничения количества тех банкнот, на которые обмениваются их собственные. Нужно, однако, отдать справедливость нынешним директорам Английского банка и напомнить палате, что, хотя прекращение платежей наличностью и было отчасти вызвано ложным взглядом банка на большие трудности того времени, всё же этой меры добивался не Английский банк: она была навязана ему законодательной властью в силу решающих соображений государственной политики и общественных интересов. Не следует выдвигать в качестве обвинения против директоров Английского банка то обстоятельство, что в новом положении, в которое поставил закон их торговую компанию, при возложении на них регулирования и контроля всего денежного обращения страны, они не вполне усвоили принципы руководства этой ответственной деятельностью, а продолжали вести своё дело учёта и ссуд по рутине. Следует также отметить, что при старой системе, когда Английский банк должен был обменивать свои банкноты по требованию на звонкую монету, состояние иностранных вексельных курсов и цена золота оказывали большое влияние на мероприятия его руководителей при выпуске банкнот, хотя в практику их и не входило систематическое наблюдение ни за первым, ни за второй. Пока в обмен за их банкноты можно было требовать золото, дирекция Английского банка быстро узнавала о падении вексельного курса и о повышении цены золота благодаря натиску на банк требований золота. Если дирекция неосторожно превышала надлежащий предел ссуд эмиссий, банкноты быстро поступали назад в банк; их приносили люди, поддававшиеся соблазну нажиться на рыночной цене золота или норме вексельного курса. Таким путём зло скоро излечивалось само собой. Вследствие опасений, вызванных уменьшением золотого запаса банка, и возможности возмещать эти потери только путём повторных закупок слитков по очень убыточной цене директора Английского банка, естественно, сокращали эмиссии банкнот; это увеличивало стоимость остающихся банкнот, а также и монет, на которые их можно было обменивать; в то же время тайный вывоз монеты или же золота, получаемого путём переплавки последней, улучшал состояние вексельных курсов, вызывая соответствующее уменьшение разницы между рыночной и монетной ценой золота или банкнот, разменных на золото. Комитет не думает, что директора Английского банка отдавали себе отчёт в том, как именно описанная выше практика приводила к соответствующим результатам. Однако тот факт, что они ограничивали выпуск банкнот, как только замечали сколько-нибудь значительный отлив золота, бесспорен. Г-н Бозанкет заявил в своём показании Секретному комитету палаты лордов в 1797 г., что в 1783 г., когда директора Английского банка заметили отлив наличности, вызвавший их беспокойство, они предприняли смелый шаг и отказались выдавать ссуды под заём этого года. По мнению г-на Бозанкета, это отвечало их намерению приостановить на время отлив звонкой монеты. Все три директора, дававшие показания Комитету, заявляли, что ограничение эмиссий Английского банка имело всегда место в той или иной форме в периоды, предшествовавшие приостановке платежей наличностью, каждый раз, когда на банк производился сильный натиск. Очень сильный спрос на гинеи, хотя и вызванный не высокой ценой золота и состоянием вексельных курсов, а страхом вторжения, имел место в 1793 г., а также в 1797 г.; в течение каждого из этих периодов Английский банк ограничивал свои учётные операции, а следовательно, и количество своих банкнот, до значительно более низкого уровня, чем спрос на них со стороны купцов. Комитет ставит под вопрос правильность такой политики ограничения ссуд в период паники, не сопровождающейся неблагоприятным вексельным курсом и высокой ценой слитков; тем не менее он рассматривает поведение Английского банка в течение хотя бы двух вышеупомянутых периодов как иллюстрацию той общей тенденции уменьшать свои ссуды и эмиссии при отливе золота, которая преобладала у него до 1797 г. Неизбежным последствием прекращения платежей наличностью явилось освобождение Английского банка от той утечки золота, которая обязательно возникала в прежнее время в результате неблагоприятного курса и высокой цены слитков. Освободившись от всех опасений такой утечки и не испытывая больше никаких неудобств от создавшегося положения, директора Английского банка не имели уже никакого стимула восстанавливать вексельный курс и цену золота до их надлежащего уровня путём сокращения своих ссуд и эмиссий. Директора прежнего времени понимали, вероятно, принципиальную сторону дела не лучше, чем директора нашего времени, но они ощущали известное неудобство и под давлением его устанавливали на практике препятствия к дальнейшим эмиссиям и ограничения их. В настоящее время неудобство не чувствуется и препятствия не сохраняют поэтому больше своей силы. Однако Комитет берёт на себя смелость доложить палате, будучи вполне в том убеждён, что до тех пор, пока будет длиться прекращение платежей наличностью, данные о цене золотых слитков и об общем состоянии вексельного курса с чужими странами, взятые за какой-либо значительный период времени, представляют самый лучший критерий для суждения о том, имеется ли в обращении достаточное или излишнее количество бумажных денег. Английский банк не может регулировать сумму своих эмиссий с достаточной уверенностью, не пользуясь критерием, предоставляемым этими двумя условиями. Подводя итоги всем фактам и рассуждениям, уже приведённым ранее, Комитет выражает следующее мнение: хотя торговое состояние страны и политическое положение на континенте могли иметь некоторое влияние на высокую цену золотых слитков и неблагоприятный ход вексельных курсов с чужими странами, однако эта цена и это обесценение должны быть также приписаны недостаточному систематическому регулированию и ограничению бумажно-денежного обращения нашей страны. Наряду с главным вопросом, рассматриваемым в этой части доклада, - вопросом о политике Английского банка в деле регулирования размеров денежного обращения - Комитет желал бы также обратить внимание палаты на другой вопрос, привлекший его внимание в ходе исследования и требующий, по его мнению, самого серьёзного рассмотрения. Директора банка, а также некоторые из купцов, опрошенных Комитетом, всячески старались объяснить последнему доктрину, в истинности которой они были глубоко убеждены. Согласно этой доктрине эмиссии банкнот Английским банком не могут быть чрезмерными до тех пор, пока ссуды, на базе которых они выпускаются, производятся в согласии с принципами, принятыми в настоящее время директорами Английского банка, иначе говоря, до тех пор, пока учёт коммерческих векселей ограничивается векселями несомненной солидности, основанными на реальных торговых сделках и оплачиваемыми в короткие и определённые сроки. Что учёт должен производиться только для векселей, основанных на реальных торговых сделках, срок платежей по которым наступает через определённые и короткие периоды, - это здоровые, твердо установленные принципы. Но пока Английский банк освобождён от обязанности платить звонкой монетой, нельзя утверждать, что для эмиссии банкнот не требуется иного ограничения, кроме установленного этими правилами учёта векселей, или что учёт надёжных и краткосрочных векселей не может привести в такой период ни к какому излишку количества банкнот, выпускаемых в обращение; такую доктрину Комитет считает совершенно ошибочной в принципе и чреватой опасными последствиями на практике. Но, прежде чем Комитет перейдёт к критике, которой заслуживает эта теория, он считает правильным выявить на основании полученных показаний, в какой степени её придерживались некоторые лица, стоявшие во главе правления Английского банка. Мнения, поддерживаемые этими лицами, могут иметь большое практическое влияние и являются, по мнению Комитета, лучшей характеристикой действительной политики этого учреждения в качестве корпорации. Г-н Витмор, бывший управляющий Английским банком, категорически заявляет: "Банк никогда не выпускает принудительно ни одной банкноты в обращение; в обращении не остаётся ни на одну банкноту больше, чем этого требуют непосредственные нужды общества, ибо ни один банкир не будет, я полагаю, держать более значительный запас банкнот, чем ему требуется для его непосредственных платежей; он всегда может получить их". Приведённое здесь основание разъясняется г-ном Витмором более подробно следующим образом: "Банкноты вернулись бы к нам, если бы они были в обращении в избыточном количестве, так как никто не платил бы процентов по банкнотам, которые он не имеет нужды использовать". Далее г-н Витмор заявляет: "Критерий, на основании которого я сужу об отношении, которое должно быть сохранено между потребностями общества и эмиссиями Английского банка, заключается в следующем: надо избегать в меру возможности учёта векселей, не являющихся законными торговыми документами". На заданный ему затем вопрос о той мере, с помощью которой совет директоров определяет, является ли количество банкнот в обращении в какой-либо период излишним, г-н Витмор заявляет: "Мерой недостаточности <в издании доклада in folio напечатано ошибочно "security" вместо "scarcity". Эта ошибка указана в первом издании доклада для публики. - Прим. ред.> или изобилия банкнот служит, несомненно, большее или меньшее предъявление к учёту доброкачественных векселей". Г-н Пирс, бывший заместитель управляющего, а в настоящее время управляющий Английским банком, весьма категорически выразил своё согласие с г-ном Витмором в этом специальном пункте. Он сослался на тот факт, что банкноты выпускаются для удовлетворения насущной нужды в них соответственно предъявляемым к учёту векселям; это даёт возможность такого контроля над их количеством, благодаря которому оно никогда не может сделаться избыточным. "Он считает, что количество банкнот в обращении контролируется требованиями внутреннего потребления общества" и что "при том способе, каким контролируется выпуск банкнот, общество никогда не потребует больше, чем это абсолютно необходимо для его нужд". Другому директору Английского банка, г-ну Гарману, был задан вопрос: не думает ли он, что общая сумма предъявляемых к учёту векселей может быть достаточно велика, чтобы вызвать некоторый излишек банковских эмиссий после полного удовлетворения спроса даже и при полной гарантии надёжности векселей и полной платёжеспособности лиц, на которых они выданы? На это он ответил: "Я полагаю, что если мы производим учёт только для солидных лиц и только таких векселей, которые основаны на реальных сделках bona fide, то мы не можем существенно ошибаться". Далее он заявляет, что считал бы признаком чрезмерного изобилия банкнот только "переполнение рынка деньгами". Здесь важно отметить, что гг. Витмор и Пирс оба заявили: "Английский банк не удовлетворяет весь спрос, предъявляемый к нему с целью учёта векселей, и никогда не стремится увеличить свои эмиссии ради собственной прибыли за пределы, соответствующие общественным интересам". Мы приводим другую, весьма важную, часть показаний этих джентльменов по данному вопросу в следующей выдержке: "Думаете ли вы, что понижение учётной ставки с 5 до 4% дало бы соответствующую гарантию против какого-либо излишка эмиссий Английского банка?". Ответ: "Я полагаю, что гарантия против излишка эмиссий была бы точно такая же", Г-н Пирс: "Я присоединяюсь к этому ответу". "А если бы учётная ставка понизилась до 3%?". Г-н Витмор: "Я полагаю, что никакой разницы не получилось бы при условии, что наша практика оставалась бы такой же, как в настоящее время: не выпускать принудительно в обращение ни одной банкноты". Г-н Пирс: "Я присоединяюсь к этому ответу". Комитет не может не призвать снова внимание палаты к выявленным этими показаниями результатам того особого положения, в которое Английский банк был поставлен благодаря прекращению платежей наличностью. Пока его банкноты были разменны на звонкую монету по желанию держателя, было достаточно как в интересах безопасности Английского банка, так и в интересах государства, поскольку речь шла о его средствах обращения, чтобы директора обращали внимание на характер и качество предъявляемых к учёту векселей; требовалось лишь, чтобы последние были реальными и подлежали оплате в определённые и короткие сроки. Стоило лишь директорам Английского банка превысить в большой степени надлежащие пределы количества и суммы учитываемых векселей и сделать, таким образом, избыточным число своих банкнот, находящихся в обращении, как они сейчас же наблюдали, что этот излишек возвращался к ним назад с требованием в обмен на него звонкой монеты. Частные интересы Английского банка, заставляющие его оберегать себя от продолжающегося спроса этого рода, были достаточной защитой общества против какого-либо излишка банкнот, могущего вызвать существенное падение относительной стоимости средств обращения. Прекращение платежей наличностью сделало, как уже было показано, такую превентивную политику ненужной больше для Английского банка и устранило тем самым все препятствия, являвшиеся раньше общественной гарантией против излишних эмиссий. Когда директора Английского банка перестали подвергаться неудобствам от утечки золота, они, естественно, почувствовали себя свободными и от необходимости постоянно ограждать себя от возможности такой утечки путём более жёсткой системы выдачи ссуд и учёта векселей. Вполне естественно, что при этих условиях они держались, как и прежде (но без той осторожности и тех ограничений, которые перестали теперь быть необходимыми с точки зрения их собственной безопасности), той либеральной и благоразумной политики торговых ссуд, от которой зависело процветание их собственного учреждения и в значительной мере также и торговое процветание всей страны. Директора Английского банка, естественно, полагали, что, пока увеличение прибылей самого банка совершалось по их наблюдениям рука об руку с кредитами, предоставляемыми купцам, общество в целом может получать только прибыль. Едва ли можно было ожидать от директоров Английского банка полного осознания последствий, могущих явиться результатом продолжения ими после прекращения платежей наличностью той же системы, которую они считали надёжной до того времени. Наблюдать за действием нового закона и принимать меры против зла, которое он мог нанести интересам общества, было делом не столько Английского банка, сколько законодательной власти. По мнению Комитета, есть основание сожалеть, что палата не обратила раньше своего внимания на все последствия этого закона. Наиболее важное из этих последствий заключается в следующем: после отмены размена банкнот на звонкую монету, сдерживавшего излишний выпуск банкнот, директора Английского банка не поняли, что устранение этого сдерживания сделало возможным выпуск излишних банкнот даже путём учёта совершенно надёжных векселей. Комитет доказал, что директора не только не поняли этой возможности, но с величайшей уверенностью поддерживали противоположную доктрину, в каких бы выражениях они ни говорили о происшедших явлениях. Комитет ни на минуту не сомневается в том, что эта доктрина весьма ошибочна. Ошибка, на которой она основана, состоит в том, что между ссудой капитала купцам и прибавкой некоторого количества денег к общей массе их, находящейся в обращении, не делается различия. Если во внимание принимается только ссуда капитала, выдаваемая лицам, готовым вложить его в добропорядочные и прибыльные предприятия, то, очевидно, нет нужды в другом ограничении общей суммы ссуд, чем то, которое может диктоваться средствами заимодавца и его благоразумием в выборе должников. Но при настоящем положении Английского банка, на который возложена функция снабжения страны бумажными деньгами, составляющими основу нашего обращения, и который в то же время не связан обязательством разменивать эти банкноты на звонкую монету, каждая ссуда капитала, выдаваемая им купцам в форме учёта, становится одновременно и прибавкой к общей массе находящихся в обращении денег. Первоначально при выдаче ссуды банкнотами, уплаченными при учёте векселя, она, без сомнения, представляет собой столько-то капитала и столько-то покупательной силы, переданных в руки купца, получающего банкноты. Если эти руки надёжны, то операция в такой же мере полезна и производительна для общества в первой её стадии. Но как только часть денег, выданных в виде ссуды, выполнит в руках того, к кому она попала, свою первую операцию в качестве капитала, как скоро банкноты обменяются им на какой-нибудь другой товар, представляющий теперь капитал, они попадают в каналы обращения в качестве определённого количества денег и увеличат собой массу их, находящуюся в обращении. Необходимым следствием такого увеличения этой массы является уменьшение относительной стоимости данной части её при обмене на товары. Если бы это увеличение было сделано за счёт банкнот, разменных на звонкую монету, то это уменьшение относительной стоимости данной части общей массы денег быстро отбросило бы назад в банк, выпустивший банкноты, всё их излишнее количество. Но если они в силу закона неразменны, то этот излишек не вернётся, конечно, обратно, а останется в каналах обращения до тех пор, пока не поступит назад в Английский банк в погашение первоначально учтённых векселей. В течение всего периода, пока эти банкноты остаются вне банка, они выполняют функции денег; к тому же времени, когда они возвращаются назад в погашение векселей, за ними уже последовал новый выпуск банкнот в результате такой же учётной операции. Каждая последующая ссуда повторяет тот же процесс. Если вся сумма учтённых векселей продолжает в данный момент оставаться неоплаченной, то в обращении непрерывно останется соответствующее количество банкнот; если же сумма учтённых векселей прогрессивно возрастает, то количество банкнот, остающихся в обращении сверх того числа их, которое без этого потребовалось бы для удовлетворения нужд общества, будет также прогрессивно возрастать, а вместе с тем будут прогрессивно повышаться денежные цены товаров. Это движение может быть так же безгранично, как количество спекуляций и авантюр в крупной торговой стране. Необходимо отметить, что закон, ограничивающий в нашей стране норму процента, а тем самым и норму, по которой Английский банк может законно производить учёт векселей, ещё более увеличивает требования, предъявляемые к банку торговым миром в связи с учётом векселя. Так как норма торговой прибыли значительно выше 5%, как это можно было наблюдать во многих отраслях нашей внешней торговли, то, право же, нет предела тем требованиям учёта и ссуд, которые могут предъявить к Английскому банку купцы, имеющие вполне надёжные капиталы и отличающиеся весьма благоразумным духом предприимчивости. Ни один аргумент, ни одна иллюстрация не могут дать такой яркой характеристики той доктрины, за которую держатся теоретически директора банка, опрошенные Комитетом, и которую он подверг критике, а также возможных практических последствий этой доктрины в периоды подъёма торговой предприимчивости, как мнение, высказанное гг. Витмором и Пирсом: согласно их мнению, общество имело бы полную гарантию против какого-либо излишка эмиссий Английского банка, если бы норма учёта понизилась с 5 до 4 и даже до 3%. Однако из показания бывшего управляющего и заместителя управляющего Английским банком явствует, что хотя они открыто утверждают принцип, согласно которому не может быть излишка в числе находящихся в обращении банкнот, раз последние выпускаются в соответствии с правилами банка об учёте векселей, всё же - таков смысл их заявления - они никогда не руководствовались ими в полном размере. Хотя они и говорили, что требования учёта законных векселей служат для них единственным критерием изобилия или недостатка, они дали всё-таки понять Комитету, что не учитывают векселя во всём объёме этих требований. Другими словами, директора не действуют согласно принципу, который сами считают совершенно здоровым и надёжным; их следует поэтому рассматривать как людей, не имеющих никакого чёткого и определённого правила, которым они руководствовались бы в деле регулирования количества выпускаемых ими средств обращения. Прекращение платежей наличностью привело к передаче в руки директоров Английского банка ответственной функции снабжения страны тем количеством средств обращения, которое точно соответствует нуждам и требованиям общества; оно теперь полностью предоставлено их усмотрению. Согласно суждению Комитета трудно ожидать, что директора Английского банка смогут когда-либо справиться с этим поручением. Самое детальное знакомство с настоящим положением торговли страны, соединённое с глубоким знанием всех принципов денежного обращения, не является достаточным основанием для того, чтобы один человек или группа людей могли установить и всегда поддерживать правильное соотношение между количеством обращающихся в данной стране денег и нуждами её торговли. Когда средства обращения состоят целиком из драгоценных металлов или банкнот, разменных по предъявлении на драгоценные металлы, то естественный ход торговли устанавливает вексельные курсы между всеми странами света и определяет для каждой отдельной страны на основе предложения драгоценных металлов, получаемых общим мировым рынком из рудников, отношение между количеством её денег и её актуальной потребностью в них. Отношение, которое устанавливается таким образом и поддерживается естественным ходом торговли, не может быть установлено человеческой мудростью или искусством. Если естественная система денежного обращения отменяется и вместо неё вводится произвольный выпуск бумажных денег, то тщетно надеяться, что можно придумать какие-нибудь правила для точного выполнения этого произвола. Некоторые предосторожности могут быть, правда, приняты, чтобы сдерживать и контролировать последствия такого произвола; таковыми являются, например, меры против влияния чрезмерных эмиссий на вексельные курсы и цену золота. Согласно суждению Комитета директора Английского банка выполняли свои новые и чрезвычайные полномочия, вручённые им с 1797 г., с честностью и вниманием к общественным интересам соответственно их пониманию таковых; они использовали свои полномочия с большей сдержанностью по отношению к выгодам банка, чем это можно было допустить на первый взгляд, и заслуживают поэтому быть и впредь облечёнными доверием, которое страна так долго и так справедливо питала как к их безупречному руководству делами Английского банка, так и к непоколебимой прочности и обширным фондам этого великого учреждения. Комитет глубоко убеждён, однако, в том, что за последнее время их деятельность была связана с большими практическими ошибками, которые в высшей степени важно исправить с точки зрения государственных интересов. Но эти ошибки приходится не столько вменять в вину директорам Английского банка, сколько приписывать влиянию новой системы; недостатки последней должны были быть приняты во внимание парламентом ввиду их последствий гораздо раньше, каково бы ни было происхождение этой системы или причины, сделавшие введение её необходимым в качестве временной меры. Комитет полагает, что предоставленная Английскому банку дискреционная власть снабжать королевство средствами обращения была использована директорами под влиянием взгляда, что банкноты не могут быть выпущены в излишнем количестве, раз они ссужаются купцам под учёт хороших векселей, подлежащих оплате в определённые сроки, а также под влиянием взгляда, что не следует обращать внимания ни на цену слитков, ни на состояние вексельных курсов, как на показатели достаточности или излишка бумажных денег. Поэтому Комитет заявляет без колебаний, что такие взгляды директоров Английского банка следует в значительной мере считать фактической причиной затяжки настоящего положения дел. IVКомитет переходит теперь к рассмотрению на основании полученной им информации следующих вопросов: как шло прогрессивное увеличение бумажно-денежного обращения страны, состоявшего первоначально из банкнот Английского банка, неразменных теперь на звонкую монету, и как велико оно в настоящее время, и далее, как велико количество выпускаемых провинциальными банками банкнот, разменных по желанию держателя на банкноты Английского банка. Установив сумму банкнот Английского банка, Комитет изложит основания, побуждающие его думать, что размер суммы этих банкнот не может считаться решающим для вопроса об их излишке; прежде же чем определить сумму провинциальных банкнот, поскольку размеры её могут быть установлены, Комитет изложит основания, заставляющие его думать, что сумма обращающихся банкнот провинциальных банков ограничивается суммой обращающихся банкнот Английского банка. 1. Из отчётов, представленных Комитетом по делам Английского банка в 1797 г., явствует, что в течение нескольких лет до 1796 г. средняя сумма банкнот, находившихся в обращении, составляла от 10 до 11 млн. ф. ст.; она вряд ли снижалась когда-либо до 2 млн. ф. ст. и не часто превышала сколько-нибудь значительно 11 млн. ф. ст. Следующее извлечение из различных отчётов, представленных настоящему Комитету или затребованных им у Английского банка, покажет прогрессивный рост суммы банкнот с 1798 г. до конца прошлого года. Средняя сумма банкнот
Английского банка,
Если исключить из подсчёта последнюю половину 1809 г., то средняя сумма за первое полугодие окажется выше, чем за весь год, а именно: 19 880 310 ф. ст. Приведённые в приложении к докладу отчёты дают очень детальные данные о первых четырёх месяцах текущего года вплоть до 12 мая; начиная с этого дня сумма банкнот возрастала, особенно банкнот мелких купюр. Вся сумма находившихся в обращении банкнот, за исключением соло-векселей банка на сумму в 939 990 ф. ст., составила в среднем за два отчётных дня - 5 и 12 мая - 14 136 610 ф. ст. банкнотами в 5 ф. ст. и выше и 6 173 380 ф. ст. банкнотами ниже 5 ф. ст., что даёт итог в 20 309 990 ф. ст., а включая соло-векселя банка - в 21 249 980 ф. ст. Следует заметить, что наиболее значительная часть увеличения приходится на мелкие банкноты; часть последних должна была быть выпущена с целью заменить звонкую монету, в которой в период прекращения платежей наличностью чувствовался большой недостаток. Оказывается, однако, что первое предложение мелких банкнот, брошенных в обращение после отмены платежей наличностью, было очень незначительно в сравнении с их нынешней суммой, большое же увеличение их количества имело, повидимому, место с конца 1799 г. по конец 1802 г. Очень быстрый рост их числа происходил также начиная с мая прошлого года и до настоящего времени. Общая сумма этих мелких банкнот возросла с 1 мая 1809 г. по 5 мая 1810 г. с 4 509 470 до 6 161 020 ф. ст. . Банкноты Английского банка выпускаются главным образом путём ссуд правительству для государственных нужд и путём ссуд купцам в форме учёта их векселей. Комитет получил данные о ссудах, выданных Английским банком правительству под налог с солода и поземельный налог, а также под билеты казначейства и другие обеспечения за каждый год со времени прекращения платежей наличностью. При сравнении этих данных с отчётами, представленными Комитету в 1797 г. за 20 предшествовавших лет, становится ясно, что ежегодные ссуды Английского банка правительству со времени прекращения платежей наличностью были в среднем значительно ниже среднего же размера ссуд, выданных до этого события; хотя сумма этих ссуд и превышает за последние два года сумму ссуд непосредственно предшествовавших лет, она всё же меньше, чем в любой из предшествовавших прекращению платежей годов. Что касается суммы коммерческих учётов, то Комитет не считал удобным требовать от директоров Английского банка раскрытия их абсолютной суммы, ибо эти операции представляют часть частных сделок банка как торговой компании; Комитет не считает себя вправе требовать раскрытия таких сумм без настоятельной необходимости. Однако бывший управляющий Английским банком и его заместитель предоставили Комитету согласно его желанию сравнительную таблицу относительных цифр, показывающих рост учётных операций Английского банка с 1790 по 1809 г. включительно. Они просили, однако ,- и Комитет счёл нужным согласиться с их просьбой - не опубликовывать этого документа; поэтому Комитет не поместил его в приложении к настоящему докладу, а вернул Английскому банку. Комитет может, однако, констатировать в общем, что размеры учётных операций прогрессивно возрастали начиная с 1796 г. и что отношение суммы их за последний год (1809) к наиболее крупной сумме их в течение любого года, предшествовавшего 1797 г., очень высоко. Что касается именно этого вопроса, то Комитет спешит заметить, что, по его мнению, высокую сумму коммерческих учётов, производимых Английским банком, если взять её как таковую, следует всегда считать великим общественным благом; только излишек бумажных денег, выпускаемых таким путём и удерживаемых в обращении, может рассматриваться как зло. Но Комитет не может не указать здесь снова на следующий весьма важный принцип: размер суммы банкнот, находящихся в обращении, не может считаться сам по себе решающим при ответе на вопрос, имеется ли в обращении излишек банкнот или нет. Необходимо прибегнуть к другим критериям. Одно и то же количество банкнот может быть в один период недостаточным, а в другой более чем достаточным. Количество требующихся для обращения денег будет в какой-то степени изменяться вместе с изменением объёма торговли; рост же нашей торговли, имевший место после приостановки размена, должен был вызвать некоторый рост количества обращающихся денег. Но последнее не находится ни в каком определённом соотношении с количеством товаров, и какие-нибудь выводы, основанные на таком предположении, были бы совершенно ошибочны. Эффективность денежного обращения зависит от скорости обращения и числа оборотов, совершающихся в определённое время, а также от размеров последних; все условия, которые имеют тенденцию ускорять или замедлять интенсивность обращения, делают одно и то же количество средств обращения более соответствующим или менее соответствующим нуждам торговли. Гораздо меньшее количество их требуется при прочном положении общественного кредита, чем в периоды, когда паника заставляет отдельных лиц требовать возвращения ссуд и страховать себя от всяких случайностей путём припрятывания (hoarding) денег. В период торговой безопасности и взаимного доверия требуется меньше денег, чем тогда, когда взаимное недоверие мешает заключению денежных соглашений на сколько-нибудь значительные сроки. Но данное количество обращающихся денег будет больше или меньше соответствовать требованиям прежде всего в зависимости от искусства, проявляемого крупными денежными дельцами в деле управления и экономии в использовании средств обращения. Комитет держится того мнения, что усовершенствования, имевшие место за последние годы в стране и в особенности в лондонском округе в способах использования и в экономии денег, а также в способах ликвидации торговых платежей, должны были иметь гораздо большее влияние, чем это до сих пор предполагалось, на соответствие определённой суммы денег увеличившимся размерам торговли и платежей. О некоторых из этих усовершенствований даются подробные сведения в показаниях: они состоят, главным образом, в возросшем употреблении банковских чеков при совершении всех платежей в Лондоне. Соглашение собирать все такие чеки в общем помещении, где они балансируются друг с другом, посредническая деятельность вексельных маклеров и ряд других изменений в практике лондонских банкиров - всё это вместе взятое уменьшило для последних необходимость держать такие большие наличные суммы денег, как прежде. Опыт лондонского округа показывает несомненно, что при неизменном уровне цен для совершения того же числа оборотов и того же количества платежей требуется меньшая сумма денег. Важно также отметить, что как политика самого Английского банка, так и соперничество банкнот провинциальных банков создали тенденцию к концентрации всё большего и большего числа банкнот Английского банка в пределах Лондона и прилегающего к нему округа. Благодаря всем этим обстоятельствам рост числа банкнот Английского банка, необходимых для удовлетворения нужд возросшей торговли, мог совершаться в меньших размерах, чем это могло бы потребоваться при других условиях; ясно, таким образом, что по одним только данным о числе банкнот нельзя установить, имеются ли они в избытке или нет. Для этого нужно прибегнуть к более надёжному критерию, а таким критерием, как уже показал Комитет, могут служить только состояние вексельных курсов и цена золотых слитков. Особые условия, имевшиеся налицо в течение двух лет, столь достопримечательных в истории нашего денежного обращения (1793 и 1797 гг.), проливают яркий свет на установленный Комитетом принцип. В 1793 г. недостаток доверия к провинциальному денежному обращению и последовавшее за этим давление на лондонские средства обращения вызвали настоящее бедствие. Английский банк не счёл нужным расширить свои эмиссии, чтобы пойти навстречу этому возросшему спросу; выпущенные им раньше банкноты обращались теперь вследствие господствовавшей панике менее свободно и оказались недостаточными для необходимых платежей. При таком кризисе парламент применил средство, весьма схожее по своему действию с расширением ссуд и эмиссий Английского банка: было разрешено выдавать ссуду билетами казначейства всем торговым людям, представляющим надёжные гарантии и обращающимся за такой ссудой; доверие, укреплённое этой мерой, а также даваемая ею возросшая возможность получать банкноты путём продажи билетов казначейства быстро ликвидировали панику как в Лондоне, так и в провинции. Комитет воздерживается от высказывания мнения о пригодности того способа, каким была произведена эта операция; он считает, однако, последнюю иллюстрацией принципа, согласно которому усиление кредита представляет подлинное средство против того случайно возникающего упадка доверия в провинциальных округах, которому неизбежно подвергается наша система бумажно-денежного кредита. Условия, имевшие место в начале 1797 г., были весьма похожи на условия 1793 г.: страх вторжения неприятеля, натиск на провинциальные банки с требованием золота, банкротство некоторых из них и натиск на Английский банк, приведший к такому же кризису, как в 1793 г. Против последнего можно было бы, вероятно, найти эффективное средство, если бы Английский банк имел мужество расширить, а не ограничить свой кредит и выпуск своих банкнот. Некоторые люди держались тогда, как это явствует из доклада Секретного комитета палаты лордов, именно такого мнения. Согласно заявлению, сделанному управляющим Английским банком и его заместителем вашему Комитету, последние, а также многие другие директора пришли теперь на основании опыта 1797 г. к выводу, что уменьшение числа их банкнот увеличило в этих крайних условиях общественное бедствие. Комитет целиком разделяет это мнение, считая его совершенно правильным. Комитет полагает, что опыт Английского банка в 1793 и 1797 гг., сопоставленный с фактами, изложенными в настоящем докладе, заставляет нас всегда иметь в виду следующее весьма важное различие: предъявляемый к банку спрос на золото для снабжения внутренних каналов обращения, иногда очень большой и внезапный, вызывающийся временным недостатком доверия, следует отличать от того натиска на банк с требованием золота, который вырастает из неблагоприятного состояния вексельных курсов. До тех пор, пока Английский банк сохраняет свой высокий кредит, спрос первого типа устраняется, повидимому, лучше всего путём благоразумного расширения помощи торговле страны, спрос же второго типа, имея место в период, когда банк не платит звонкой монетой, должен был бы поставить перед директорами вопрос, не стали ли их эмиссии уже слишком изобильными. Комитет испытывает большое удовлетворение при мысли, что директора Английского банка вполне отдают себе отчёт в возможности совершить ошибку, слишком ограничивая предложение банкнот в период застоя кредита. Комитет прекрасно понимает, что общая политика директоров состоит в уменьшении количества их банкнот в периоды длительного сохранения высокой цены слитков и очень неблагоприятного вексельного курса; тем не менее он считает нужным подчеркнуть, что для торговых интересов страны и для выполнения тех торговых обязательств, которые были порождены свободным выпуском банкнот, весьма важно, чтобы обычная помощь купцам не была внезапно и основательно уменьшена; если бы при этом возникло какое-нибудь серьёзное затруднение общего порядка или хотя бы опасение на этот счёт, оно могло бы быть устранено, по мнению вашего Комитета, без опасности для страны и с выгодой для неё путём большей щедрости в выпуске банкнот Английским банком в соответствии с настоятельными нуждами данного момента. При таких обстоятельствах Английский банк должен также поразмыслить о том, не будет ли практичнее уменьшить количество своих банкнот путём постепенного сокращения ссуд правительству, считаясь, конечно, должным образом с непосредственными интересами государственной политики, чем путём слишком внезапного сокращения учётных операций для торгового мира. 2. Прежде чем перейти к детальному рассмотрению собранных им по вопросу о количестве провинциальных банкнот материалов, Комитет должен заметить, что, пока длится приостановка платежей наличностью Английским банком, всё бумажное обращение провинциальных банков представляет надстройку, возведённую на фундаменте бумажного обращения Английского банка. Если при более совершенной системе разменность банкнот образует барьер против образования излишка какой-либо части денежного обращения, то разменность провинциальных банкнот на банкноты Английского банка является таким же барьером против излишних эмиссий провинциальных банков. Если в каком-нибудь провинциальном округе выпускается излишнее количество банкнот, в то время как лондонское обращение не превышает надлежащих размеров, то в этом провинциальном округе произойдёт местное повышение цен, в Лондоне же цены останутся без изменения. Те, кто имеет в своих руках провинциальные банкноты, предпочтут делать покупки в Лондоне, где товары дешевле, и поэтому вернут провинциальные банкноты банку, который выпустил их, и потребуют у него банкноты Английского банка или векселя на Лондон. Таким образом, в силу того что излишек провинциальных банкнот постоянно возвращается к выпускавшим их банкам в обмен на банкноты Английского банка, количество последних неизбежно ограничивает на деле количество первых. Это иллюстрируется приведёнными уже данными об излишке банкнот шотландских банков около 1763 г. и последующим ограничением их количества. При чрезмерной эмиссии банкнот Английского банка в период прекращения размена возможны и соответствующие чрезмерные эмиссии банкнот провинциальных банков; для этого не существует никакого препятствия, ибо при расширении фундамента можно соответствующим образом расширить и надстройку. При такой системе излишек банкнот Английского банка окажет, следовательно, влияние на цены не только пропорционально увеличению их собственного числа, но и в несравненно большем отношении. Комитет не мог добиться получения материалов, которые позволили бы ему установить с приблизительной точностью количество находящихся в обращении банкнот провинциальных банков, но на основании полученных им по этому вопросу показаний он установил, что за последние два года было не только основано большое число новых провинциальных банков, но и возросла также значительно общая сумма эмиссий старых банков. С другой стороны, торговый и государственный кредит был в этот период очень прочным, а этому соответствовала лёгкость превращения в короткий срок всех государственных и торговых фондов в банкноты Английского банка; в силу этих условий, а также благодаря предпочтению, естественно оказываемому в пределах данного района банкнотам пользующегося прочной репутацией провинциального банка по сравнению с банкнотами Английского банка, провинциальные банки не были, вероятно, вынуждены хранить у себя большие постоянные запасы банкнот Английского банка. Было бы вполне правильно заключить отсюда, что валовая сумма совокупного непроизводительного капитала всех провинциальных банков, состоящая из звонкой монеты и банкнот Английского банка, в настоящее время, при сильно разросшихся размерах денежного обращения, гораздо ниже, чем она была до прекращения размена в 1797 г., следовательно, искушение основывать провинциальные банки, выпускающие свои обязательства, значительно возросло. Некоторое представление о вероятной сумме их эмиссий или по меньшей мере о недавнем увеличении последних можно себе составить, по мнению Комитета, по данным о сумме пошлин, уплачиваемых за гербовые марки на вновь выпускаемые банкноты провинциальных банков Великобритании. Вся сумма этих пошлин составляла, повидимому, за год, окончившийся 10 октября 1808 г., 60 522 ф. ст. 13 шилл. 3 пенса, а за год, окончившийся 10 октября 1809 г., - 175 129 ф. ст. 17 шилл. 7 пенс. Следует, однако, заметить, что 10 октября 1808 г. эти пошлины увеличились в некоторых случаях больше чем на 1/3 и что приняты были некоторые меры, налагающие ограничение на новые эмиссии всех банкнот достоинством не свыше 2 ф. ст. 2 шилл. В результате этих мероприятий спрос на гербовые марки или на банкноты этого достоинства превысил в течение 1809 г. свои обычные размеры. Ввиду этого обстоятельства невозможно установить с достоверностью, каков был в течение последнего года действительный рост числа находящихся в обращении банкнот достоинством не свыше 2 ф. ст. 2 шилл. Зато мы можем составить себе на основании сопоставления представленных Комитету документов более ясное представление об увеличении в 1809 г. числа банкнот высшего достоинства, условия выпуска которых закон оставил без изменения. Число банкнот провинциальных банков достоинством свыше 2 ф. ст. 2 шилл., проштемпелёванных за годы, окончившиеся 10 октября 1808 г. и 10 октября 1809 г.:
Принимая, что банкноты первых двух групп были выпущены в наинизших наименованиях, к каким соответственно относятся пошлины, а также в таких, которые чаще всего встречаются в бумажном обращении провинции, т. е. в банкнотах достоинством в 5 и 10 ф. ст. (хотя во второй группе имеется значительное число банкнот достоинством в 20 ф. ст.), и исключая даже совершенно из сравнения банкноты последних трёх групп, выпуск которых предоставлен на деле по сведениям Комитета только привилегированным шотландским банкам, мы получаем следующий результат: при отсутствии какого-либо роста числа банкнот ниже 2 ф. ст. 2 шилл. количество банкнот провинциальных банков, проштемпелёванных в году, закончившемся 10 октября 1809 г., превзошло соответственное количество в году, закончившемся 10 октября 1808 г., на сумму в 3 095 340 ф. ст. О количестве банкнот провинциальных банков, уничтоженных и извлечённых из обращения в течение последнего года, Комитет не может составить себе никакого положительного представления. Но, принимая во внимание, что провинциальные банки заинтересованы в возможно более длительном употреблении одних и тех же банкнот и на практике так и поступают, что закон не ставит никаких ограничений во времени для повторного выпуска банкнот, не превышающих 2 ф. ст. 2 шилл., а все банкноты более крупного наименования могут быть выпущены вновь в течение трех лет со дня их первого выпуска, трудно предположить, что сумма банкнот достоинством свыше 2 ф. ст. 2 шилл., уничтоженных в 1809 г., была равна всей сумме их, проштемпелёванной в 1808 г. Но допуская даже правильность такого предположения, следует отметить, что 1809 год даёт всё же увеличение числа одних только банкнот достоинством в 5 и 10 ф. ст. на вышеназванную сумму в 3 095 340 ф. ст.; к этой сумме следует прибавить увеличение за тот же период числа банкнот Английского банка на сумму приблизительно в 1 500 тыс. ф. ст., а это составляет в совокупности увеличение всего денежного обращения Великобритании в 1809 г. на сумму между 4 и 5 млн. ф. ст. Из этой суммы следует вычесть только золото, которое могло быть извлечено в течение этого года из действительного обращения и количество которого не могло быть очень значительно; приходится также допустить некоторое увеличение количества таких провинциальных банкнот, которые хотя и были проштемпелёваны, но могли и не находиться в действительном обращении. Но даже и с этими скидками прирост совокупного бумажно-денежного обращения страны за последний год немногим меньше той суммы, которая со времени открытия Америки прибавлялась ежегодно к количеству обращающейся во всей Европе монеты. Правда, Комитет уже имел случай отметить, что на основании данных о количестве находящихся в обращении бумажных денег, рассматривая эти данные отвлечённо от всех других обстоятельств, нельзя сделать никакого определённого вывода о наличии излишка бумажных денег и ещё меньше о степени этого излишка; но Комитет должен всё же заметить, что наличие очень большого и быстрого роста этого количества даёт в соединении со всеми показателями обесценения денег и в сопровождении их сильнейшее подтверждение и доказательство того факта, что при отсутствии соответствующих ограничений эмиссии бумажных денег не удерживались в надлежащих пределах. Комитет не может покончить с этой частью вопроса, не отметив также, что увеличение бумажно-денежного обращения страны на сумму, составляющую от 4 до 5 млн. ф. ст., было, несомненно, произведено с очень небольшими расходами для тех, кто выпускал эти деньги: их выпуск стоил всего лишь около 100 тыс. ф. ст., уплаченных в качестве гербового сбора в государственный доход. В то же время провинциальные банки не сочли необходимым, вероятно в силу вышеизложенных оснований, обзавестись для поддержки дополнительных эмиссий соответствующими запасами золота или банкнот Английского банка. Следовательно, некоторые лица получили, скажем это вполне открыто, возможность произвести в течение последнего года или 15 месяцев эмиссии бумажных денег на несколько миллионов. Они сделали это под прикрытием закона, защищающего их от всяких обязательств, с весьма ничтожными издержками и способом, почти свободным от всякого риска по отношению к кредиту, которым они пользовались как торговцы бумажными деньгами. При этом они оперировали этими суммами как капиталом прежде всего для своих собственных выгод; после же такого использования этих денег последние смешивались с массой средств обращения, меновая стоимость которых постепенно понижалась по отношению ко всем другим товарам пропорционально увеличению их массы. Комитет уверен, что мудрость парламента будет направлена на принятие надлежащих мер против столь неестественного состояния вещей, чреватого в конечном счёте, если оно не будет искоренено своевременно, столь гибельными последствиями для общественного блага; в противном случае он, не колеблясь, заявил бы о необходимости принятия таких мер, которые обеспечили бы государству более широкое участие в прибылях, получаемых указанными лицами благодаря существующей системе. Тем не менее Комитет отнюдь не стремится рекомендовать парламенту такую политику, будучи вполне согласен с д-ром Адамом Смитом и другими наиболее выдающимися писателями и государственными людьми нашей страны в том, что бумажно-денежное обращение представляет при постоянном размене на звонкую монету одно из самых крупных практических усовершенствований в государственном и частном хозяйстве любой страны, а также в том, что учреждение провинциальных банков, выпускающих бумажные деньги, является весьма ценной и существенной частью этого усовершенствования. На этом основании Комитет рекомендовал бы возможно более быстрый возврат к старой практике и восстановлению старого порядка вещей. Комитет вполне убеждён, с одной стороны, в том, что постоянное и систематическое отклонение от прежней практики должно в конечном счёте вызвать последствия, которые наряду с другими сопутствующими бедствиями приведут к разрушению самой системы, а с другой - в том, что такой исход был бы весьма достоин сожаления: ведь только в такой стране, как наша, где так высоко почитается добросовестность как в государственных, так и в частных делах и где при счастливом единении свободы и закона собственность и всякого рода обеспечения, в которых она представлена, одинаково защищены и от посягательств власти и от насилий народных потрясений, - только в такой стране могут быть полностью использованы и осуществлены в максимальнейшем размере все выгоды этой системы, не сопровождаясь ни одной из её опасностей. Разобрав все факты и соображения, представленные на рассмотрение Комитета в ходе исследования, он пришёл к выводам, которые и докладывает теперь палате общин. В настоящее время в бумажно-денежном обращении нашей страны имеется избыток, самым бесспорным симптомом которого является очень высокая цена слитков, а также низкое состояние континентальных вексельных курсов. Этот избыток должен быть приписан отсутствию достаточных ограничений и контроля при эмиссиях банкнот Английским банком и прежде всего прекращению платежей наличностью, устранившему естественный и подлинный контроль. Рассмотрев вопрос со всех точек зрения, Комитет полагает, что нельзя найти никакой другой надёжной, верной и всегда адекватной меры против избыточности бумажных денег, случайной или постоянной, кроме разменности всех бумажных денег на звонкую монету. Комитет не может поэтому не выразить сожаления о том, что прекращение платежей наличностью, бывшее, если рассматривать его в наиболее благоприятном свете, только временной мерой, продолжается уже так долго; он в особенности сожалеет о том, что характер ныне действующего закона придаёт прекращению платежей силу постоянного военного мероприятия. Комитет полагает, что было бы излишне излагать детально все невыгоды, которые может принести стране общий избыток обращающихся денег, понижающий их относительную стоимость. Влияние, оказываемое увеличением цен на все денежные сделки, неизбежные убытки, которые терпят получатели аннуитетов и всякого рода кредиторы, частные и государственные, ненамеренные выгоды, получаемые правительством и всеми другими должниками, - всё это последствия, слишком очевидные, чтобы нуждаться в доказательствах, и слишком оскорбляющие чувство справедливости, чтобы оставлять их без противодействия. Самой важной стороной этого пагубного влияния Комитет считает воздействие избыточного денежного обращения на заработную плату обычного провинциального труда; уровень заработной платы приспособляется, как известно, более медленно к изменениям стоимости денег, чем цены всякого другого вида труда или товара. Достаточно указать на некоторые группы государственных служащих, жалованье которых даже при повышении его в связи с обесценением денег не может быть снова приведено так легко к его прежнему уровню; это невозможно даже после восстановления прежней стоимости денег. Если дальнейшее усугубление этих неудобств и бедствий не будет предотвращено, то в не особенно отдалённом будущем они дадут себя знать на практике, воздействуя, таким образом, на умы всех, кто ещё может сомневаться в их существовании. Но если бы даже их прогрессивное нарастание было менее вероятно, чем это кажется Комитету, последний не может всё же не высказать своего мнения: доброе имя и честь парламента не могут допустить, чтобы в великой торговой стране продолжала существовать дольше, чем того требует настоятельная необходимость, система денежного обращения, не включающая тех естественных ограничений или контроля, путём которых стоимость денег сохраняется на определённом уровне; лишь наличие постоянного общего стандарта стоимости обеспечивает подлинную справедливость и добросовестность денежных договоров и обязательств между отдельными людьми. Комитет берёт на себя смелость предостеречь парламент против искушения прибегнуть к обесценению даже и золотой монеты путём изменения стандарта стоимости, ибо парламент может оказаться вынужденным прибегнуть к такому изменению при значительном и продолжительном избытке бумажных денег. К этому средству прибегали в подобных случаях многие правительства, и оно представляется как будто бы наиболее лёгким средством против зла. Но нет необходимости останавливаться на той измене общественному доверию и отказе от выполнения одной из самых первых обязанностей правительства, которые выражаются в том, что люди предпочитают низвести стоимость монеты до стоимости бумаги, вместо того чтобы восстановить последнюю до законного монетного стандарта. Поэтому, рассмотрев весьма тщательно и обстоятельно этот вопрос, Комитет докладывает палате как своё мнение, что система денежного обращения нашей страны должна быть возвращена со всей скоростью, совместимой с мудрой и необходимой осторожностью, к первоначальному принципу платежей наличностью по желанию держателя банкнот. Комитет знает, что для устранения зла предлагаются различные средства или паллиативы, как, например, принудительное ограничение размера банковских ссудных и учётных операций до тех пор, пока продолжается неразменность, или же принудительное ограничение нормы банковских прибылей и дивидендов в течение того же периода, с тем чтобы излишек прибыли свыше этой нормы обращался в государственный доход. Но, по мнению Комитета, такие косвенные меры, предлагаемые в качестве паллиативов против бедствий, могущих явиться результатом прекращения платежей наличностью, окажутся совершенно непригодными для этой цели; никогда ведь не удастся установить, в какой пропорции следует произвести ограничение; если же такая пропорция и будет установлена, то это ещё больше ухудшит неудобства такого принудительного воздействия. Если бы даже эффективность этих мер и проявилась на деле, они должны были бы быть отвергнуты как самое вредное и недостойное вмешательство в права торговой собственности. Согласно самому ясному представлению о вопросе, какое Комитет мог составить себе, иного действительного средства, кроме отмены закона, который приостанавливает платежи наличностью Английским банком, не существует ни для настоящего периода, ни в качестве гарантии для будущего. Комитет полагает, что при осуществлении столь важной реформы должны встретиться некоторые затруднения и что Английскому банку могут угрожать некоторые опасности, которых следует всемерно остерегаться, приняв всяческие меры предосторожности. Но все опасности могут быть устранены, если доверить проведение и завершение этой операции благоразумию самого Английского банка и предоставить ему для этого срок соответствующей продолжительности, вполне достаточный для её окончания. Комитет полагает, что парламент может спокойно доверить благоразумию, опыту и честности директоров Английского банка задачу осуществления тех мер, принять которые парламент в своей мудрости сочтёт необходимым. Комитет считает также, что директора этого великого учреждения, далекие от содействия лицам, заинтересованным в распространении паники, будут постоянно иметь в виду интересы Английского банка как неразрывно связанные с интересами государства. По мнению Комитета выбор способа, которым будет осуществлено постепенное возобновление платежей наличностью, должен быть в значительной мере предоставлен благоразумию самого Английского банка, парламент же должен ограничиться только установлением окончательного срока, начиная с которого платежи наличностью снова станут для банка обязательными. Предоставленный срок должен быть достаточно продолжительным для того, чтобы директора Английского банка могли стать на новый путь, постоянно учитывая при этом все существенные для них условия и используя только благоприятные шансы, и чтобы они предпринимали новые шаги осторожно, следя одновременно за ходом своих собственных дел как компании и за состоянием государственного и торгового кредита; ни те, ни другие не должны испытывать никаких заминок и затруднений. Ввиду этого Комитет полагает, что приостановка платежей наличностью может быть отменена с полной безопасностью не раньше чем через два года от настоящего дня; в то же время Комитет считает, что парламент должен уже заранее принять к концу этого периода меры к прекращению действия различных постановлений, предписывавших продолжение приостановки размена. Рекомендуя двухлетний период, Комитет не забывает, что в силу существующего закона Английский банк обязан возобновить платежи наличностью через шесть месяцев после ратификации окончательного мирного договора; таким образом, если бы мир был заключён раньше чем через два года, рекомендация Комитета могла бы, повидимому, привести к отсрочке, а не к ускорению возобновления платежей наличностью. Но Комитет держится мнения, что если бы мир был немедленно ратифицирован, то при настоящем состоянии нашего денежного обращения было бы весьма рискованно и совершенно неосуществимо заставить Английский банк платить наличностью через шесть месяцев. В самом деле, заключение мира, открывая новые области для торговой предприимчивости, увеличило бы, а не уменьшило количество предъявляемых Английскому банку требований об учёте векселей; следовательно, внезапное значительное ограничение эмиссий Английского банка было бы большим бедствием для торгового мира. Комитет держится поэтому мнения, что даже при заключении мира Английскому банку следовало бы предоставить два года для возобновления платежей наличностью; но даже при продолжении войны платежи наличностью должны быть всё же возобновлены к концу этого периода. Комитет не упустил из виду возможности такого стечения политических обстоятельств, которое могло бы дать в дальнейшем аргумент в пользу некоторого продления периода, предоставленного для возобновления платежей наличностью, или даже в пользу нового закона для временного их приостановления уже после того, как Английский банк возобновил бы размен. Однако и в этом случае Комитет не предвидит никакой необходимости возвращения к существующей системе. Если бы, однако, необходимость принятия новой запретительной меры снова возникла когда-либо, то, по мнению Комитета, такая мера никоим образом не может быть основана на том или ином состоянии иностранных вексельных курсов, которые, как это подробно показал Комитет, могут легко контролироваться самим Английским банком; основанием для неё должно быть политическое положение страны, вызывающее или могущее вызвать в ближайшем будущем панику, ведущую к такому беспредельному спросу на наличность для внутренних нужд, что никакой банк не был бы в состоянии устоять против неё. Возвращение к нормальной банковской системе особенно важно именно ввиду последнего чрезвычайного падения вексельных курсов и высокой цены золота. Только такое возвращение сможет восстановить должным образом общее доверие к стоимости средств обращения нашего королевства; серьёзная же подготовка этого события обязывает к предварительному уменьшению количества бумажных денег и проведению всех других необходимых мер в согласии с подлинными принципами банковского дела. Назначение срока, когда Английский банк будет вынужден возобновить размен, будет также содействовать улучшению вексельных курсов. Дальнейшая же отсрочка возобновления на такой неопределённый срок, как шесть месяцев после окончания войны, в особенности в случае продолжающегося падения вексельных курсов (что такое падение есть результат излишка банкнот и вызванного им обесценения их, это будет становиться всё более и более ясным), может привести при неблагоприятном положении государственных дел к полному подрыву доверия; тогда парламент проявит готовность заставить Английский банк вернуться к признанному платёжному стандарту, а это может привести к ускорению дальнейшего падения вексельных курсов и повлечь за собой самые дискредитирующие и гибельные последствия. Хотя, как мы уже говорили, следует предоставить самому Английскому банку детальную разработку способа возвращения к платежам наличностью, всё же определённые мероприятия должны быть приняты с одобрения парламента; это имеет значение как с точки зрения удобств самого Английского банка, так и с точки зрения безопасности других банковских предприятий в провинции и в Ирландии. Комитет полагает, что для Английского банка будет удобно, если ему будет разрешено выпускать банкноты достоинством ниже 5 ф. ст. и в течение непродолжительного времени после возобновления им платежей звонкой монетой. Для привилегированных Ирландского и Шотландского банков, а также для всех провинциальных банков будет также удобно, если они не будут вынуждены начать уплату звонкой монетой ранее известного времени после возобновления платежей наличностью Английским банком. Желательно, чтобы в течение короткого периода они имели право выплачивать, как и в настоящее время, банкноты Английского банка в обмен на свои собственные по предъявлении. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Московский Либертариум, 1994-2020 |