 |
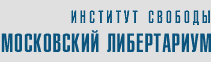 |
|
||
Глава 21. Классическая доктрина демократииФилософия демократии XVIII в. может быть определена следующим образом: демократический метод есть такая совокупность институциональных средств принятия политических решений, с помощью которых осуществляется общее благо путем предоставления самому народу возможности решать проблемы через выборы индивидов, которые собираются для того, чтобы выполнить его волю. На практике это означает следующее. Предполагается, что существует Общее Благо, достижение которого является очевидной целью любой политики. Оно легко поддается определению и пониманию со стороны любого нормального человека, если ему предъявить рациональные доводы. Таким образом, нет оправдания тому, кто не понимает общего блага, и другого объяснения, кроме незнания (которое можно преодолеть), глупости и антисоциального интереса, существованию людей. Кроме того, наличие общего блага требует определенных ответов на все вопросы, так что любой факт социальной жизни, любое действие, которое предпринято или которое предполагается предпринять, можно безошибочно оценить как "хорошее" или "плохое". Все люди должны, следовательно, прийти к согласию, по крайней мере принципиального характера, что существует общая воля народа (= воле всех разумных индивидов), которая соответствует общему благу, интересу, благосостоянию или счастью. Единственное обстоятельство, если не принимать во внимание глупость и злонамеренные интересы, которое может привести к разногласиям и объяснить наличие оппозиции, — это разница во мнениях, касающихся скорости, с которой поставленные общие для всех цели должны быть достигнуты. Так, каждый член общества, имея в виду общие цели, зная свои собственные интересы и оценивая, что хорошо, а что плохо, принимает активное и ответственное участие в увеличении хорошего и борьбе против плохого, а все члены общества, вместе взятые, контролируют общественные дела. Ведение многих дел такого рода требует специальных навыков и, следовательно, должно быть возложено на соответствующих специалистов. Это, однако, не касается принципиальной стороны вопроса, поскольку эти специалисты просто действуют в целях выполнения воли народа точно так же, как врач действует в соответствии с желанием пациента поправиться. Кроме того, в сообществе любого масштаба, особенно если в нем существует разделение труда, для каждого гражданина в отдельности было бы крайне неудобным вступать в контакт со всеми другими гражданами по любому вопросу для того, чтобы принять надлежащее участие в управлении. Удобнее оставить наиболее важные решения за индивидуальными гражданами — например, посредством участия в референдуме, — а решение остальных оставить за комитетом, ими назначенным, ассамблеей или парламентом, члены которого избираются всенародным голосованием. Этот комитет или орган, состоящий из делегатов, как мы уже видели, не будет представлять народ в правовом смысле, но в менее техническом плане он будет являться представителем народа, поскольку будет формулировать, отражать или представлять волю электората. Опять же в целях удобства этот большой комитет может разделиться на меньшие для рассмотрения различных по содержанию государственных дел. Наконец, в числе этих небольших комитетов должен быть создан комитет для решения общих задач, в основном связанных с текущим управлением, в виде кабинета или правительства, возможно возглавляемого генеральным секретарем — иными словами, козлом отпущения, так называемым премьер-министром [Официальная теория, описывающая функции министра кабинета что он назначается с целью контроля за тем, чтобы на направлении, находящемся в его ведении, выполнялась воля народа]. Как только мы примем за данность все посылки данной теории государственного устройства — или последствия, которые из нее вытекают, — так демократия приобретает совершенно недвусмысленное значение, и других проблем, кроме той, как добиться ее установления, не возникнет. Более того, если отвлечься от нескольких логических противоречий, можно добавить, что в этом случае демократическое устройство не только будет лучшим из возможных, но большинство людей даже не будут рассматривать иные возможности. Однако не менее очевидно, что, если мы хотим прийти к такому выводу, каждая из этих посылок потребует доказательств, между тем гораздо легче привести доказательства противоположного. Во-первых, не существует однозначно определенного понятия общего блага, которое устроило бы всех, если только будут приведены рациональные доводы. Это связано не только с тем обстоятельством, что некоторые личности имеют устремления, не совпадающие с общим благом, но в первую очередь с тем основополагающим моментом, что разные индивиды и группы вкладывают в понятие общего блага различное содержание. Этот факт, скрытый от утилитариста узостью его взгляда на мир человеческих мнений, порождает принципиальные противоречия, которые нельзя разрешить с помощью рациональной аргументации, потому что высшие ценности — наши взгляды по поводу того, как должна быть устроена жизнь и общество, — нельзя втиснуть в рамки простой логики. В ряде случаев здесь можно достичь компромисса, но американцы, говорящие: "Мы хотим, чтобы наша страна вооружилась до зубов и затем боролась за то, что мы считаем правильным, в масштабе всей планеты", и американцы, говорящие: "Мы хотим, чтобы наша страна наилучшим образом решала свои проблемы, ибо только тем она может служить всему человечеству", придерживаются непреодолимо разных ценностей, что компромисс может привести к ущербу. Во-вторых, даже если достаточно определенное общее благо, такое, как максимум экономического удовлетворения в утилитаристском понимании [Сам смысл "наибольшего счастья" весьма сомнителен. Но даже если это сомнение можно было бы развеять и придать общей сумме экономического удовлетворения группы людей вполне определенное содержание, этот максимум все равно будет относиться к определенным ситуациям и оценкам, изменить которые или найти компромисс в отношении которых демократическим путем может оказаться невозможным], оказалось как бы приемлемым для всех, это не повлекло бы столь же определенных ответов на конкретные вопросы. Здесь мнения могли бы разделиться настолько, что породили бы фундаментальные расхождения по поводу самих целей. Проблемы, связанные с сопоставлением настоящего и будущего удовлетворения и даже со сравнением социализма и капитализма, остались бы нерешенными, даже если бы каждого гражданина удалось обратить в утилитаристскую веру. "Здоровья" могут хотеть все, но у людей по-прежнему не было бы единого мнения по поводу целесообразности вакцинации или операции на сосудах. И так далее. Утилитаристы — отцы демократической доктрины не поняли до конца значения этой аргументации, потому что никто из них серьезно не рассматривал возможности коренных изменений в экономической системе и привычках буржуазного общества. Они в общем-то недалеко ушли от миропонимания мелкого лавочника XVIII столетия. В-третьих, как следствие двух предыдущих рассуждений, концепция воли народа или всеобщей воли, которую эти мыслители взяли на вооружение, не имеет под собой реальной почвы. Эта концепция предполагает существование однозначно определяемого общего блага, приемлемого для всех. В отличие от романтиков утилитаристы не имели понятия о полумистической, облеченной собственной волей "душе народа", о которой так много говорит историческая школа юриспруденции. Они прямодушно выводили волю народа из суммы воль индивидов. А если нет ядра, общего блага, к которому, по крайней мере в долгосрочной перспективе, тяготеют все отдельно взятые воли индивидов, мы не сможем выявить этот конкретный тип естественной общей воли. Утилитаристский центр притяжения, с одной стороны, объединяет индивидуальные воли и пытается слить их с помощью рациональной дискуссии в волю народа и, с другой стороны, возлагает на последнюю исключительное этическое значение, которое приписывается демократии классической концепцией. Эта концепция не состоит лишь в поклонении воли народа как таковой, но основывается на определенных представлениях о "естественном" объекте такой воли, выбор которого продиктован утилитаристскими соображениями. Самое существование и высшее значение такого рода "всеобщей воли" исчезают, как только исчезает понятие общего блага. Так оба столпа классической доктрины демократии рассыпаются в прах. 2. Воля народа и воля индивида Конечно, приведенные аргументы свидетельствуют против именно данной концепции воли народа, они не мешают нам попытаться выработать другую, более реалистическую концепцию. Я не намерен ставить под сомнение ни истинность, ни важность социально-психологических фактов, которые мы имеем в виду, говоря о воле нации. Их анализ — первоначальное условие для разработки проблем, связанных с пониманием демократии. Однако лучше не настаивать на этом термине, потому что он затушевывает то обстоятельство, что, как только мы освободим понятие воли народа от утилитаристских ассоциаций, мы будем создавать не иную теорию того же самого вопроса, но теорию совершенно иной проблемы. У нас есть все основания опасаться подводных камней, которые лежат на пути тех защитников демократии, которые, принимая под давлением растущего количества доказательств факты демократического процесса, пытаются умаслить результаты этого процесса маслом из сосудов, наполненных еще в XVIII в.! Но, хотя мы можем попробовать выделить общую волю или общественное мнение определенного рода из сложного переплетения индивидуальных и групповых ситуаций, воль, влияний, действий и реакций со стороны "демократического процесса", результат будет страдать отсутствием не только рационального единства, но и рационального обоснования. Первое означает, что хотя с точки зрения анализа демократический процесс не просто хаотичен — для аналитика не хаотично то, что может быть в какой-то степени объяснено, — однако результаты могут иметь какой-то рациональный смысл лишь случайно — как, например, имеет смысл осуществление определенной цели или определенного идеала. Последнее означает, что поскольку такая воля более не тождественна достижению какого-либо блага, то для того, чтобы результат был достойным с этической точки зрения, необходимо опираться на безусловную веру в демократические формы правления как таковые — веру, которая в принципе не должна зависеть от желаемоести результатов. Нелегко, как мы видели, встать на такую позицию. Но даже если мы это сделаем, отказ от утилитаристского общего блага оставляет нам немало трудностей и проблем. В частности, мы по-прежнему стоим перед практической необходимостью приписывать воле индивида совершенно нереалистичную степень независимости и рациональности. Если мы исходим из того, что воля граждан сама по себе — политический фактор, требующий уважения, то в таком случае эта юля должна прежде всего существовать. То есть она должна быть чем-то большим, чем неопределенным набором неких импульсов, возникающих на почве заданных лозунгов и неправильных впечатлений. Каждый должен в таком случае знать, каких взглядов он придерживается. Эта определенная воля должна проводиться в жизнь при помощи способности наблюдать и правильно интерпретировать факты, доступные всем, и критически отбирать информацию, связанную с фактами необщедоступными. Наконец, из этой определенной воли и проверенных фактов необходимо будет в соответствии с правилами логики сделать ясный и скорый вывод о том, что касается конкретных вопросов, — с такой высокой степенью эффективности, что мнение каждого отдельного человека (если оно не является явно абсурдным) будет приниматься наряду с мнением всех остальных [Это объясняет откровенно уравнительный характер и классической доктрины демократии, и широко распространенных демократических убеждений. Я далее оста навливаюсь на том, как Равенство может приобрести статус этическою постулата. Как фактическая характеристика человеческой натуры постулат равенства ни в ка ком аспекте не может быть верным. Имея это в виду, сам этот постулат часто пере формулируется в понятие "равенство возможностей". Но даже закрывая глаза на трудности, кроющиеся в толковании возможностей, такая переформулировка немно го нам дает, потому что, когда речь идет об определении политического поведения, нам важны действительные, а не потенциальные возможности человека, если мы хо тим, чтобы голос отдельно взятого индивида имел одинаковый вес при решении тех или иных проблем. Кроме того, следует иметь в виду, что благодаря демократической фразеологии какое бы то ни было неравенство ассоциируется с "несправедливостью". Эта ассоциация является важным элементом психологии неудачников и входит в аресенал политиков, на них опирающихся. Интереснейшим примером в этом плане был принятый в Афинах институт остракизма или, скорее, то, как его иногда использовали. Речь идет о том, что всеобщим голосованием индивид подвергался остракизму, при чем необязательно под влиянием каких-то определенных причин. Иногда такая мера давала возможность умерить притязания слишком влиятельных граждан, которые претендовали на то, что они имеют больше прав, чем остальные]. И все это образцовый гражданин должен будет делать самостоятельно, независимо от групп давления и пропаганды [Этот термин используется здесь в своем первоначальном значении, а не в том значении, которое он все чаше получает сегодня и которое предполагает следующее определение: пропагандой является заявление, исходящее из источника, который мы не приемлем. Я думаю, что сам термин происходит от названия комитета кардиналов, рассматривающего вопросы, связанные с распространением католической веры, (congregatio de propaganda fide). Сам по себе он не несет уничижительного оттенка и не предполагает передергивания фактов. Можно, например, пропагандировать науч ный метод. Пропагандировать означает представлять факты и аргументацию таким образом, чтобы повлиять в определенном направлении на действия или мнения людей], так как воля и выводы, ненавязанные электорату, не согласуются с понятием демократического процесса. На вопрос о том, выполняются ли эти условия в той степени, чтобы можно было говорить о функционировании демократии, нельзя сразу ответить "да" или "нет". На него можно ответить, только дав тщательную оценку противоречивых свидетельств. Перед тем как приступить к этому вопросу, я хотел бы убедиться в том, что читатель хорошо представляет себе еще один вопрос, о котором шла речь выше. Поэтому я повторяю, что, даже если бы мнения и желания каждого отдельного гражданина представляли бы совершенно определенную и независимую основу для развертывания демократического процесса и каждый рационально и своевременно поступал бы в соответствии с ними, отсюда еще не следовало бы, что политические решения, принимаемые в рамках этого процесса, представляли бы собой нечто такое, что с большой долей убедительности может быть названо волей народа. Можно предполагать и даже считать очень вероятным, что когда воли индивидов в значительной мере разнятся, то принимаемые политические решения не будут соответствовать тому, чего "действительно хочет народ". И нельзя сказать, что если они не соответствуют тому, чего "народ действительно хочет", то народ получит "приемлемый компромисс". Так может произойти особенно при решении тех вопросов, которые носят количественный характер или поддаются градации, как, например, вопрос о том, сколько средств следует отпустить на решение проблем безработицы при том, что с необходимостью отпустить на решение этого вопроса определенные средства согласны все. Но в том, что касается качественных вопросов, таких, как вопрос о том, надо ли преследовать еретиков или ввязываться в войны, полученный результат может оказаться в силу различных причин неприемлемым для всех, в то время как навязанное недемократической инстанцией решение может оказаться гораздо более приемлемым. Приведу пример. По моему мнению, можно определить правление Наполеона в бытность его Первым Консулом как военную диктатуру. Одной из насущных проблем тогдашнего политического момента было достижение согласия по религиозным вопросам, которое преодолело бы оставленный революцией и Директорией хаос и принесло бы мир в сердца миллионов людей. Наполеон добился этого, приняв ряд блестящих решений, апофеозом которых был конкордат с папой (1801 г.) и "органические статьи" (1802 г.), которые, примиряя непримиримое, дали необходимую степень свободы различным вероисповеданиям, укрепляя при этом власть геи сударства. Он также реорганизовал французскую католическую церковь и пересмотрел вопрос о ее финансировании, решил деликатный вопрос о "конституционных" священнослужителях и претворил в жизнь эти новые решения с минимумом трений. Эти действия Наполеона, безусловно, важнейшее историческое подтверждение тому, что люди иногда действительно хотят вполне определенных решений. Для всех, изучающих классовую структуру того периода, это достаточно очевидно, в неменьшей степени это подтверждается и всеобщей поддержкой режима Консулов, в возникновении которой религиозная политика Наполеона сыграла немалую роль. Но с трудом можно представить себе, чтобы такого результата можно было достичь демократическим путем. Антицерковные настроения к тому времени не были преодолены, и их распространение не ограничивалось побежденными якобинцами. Люди, придерживающиеся таких убеждений, или их лидеры не дошли бы на такой широкомасштабный компромисс [Законодательные органы, как бы запуганы они ни были, не смогли обеспечить Наполеону поддержку в этом вопросе. А многие из его верных сторонников были противниками компромисса]. На другом полюсе общества росли непримиримые католические настроения. Разделявшие такие убеждения люди или лидеры, зависевшие от поддержки таких людей, не остановились бы на тех рубежах, которые определил Наполеон; в частности, они не предприняли столь твердых шагов в отношении папского престола, для которых, кстати, не было особых оснований, учитывая то, как развивались события. А воля крестьян, которые требовали своих священников, церкви, церковные процессии, была бы парализована более чем естественным страхом перед тем, что революционное решение вопроса о земле будет поставлено под сомнение, как только церковные иерархи, в частности епископы, восстановят утраченные позиции. Тупик или непрекращающаяся борьба, влекущая за собой рост раздражения, были бы наиболее вероятным исходом любых попыток решить вопрос демократическим путем. Но Наполеон смог разумно решить его в значительной степени потому, что все эти группы, которые сами добровольно не могли сдать свои позиции, могли и были готовы принять навязанные сверху решения. Это не единственный пример такого рода [Из опыта Наполеона можно сделать и другие выводы. Он был автократом, который, когда дело не касалось его династических интересов или внешней политики, старался делать то, что, как он считал, необходимо или находится в соответствии с пожеланиями народа. Такого рода советы он давал Евгению Богарне в отношении управления Северной Италией]. Если правительством для народа можно назвать такое правительство, результаты политики которого в долгосрочной перспективе окажутся приемлемыми для народа в целом, то правительство, сформированное самим народом в трактате классической доктрины демократии, часто не соответствует этому критерию. 3. Человеческая природа в политике Остается ответить на наш вопрос об определенности и независимости воли избирателя, его способности наблюдать и интерпретировать и делать своевременно и быстро необходимые выводы. Этот предмет относится к той главе социальной психологии, которую можно озаглавить "Человеческая природа в политике" [Так называется откровенная, очаровательная книга одного из выдающихся представителей английской радикальной мысли Г.Уоллеса. Невзирая на все, что было потом написано на эту тему, и особенно невзирая на детальные конкретные исследования, которые теперь дают гораздо больше возможностей лучше понять вопрос, эту книгу по-прежнему можно рекомендовать как лучшее введение в политическую психологию. Однако, после того как с удивительной и достойной всяческих похвал честностью автор ратует против некритического принятия классической доктрины, он не lелает очевидного вывода. Это тем более удивительно, что он с полным правом отстаивает необходимость научного подхода и призывает к ответу лорда Браиса за то, что он в книге об Америке ратовал за то, чтобы любой ценой увидеть просвет в море необнадеживающих фактов. Г.Уоллес восклицает: "Что же мы подумаем о метеорологе, который с самого начала, не прибегая к изучению фактов, говорит о том, что он видит голубое небо". Тем не менее, излагая собственную концепцию, он в значительной мере идет по тому же пути]. В течение второй половины прошлого века идея об однородности человеческой личности и об определенной воле как движущей силе ее действий постепенно теряла привлекательность, еще до того, как Теодюль Рибо и Зигмунд Фрейд сформулировали свои теории. В частности, эти идеи постепенно и неуклонно отбрасывались в социальных науках, где внерациональному и иррациональному элементам в нашем поведении придавалось все возрастающее значение (например, в работе Парето "Мысль и общество"). Из числа источников, свидетельствующих против гипотезы рациональности, приведу лишь два. Один, — несмотря на то, что в дальнейшем проводились более подробные изыскания на эту тему, — связан с именем Густава Ле Бона, основателя или, по крайней мере, первого последовательного излагателя теории психологии толпы (psychologie des foules) [Немецкий термин (Massenpsychologie) предостерегает: понятие психологии толпы и психологии масс не следует смешивать. Первое не несет никакого классового содержания и само по себе не имеет ничего общего с изучением характера мышления и самоощущения, например, рабочего класса]. Демонстрируя, хотя и переоценивая, реалии человеческого поведения под влиянием агломерации — в особенности внезапное исчезновение в состоянии возбуждения моральных ограничителей и цивилизованных способов думать и чувствовать, внезапные взрывы примитивных импульсов, инфантилизма и криминальных наклонностей, — Ле Бон поставил нас перед лицом нелицеприятного известного всем факта, на который ранее закрывали глаза, и тем самым нанес серьезный удар по картине человеческой природы, которая лежит в основе классической доктрины демократии, и демократическому фольклору о революциях. Без сомнения, следует подчеркнуть узость фактологической базы рассуждений Ле Боне, которые, например, не очень согласуются с нормальным поведением английской или англо-американской толпы. Критики, особенно те, для которых выводы этого направления социальной психологии не согласовывались с их собственными, хорошо использовали к своей выгоде уязвимые стороны его рассуждений. Но, с другой стороны, следует помнить, что феномен психологии толпы не следует сводить к картинам массовых столкновений на узких улочках городов Южной Европы. Каждый парламент, комитет, военный Совет в составе дюжины генералов преклонного возраста демонстрирует, пусть в приглушенной форме, некоторые из тех характерных черт, которые присущи вышеупомянутой толпе, в частности пониженное чувство ответственности, более низкий уровень энергии мысли и большую подверженность влиянию нелогичных аргументов. Более того, такие феномены присущи не только толпе, понимаемой как физический конгломерат многих людей. Читатели газет, аудитория радио, члены какой-либо партии, даже если физически они не находятся вместе, могут быть очень легко объединены в психологическую толпу и приведены в безумное психическое состояние, когда любая попытка привести рациональные аргументы лишь будит звериные инстинкты. Другой источник, который я приведу, более скромный по характеру — последствия у него не связаны с кровопролитием. Экономисты, начавшие более внимательно относиться к фактам, находящимся в их распоряжении, стали приходить к выводу о том, что даже в самых повседневных делах поведение потребителей не в полной мере соответствует постулатам, которые содержатся в учебниках экономики. С одной стороны, их желания не столь определенны, а действия, направленные на выполнение желаний, не столь рациональны и быстры. С другой стороны, они столь подвержены рекламе и другим методам убеждения, что производители чаще диктуют условия вместо того, чтобы самим руководствоваться желаниями потребителей. Техника успешной рекламы в этом смысле наиболее поучительна. Почти всегда присутствует какая-то доля апелляции к разуму. Но простое утверждение, часто повторяемое, имеет большее воздействие, чем рациональная аргументация, так же, впрочем, как и прямое наступление на подсознание, которое принимает формы попыток возбудить приятные ассоциации чисто внерационального, очень часто сексуального характера. Вывод, хотя и очевидный, следует делать весьма осторожно. Принимая часто повторяемые решения, индивид подвергается благотворному, рационализирующему влиянию положительного или отрицательного опыта. Он также находится под влиянием относительно простых, не вызывающих проблем мотиваций и интересов, на которые лишь иногда оказывают влияние эмоции. С исторической точки зрения желание потребителей приобрести ботинки может хотя бы отчасти формироваться под влиянием действий производителей, предлагающих привлекательную обувь и проводящих соответствующие рекламные кампании; вместе с тем во все времена такое желание составляет жизненную необходимость, определенно выраженную и выходящую за рамки требования "ботинок вообще", и ричем длительное экспериментирование в этой области очищает ее от тех элементов иррационального, которые могли ее ранее окружать [В нашем контексте иррациональность означает неумение действовать рацио нально в соответствии с определенным желанием. Речь не идет об оценке разумности желания как такового в соответствии с мнением наблюдателя. Это важно подчерк нуть, ибо экономисты, оценивая степень иррационального поведения потребителей, часто переоценивают его. смешивая первое и второе. Так, желание фабричной работ ницы хорошо одеваться (в рамках своего понимания) может показаться профессору показателем иррационального поведения, у которого нет другого объяснения, кроме как воздействие рекламы. На самом деле это может быть пределом ее мечтаний. В этом смысле ее затраты на выполнение этого желания могут быть строго рациональ ны в вышеприведенном смысле]. Более того, под влиянием таких простых мотивов потребители учатся действовать, основываясь на непредвзятом мнении экспертов по ряду вопросов (жилище, машина) и сами становятся экспертами в некоторых областях. Неправда, что домохозяек легко обмануть в вопросах продуктов питания, известных предметов домашнего обихода или одежды. И как знает каждый коммивояжер на своем печальном опыте, они в большинстве своем умеют настоять и получить именно то, что они хотят. Это, конечно, еще более верно применительно к производителю. Без сомнения, производитель может быть ленивым, может плохо оценивать различные возможности, некомпетентным в других вопросах. Но есть эффективный механизм, который его переделает либо вовсе устран ит. Тейлоризм зиждется на том, что человек может делать простейшие операции вручную в течение тысяч лет и тем не менее делать их неэффективно. Но, однако, намерение действовать как можно более рационально и последовательное давление в целях добиться такой рациональности, бесспорно, существуют вне зависимости от того, какой уровень производственной или коммерческой деятельностимы анализируем [Этот уровень, конечно, разнится не только в зависимости от времени и места, но и в данном времени и месте между различными отраслями и классами. Такого по нятия, как универсальная рациональность, не существует]. И это касается большинства повседневных решений, принадлежащих области, которую может охватить сознание каждого индивидуального гражданина. В общем эта область состоит из проблем, касающихся лично его, его семьи, работы, увлечений, его друзей и врагов, его квартала, клана, церкви, профсоюза или иной социальной группы, активным членом которой он является, т.е. проблем, находящихся в сфере его непосредственного внимания. Эти проблемы ему хорошо знакомы независимо от той информации, которую он получает из своей газеты, на их решение он может прямо повлиять и относительно них он имеет чувство ответственности, проистекающее из того факта, что благоприятные или неблагоприятные последствия того или иного действия имеют к нему прямое отношение. Еще раз повторю: близкое знакомство с людьми и делами, чувство реальности или ответственности еще не гарантирует определенности и рациональности действия [Рациональность мысли и рациональность действия — два различных понятия. Первое не всегда гарантирует второе. И наоборот, последнее может присутствовать без каких-либо сознательных выводов и независимо от умения рационально обосновать собственные действия. Наблюдатель, особенно использующий интервью и опросы как источник информации, часто закрывает на это глаза и потому получает гипертрофированное представление о важности иррациональных начал в поведении. Это еще один источник часто встречающихся оценок подобного рода]. Для этого необходим ряд других условий, которые часто не соблюдаются. Например, поколение за поколением могут страдать от нерационального поведения в вопросах гигиены и вместе с тем не связывать свои страдания со своими же вредными привычками. До тех пор, пока это не будет сделано, объективные последствия, какими бы регулярными они не были, конечно же, не отражаются в субъективном опыте. Так, человечество с огромным трудом осознало связь между инфекцией и эпидемиями. Факты указывали на эту связь, казалось бы, с исчерпывающей очевидностью, однако до конца XVIII в. доктора почти ничего не делали для того, чтобы предотвратить общение людей, зараженных инфекционными болезнями, такими, например, как корь или оспа, со здоровыми людьми. И разумеется, что дела будут обстоять еще хуже, когда налицо не только неумение, но и нежелание признать причинно-следственные связи или существует заинтересованность в том, чтобы не признавать их. Однако, несмотря на все это, в широких рамках человеческого поведения существует более ограниченное поле — различное по размерам у разных групп и индивидов и ограниченное скорее широкими полосами, чем четко проведенной линией, — для которого характерны хорошая осведомленность, чувство реальности и ответственности. В границах этого поля существуют достаточно определенные индивидуальные устремления. Они часто могут казаться нам неумными, узкими и эгоистичными. Неясно, почему, когда дело касается политических решений, мы должны молиться У их алтаря, и еще менее понятно, почему мы должны считать всех их равноправными. Если, однако, мы сделаем такой выбор, то этот алтарь, по крайней мере, не будет пустым [Следует отметить, что, говоря об определенных и подлинных устремлениях, я не хочу возводить их в ранг единственно возможных данных для социального анализа любого рода. Естественно, сами они — продукты социальных процессов и социального окружения. Я имею в виду, что этими данными может оперировать специальный экономический анализ, выводящий цены из вкусов или желании, которые в любой конкретный момент являются заданными и не нуждаются в дальнейшем анализе. Аналогично мы можем в наших целях говорить о подлинных и определенных желаниях, которые в каждый конкретный момент независимы от попыток формировать их, хотя мы и признаем, что сами эти желания — результат прошлого влияния среды, в том числе пропагандистского. Различение подлинных и привнесенных, сформулированных желаний (см. ниже) — трудное дело, его нельзя осуществить во всех случаях, применительно к любой цели. В наших целях, однако, достаточно указать на соображения очевидного здравого смысла]. Эта относительная определенность желаний и рациональность поведения не исчезают вдруг, как только мы от повседневных забот дома и на работе, которые воспитывают и дисциплинируют нас, переходим к заботам иным. В области государственных дел есть области, которые более поддаются анализу со стороны граждан, чем другие. Это касается, во-первых, дел местного масштаба. Даже здесь воля выявлять факты и действовать в соответствии с ними и чувство ответственности ослаблены. Мы все знакомы с людьми — и часто вполне достойными, — которые заявляют, что местное управление - не их дело, и лишь пожимают плечами при виде действий которые он ни за что не допустил бы на его работе. Возвышенно мыслящие граждане, увещевающие избирателя и налогоплательщика проявить ответственность, всегда обнаруживают, что избиратель не чувствует ответственности за действия местных властей. Несмотря на это, особенно в небольших по числу людей общностях, где все друг друга знают, местный патриотизм может быть важнейшим "двигателем демократического процесса". И проблемы города во многих отношениях сродни проблемам производственного предприятия. Человек, понимающий последнее, часто до какой-то степени понимает и первое. Фабрикант, торговец или рабочий не должен выходить за рамки привычного мира для того, чтобы иметь рационально обоснованное мнение (правильное или нет) относительно уборки улиц или деятельности муниципалитета. Во-вторых, существует ряд вопросов национального масштаба, касающихся групп и отдельных лиц непосредственно и поэтому пробуждающих вполне определенные, истинные желания. В перк вую очередь речь идет о вопросах, непосредственно касающихся денежных доходов индивидуальных избирателей и их групп, таких, как прямые выплаты, защитные тарифы и т.п. Исторический опыт еще со времен античности свидетельствует о том, что в целом избиратели быстро и рационально реагируют в таких случаях. Но такого рода проявления рациональности мало что дают для поддержки классической доктрины демократии. Избиратели таким образом оказываются плохими, коррумпированными судьями в такого рода вопросах, и часто даже в вопросах [Причина, по которой бентамисты проглядели это обстоятельство, состоит в том, что они не видели возможности массовой коррупции, реализовавшейся в условиях современного капитализма. Делая в своей политической теории ту же ошибку, что и в экономической, они уверенно провозглашали, что люди — лучшие судьи своих индивидуальных интересов, которые обязательно должны совпадать с интересами всех людей, вместе взятых. Им было тем легче это сделать, что фактически, хотя и не преднамеренно, они рассуждали с позиций буржуазных интересов, которые более выигрывали от бережливости государства, чем от прямого подкупа], связанных с их долгосрочными интересами, потому что только обещания, выполнение которых рассчитано на короткие сроки, имеют политическое значение, и, следовательно, здесь проявляется только рациональность краткосрочного характера. Если, однако, мы еще более удалимся от частных проблем семьи и работы в те области национальных и международных отношений, которые напрямую и непосредственно не связаны с частными заботами, то индивидуальные желания, знание фактов и логики быстро перестают отвечать требованиям классической доктрины. Что меня удивляет более всего и кажется мне ядром проблемы — так это то, что полностью теряется чувство реальности ["Острое чувство реальности" по Уильяму Джеймсу. Важность этого обстоятельства особенно подчеркивалась Грэхемом Уоллесом]. Обычно крупные политические вопросы в сознании рядового, типичного гражданина занимают место наряду со способами проведения свободного времени, которые не достигли ранга хобби, и с темами малозначительных разговоров. Эти проблемы кажутся далекими; они совершенно непохожи по характеру на деловые предложения; опасности могут вовсе не материализоваться, а если это и произойдет, то они могут оказаться не столь серьезными; у человека возникает ощущение, что он живет в воображаемом мире. Это ограниченное чувство реальности влечет за собой не только ограниченное чувство ответственности, но и отсутствие определенной воли. У каждого, конечно, есть любимые фразы, желания, мечты, поводы для раздражения и в особенности симпатии и антипатии. Но обычно они не складываются в то, что принято называть волей — психическим явлением, соответствующим целенаправленному ответственному действию. Действительно, для частнсшо гражданина, озабоченного делами государства, нет предмета два формирования такой воли, нет задачи, вокруг которой она моща бы выкристаллизоваться. Он — член недееспособного комитета, ко-митета, включающего в себя всю нацию, и поэтому на политические проблемы он тратит меньше целенаправленных усилий, чем на партию в бридж [Нам легче будет прояснить эту проблему, если мы зададимся вопросом, почему же партия в бридж демонстрирует нам настолько больше ума и ясности мысли, чем, например, политическая дискуссия между неполитиками. Игроки в бридж имеют определенную задачу; дисциплинирующие их правила; при этом успех или неуспех четко определены и от безответственного поведения удерживает то обстоятельство, что каждая ошибка тут же скажется и будет немедленно отнесена на счет того, кто ее сделал. Эти условия, неприменимые к политическому поведению рядового гражданина, показывают, почему в политике ему не хватает той живости ума и рассудительности, которые он демонстрирует в своей профессии]. Ограниченное чувство ответственности и отсутствие четко определенной воли в свою очередь объясняют, почему рядовой гражданин не знает и не может судить о внутри- и внешнеполитических проблемах, что еще более потрясает в случае людей образованных и людей, преуспевающих в неполитических делах, чем тогда, когда речь идет о людях необразованных, занимающих в жизни скромное положение. Информации много, и она легко доступна. Но это ничего не меняет, и не стоит этому удивляться. Стоит только сравнить отношение адвоката к резюме ведущихся им дел и его же отношение к политическим новостям, изложенным в газете, чтобы понять, в чем дело. В одном случае адвокат годами целенаправленной, стимулируемой его собственными интересами профессиональной деятельности доказал что он может правильно оценить значение имеющихся в его распоряжении фактов; и теперь под влиянием стимула не менее мощного он использует свои знания, интеллект, волю для анализа дела. В другом случае он не дает себе труда достичь необходимого для суждений уровня; он не дает себе труда поглощать информацию или применять к ней те каноны критического подхода, которыми он умеет пользоваться; у него не хватает терпения на длинные или запутанные доводы. Все это показывает, что без инициативы, которая проистекает из непосредственной ответственности, несмотря на все обилие точной информации, будет преобладать незнание. Оно будет преобладать даже в условиях, когда в обществе предпринимаются заслуживающие всяческих похвал усилия выйти за рамки простого изложения информации и организовать обучение тому, как ее использовать посредством лекций, классов, дискуссионных групп. Результаты этих усилий не равны нулю. Но они малы. Людей нельзя внести вверх по лестнице — они должны карабкаться сами. Поэтому, как только обычный гражданин затрагивает политические вопросы, он опускается на более низкий уровень умственной деятельности. Он аргументирует и анализирует так, что это показалось бы ему самому инфантильным применительно к сфере его собственных интересов. Он вновь становится дикарем: его мышление становится ассоциативным и эффективным [См. гл. XII]. И это влечет за собой два серьезных последствия. Во-первых, даже если бы не было политических групп, пытающихся оказать на него влияние, то рядовой гражданин в вопросах политических скорее всего поддавался бы нерациональным или иррациональным предрассудкам и импульсам. Недостаточно рационального осмысления политических событий и отсутствия эффективной логической проверки получаемых им выводов вполне хватит, чтобы это объяснить. Более того, потому что он не до конца "вовлечен в это", он может ослабить обычные нормы морали и может поддаться влиянию темных импульсов, которые условия его частной жизни помогают ему подавлять. Но, что касается мудрости или рациональности его выводов и заключений, то, если он будет пылать праведным гневом, это будет иметь столь же негативные последствия. Это помешает ему видеть правильный масштаб вещей, рассматривать их не с одной, а с нескольких сторон одновременно. Следовательно, если однажды он выйдет из обычного состояния неопределенности и проявит определенно выраженную волю, постулированную классической доктриной демократии, то он может превратиться в еще более неумного и безответственного субъекта. В определенных случаях это может оказаться роковым для всей нации [Важность таких взрывов не вызывает сомнений. Но можно усомниться в их истинности. Анализ во многих случаях показывает, что они вызываются действием ка кой-либо группы и не исходят спонтанно от волеизъявления народа. В этом случае они являются феноменом иного рода, который мы будем анализировать. Лично я ду маю, что истинные взрывы существуют. Но я не уверен в том, что скрупулезный ана лиз не откроет какого-либо психотехнического усилия, лежащего в основе этого явления]. Во-вторых, при слабости логического элемента в общественном мыслительном процессе, отсутствии рациональной критики и принуждающего к рациональности влияния собственного опыта и ответственности возрастают возможности групп, которые преследуют свои корыстные цели. Такие группы могут состоять из профессиональных политиков, представителей экономических интересов или даже разного рода идеалистов, которые попросту заинтересованы в постановке политических шоу. Социология таких групп не имеет отношения к нашей проблеме. Здесь имеет значение только то, что, поскольку человеческая природа в политике такова, какая она есть, они могут формировать их в очень широких пределах, влиять на волю народа и даже создавать ее. При анализе политических процессов мы в большей степени сталкиваемся не с подлинной, а со сфабрикованной волей. И часто эта последняя и составляет ту общую волю, о которой говорит классическая доктрина. До тех пор, пока это так, воля народа есть продукт, а не движущая сила политического процесса. Пути, с помощью которых формируется воля общества по тем или иным вопросам, и сами эти вопросы в точности совпадают со способами воздействия коммерческой рекламы. В обоих случаях речь идет о попытках воздействия на подсознание. И здесь, и там одни и те же способы создания приятных или неприятных ассоциаций, которые тем более эффективны, чем менее рациональны. И здесь, и там те же оговорки и умалчивания, тот же способ формирования общественного мнения с помощью постоянно повторяемых утверждений, которые лучше всего достигают цели тогда, когда они обходят рациональные аргументы и не рискуют разбудить критические способности людей. И так далее. Все эти средства более применимы в сфере политической, чем в сфере частной и профессиональной жизни. Так, портрет красивейшей из девушек на обертке в конечном счете не сможет поддержать на неизменном уровне продажу плохих сигарет. В области политических решений столь же эффективных средств защиты нет. Многие решения жизненной важности носят такой характер, что общество не может позволить себе на досуге поразмыслить и поэкспериментировать с ними. Даже если это оказывается возможным, суждение не так просто вынести, как в случае с сигаретами, потому что здесь не так просто оценить последствия. Но эти психотехнические трюки в степени, которая совершенно нехарактерна для коммерческой рекламы, проникают в такие формы политической рекламы, которые апеллируют к разуму. Беззащитная жертва вызывает у наблюдателя иррациональное или во всяком случае нерациональное сочувствие, которое вовсе не становится сильнее, когда оно подкреплено аргументацией и различного рода фактами. Мы уже говорили выше о том, что почему так трудно дать общественности беспристрастную информацию о политических проблемах и сделать из нее необходимые выводы и почему происходит так, что информация и аргументы, касающиеся политических вопросов, попадут в цель, только если они соответствуют уже сложившимся взглядам гражданина. Как правило, однако, эти взгляды недостаточно определенны для того, чтобы предопределить конкретные выводы. Поскольку сами эти выводы можно сфабриковать, то эффективная политическая аргументация почти неизбежно предполагает попытки придать определенные очертания уже существующим волевым проявлениям, а не просто провести их в жизнь или помочь гражданину составить собственное мнение. Поскольку в своих интересах или для достижения своих целей человек легко солжет, то мы предполагаем и на самом деле находим, что эффективная аргументация в политике всегда является фальсифицированной или выборочной [Выборочная информация, правильная сама по себе, есть попытка солгать, гово ря правду] и состоит в том, чтобы превратить некоторые положения в аксиомы, а иные, наоборот, замолчать; таким образом, она сводится к психотехническим приемам, о которых говорилось выше. Читателю, считающему меня слишком большим пессимистом, стоит только вспомнить о том, что он сам слышал — или говорил, — что о тех или иных неудобных фактах не стоит говорить открыто, а те или иные аргументы, хотя и правильные, приводить нежелательно. Если люди, которые по общепринятым оценкам достойны всяческого уважения, мирятся с этим, то разве они тем самым не выказывают своего отношения к достоинствам и даже к самому существованию воли народа? Конечно, всему этому есть пределы [Вероятно, их можно было бы более четко очертить, если те или иные вопросы решались бы на референдумах. Вероятно, политики прекрасно знают, почему они почти всегда отрицательно относятся к этому институту]. И есть правда в мысли Джефферсона о том, что в конечном счете народ мудрее каждого отдельно взятого индивида, или в высказывании Линкольна о невозможности "дурачить всех все время". Но оба эти высказывания не случайно подчеркивают долгосрочный аспект. Без сомнения, можно утверждать, что со временем коллективное сознание людей вырабатывает мнения, которые весьма часто представляются в высшей степени разумными и даже проницательными. История, однако, состоит из последовательных краткосрочных ситуаций, которые могут в корне изменить ход событий. Если в краткосрочной перспективе можно одурачить всех и заставить их принять то, чего; они на самом деле не хотят, и если это не исключение, на которое можно закрыть глаза, то никакое количество ретроспективного здравого смысла не меняет главного вывода: не народ в действительности поднимает и решает вопросы, эти вопросы, определяющие его участь, поднимаются и решаются за него. Приверженец демократии более, чем кто бы то ни было, должен принять этот факт как данность, тогда никто не сможет утверждать, что его вера в демократию основана на притворстве. 4. Причины выживания классической доктрины Но почему доктрина, в такой степени противоречащая фактам, до сего дня смогла выжить и продолжает удерживать свое место в сердцах людей и в официальной фразеологии правительств? Опровергающие ее факты всем известны; все признают их с абсолютной, часто циничной откровенностью. Теоретическая база, утилитарный рационализм мертв, никто не принимает его за правильную теорию политического организма. Несмотря на кажущийся парадокс, на этот вопрос нетрудно ответить. Во-первых, хотя политическая доктрина коллективного действия может не подтверждаться результатами эмпирического анализа, она подтверждается той опорой на религиозные представления, о которой уже шла речь. На первый взгляд это может не показаться очевидным. Утилитаристские лидеры были далеки от религии в общепринятом понимании. Напротив, они считали себя антирелигиозными и почти все считали их таковыми. Они гордились своим, как они считали, неметафизическим мировоззрением и не симпатизировали религиозным институтам и движениям своего времени. Но стоит еще раз взглянуть на ту картину социального развития, которую они нарисовали, чтобы открыть, что она воплощает в себе ключевые элементы протестантизма и, более того, сама я основывается на этой вере. Для интеллектуала, который отказался от своей веры, утилитаристские убеждения заменили ее. Для многих из тех, кто остался при своих религиозных убеждениях, классическая доктрина стала их политическим дополнением [Обратите внимание на аналогию с социалистическими убеждениями, которые также заменяли для одних и дополняли для других их христианские убеждения]. Переформулированные в категориях религии, эта доктрина и, как следствие, демократические убеждения, которые на ней основаны, изменяют саму свою природу. Больше нет места логическим сомнениям относительно Общего блага и Высших ценностей. Все эти проблемы решены за нас Творцом, цели которого определяют и санкционируют все. Все то, что раньше казалось неопределенным или немотивированным, вдруг становится вполне определенным и убедительным. Например, глас народа есть глас Божий. Или возьмем Равенство. Само значение этого понятия сомнительно, и вряд ли есть какое-либо рациональное основание для того, чтобы принять его как постулат, до тех пор пока мы находимся в сфере эмпирического анализа. Но в христианстве есть сильный эгалитаристский элемент. Спаситель умер за всех: он не делал различия между людьми различного социального статуса. Поступив так, он подтвердил непреходящее значение каждой отдельно взятой души, без всяких различий. Разве это не обоснование, — как мне представляется, единственно возможное [Можно возразить, что, как ни трудно придать общее значение понятию Равенства, такое значение почти всегда можно вывести из контекста. Например, из анализа условий Геттисбергской речи можно заключить, что, заявляя, что все люди созданы свободными и равными, Линкольн просто имел в виду равенство статуса в противовес рабству. Такое значение вполне определенно. Но если на вопрос, почему такое заявление должно обязывать нас в моральном и политическом плане, не ответить: "Потому что все люди по природе одинаковы", то мы можем апеллировать лишь к божественной воле, в соответствии с христианской верой такое решение подразумевается словом "созданы"], того, что "каждый значит столько же, сколько другой, никто не значит больше другого", — обоснование, которое придает неземное содержание демократическому кредо, которому трудно подобрать какое-либо другое содержание. Эта интерпретация, конечно, не исчерпывает всего. Однако она может объяснить многие вещи, которые кажутся необъяснимыми и даже лишенными смысла. В частности, она объясняет отношение верующего к критике: опять, как и в случае с социализмом, фундаментальные расхождения во взглядах расцениваются не как ошибка, а как грех; они вызывают не просто логические контраргументы, но моральное осуждение. Можно иначе поставить вопрос и заявить, что демократия, обосновываемая таким образом, перестает быть просто методом, который можно рационально обсуждать, как устройство паровоза или свойства дезинфицирующих средств. Она становится тем, что я с других позиций считал невозможным, т.е. идеалом или, скорее, частью идеального устройства вещей. Само слово может стать знаменем, символом всего, что дорого человеку, что дорого ему в своей нации, независимо от того, рационально это или нет. С одной стороны, вопрос о том, как различные тезисы, предусматриваемые демократическими убеждениями, связаны с фактами политической жизни, станут ему столь же безразличны, как верующему католику безразлично, как совмещаются действия папы Александра VI [Александр Борджиа (1431-1503). Прославился организованной им серией убийств своих политических противников] со сверхъестественным ореолом, окружающим институт папства. С другой стороны, демократ такого типа, принимая постулат равенства и братства, сможет принять, причем искренне, любую долю отклонений от них в собственном поведении или взглядах. Это даже не нелогично. Простое несовпадение с фактами — не аргумент против этической максимы или мистической надежды. Во-вторых, следует иметь в виду то обстоятельство, что формы и фразы классической демократии для многих наций ассоциируются с событиями их истории, которые с энтузиазмом воспринимает подавляющее большинство населения. Любая оппозиция установленному режиму скорее всего будет их использовать вне зависимости от того, какие намерения и социальные корни она имеет [Может показаться, что следует сделать исключение для оппозиций, победы которых привели к возникновению откровенно автократических режимов. Но большинство этих режимов, как показывает исторический анализ, родились демократическим путем и правили, опираясь на поддержку народа. Цезаря убили не плебеи. Но аристократы-олигархи, убившие его, также использовали демократическую фразеологию]. Если она одержит победу и последующий ход событий окажется благоприятным, то эти формы укоренятся в идеологии нации. Соединенные Штаты — яркий тому пример. Само их существование как суверенного государства связано с борьбой против монархической и аристократической Англии. За исключением меньшинства роялистов, американцы во время администрации Гренвилля [Джордж Гренвилль (1712-1770) — английский государственный деятель, государственный секретарь и канцлер казначейства. Он был автором закона о почтовых сборах в Американских колониях, который послужил одной из причин Войны за независимость этих колоний от Англии], по-видимому, перестали считать английского монарха своим королем, а английскую аристократию — своей аристократией. В войну за независимость они воевали против тех, кто и фактически, и по их внутреннему ощущению стал для них иностранным монархом и иностранной аристократией, препятствовавшими осуществлению их экономических и политических интересов. Однако с самого начала они представляли войну за свои национальные интересы как противостояние "народа" и "правителей" в терминах неотъемлемых Прав Человека и в свете основных принципов классической доктрины демократии. В тексте Декларации независимости и Конституции эти принципы приняты на вооружение. Поразительное развитие этой страны увлекло и удовлетворило большинство ее граждан и тем самым, казалось, подтвердило истинность доктрины, лежавшей в основе священных документов нации. Оппозиции редко удается одержать победу, когда правящие группы находятся в зените власти и успехов. В первой половине XIX в. оппозиционные силы, придерживавшиеся классических принципов демократии, укрепились и постепенно одержали победу над правительствами, некоторые из которых, как, например, в Италии, явно находились в состоянии упадка, стали воплощением некомпетентности, грубой силы и коррупции. Естественно, хотя и не в силу логических доводов, это усилило позиции самих этих принципов, которые смотрелись в выгодном свете, особенно при сопоставлении с невежеством и предрассудками, которые отстаивали данные правительства. В этих обстоятельствах демократическая революция означала наступление свободы и порядочности, а демократические принципы представлялись святыней разума и человеческого рода. Ясно, что это преимущество в дальнейшем было утеряно, и разрыв между доктриной и практикой демократии неизбежно был обнаружен. Но ореол вокруг демократии угасал очень медленно. В-третьих, нельзя забывать о том, что существуют социальные структуры, в которых классическая доктрина демократии может со значительной долей приближения соответствовать фактам. Как уже подчеркивалось, это относится в первую очередь ко многим небольшим и примитивным обществам, которые, между прочим, служили для авторов этой доктрины прототипами. Это может также касаться и непримитивных обществ при условии, что в них нет глубокого расслоения и серьезных проблем. Швейцария — лучший пример такого рода. Почти нет спорных вопросов в той стране крестьян, где, за исключением гостиниц и банков, почти нет капиталистической индустрии и проблемы государственной политики настолько просты и стабильны, что подавляющее большинство может понять их и достичь согласия. Но сделав вывод о том, что в таких случаях классическая доктрина приближается к реальности, мы должны немедленно добавить, что это происходит не потому, что она описывает эффективный механизм принятия политических решений, но лишь потому, что нет необходимости принимать важные решения. Наконец, случай с Соединенными Штатами можно опять взять в качестве доказательства того, что классическая доктрина иногда, похоже, совпадает с фактическим развитием событий даже в большом обществе с высокой степенью расслоения, перед которым встают крупные проблемы, требующие решения при условии, что благоприятное стечение обстоятельств лишает эти проблемы остроты. До вступления этой страны в первую мировую войну общественное мнение было в основном озабочено эксплуатацией экономических возможностей окружающей среды. До тех пор, пока ничто серьезное этому не препятствовало, ничто и не имело жизненно важного значения для рядового гражданина, который добродушно презирал проделки политиков. Какая-то часть общества могла волноваться по поводу тарифов, серебра, проблем местного управления, очередной стычки с Англией. Народ в целом оставался равнодушным, кроме единственного случая серьезных разногласий, который породил национальное бедствие, Гражданскую войну. И в-четвертых, политики любят фразеологию, которая льстит массам и дает прекрасную возможность не только для того, чтобы избежать ответственности, но и для того, чтобы во имя народа сокрушить противников. |
| Московский Либертариум, 1994-2020 |