 |
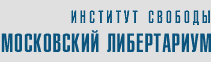 |
|
||
Национальный вопрос и религия в контексте государственного строительства в посткоммунистическом миреаннотация 11.05.1993, А.Салмин
1. Вызов либерализма
Сегодня дискуссии о будущем России обычно поляризуют "культурное" (то есть публично рассуждающее) сообщество по отношению к идее "либеральной государственности западного типа". Являясь признаком возвращения на "общечеловеческий путь развития" для одних, для других эта "государственность" оказывается символом отречения от себя и культурной деградации. Понимая всю естественность и практическую неустранимость в обозримом будущем подобной дихотомии, вновь и вновь -- под разными именами -- возрождающейся в русской культуре, предлагаем все же попытаться перевести разговор о "либеральных началах" в отечественном государственном и общественном строительстве в несколько иное русло. Констатируем для начала два обстоятельства, которые выглядят, как представляется, достаточно очевидными:
Признавая эти обстоятельства и отдавая им должное, мы вынуждены, тем не менее, признать, что сами по себе они не означают "неизбежности" и даже "необходимости" внедрения в России либеральных государственных и общественных форм, равно как и отстаивания противоположной точки зрения. Наличие некоторых необходимых элементов само по себе еще не обеспечивает их синтеза: воду в принципе нетрудно (хотя и дорого) разложить на водород и кислород, но синтезировать эти элементы технически пока невозможно. Очевидно, что в этом химическом случае, как и в нашем социологическом, присутствует еще и третий "элемент": особые, уникальные условия синтеза, попытка воссоздания которых в особой технологии часто выявляет "непростоту" реальной формулы исследуемой материи (как это и происходит, скажем, с водой). Западный "либерализм" [Под "либерализмом" мы понимаем в данном случае не либеральную идеологию в узком смысле слова, а реальный либерально-консервативный государственный и общественный синтез. Как и во всей статье, речь идет о политических, а не экономических аспектах синтеза.], как бы к нему ни относиться, глядя из России (отметим лишь попутно, что борьба различных реакций на него была, при всей болезненности, плодотворной для русской культуры), -- явление не только синтетическое, но, по-своему, и алгоритмическое. Его генезис невозможно понять вне контекста западной истории: вне вековой эмансипации от цезаристского соблазна духовной империи Рима; эмансипации, обернувшейся абсолютизмом... Вне попыток противостоять абсолютистским утопиям (вспомним полемику Локка с Филмером), но также и "ультрамонтанской" реакции, опираясь на разум, здравый смысл или наследие западного христианства, редуцированное к догматике отдельных деноминации... Как бы ни относиться к историческому опыту Запада, воспроизвести его можно, лишь воспроизведя всю совокупность важнейших "сопутствующих обстоятельств"... Парадокс, однако, в том, что в посткоммунистическом мире реально осмыслить собственные проблемы можно по преимуществу в терминах не вполне адекватного нашему, но доминирующего опыта. [Доминирование это началось не сегодня и не в 1917г.: почти вся классическая русская философия конца ХIХ--ХХ вв. в известном смысле -- псевдоморфоза.] Так, многообразные культуры христианского Запада начинали говорить на латыни, а культуры Переднего Востока общались между собой по-гречески. Едва ли заложим твердые основания государственной или общественной организации, копируя готовые формы (речь идет, понятно, не о технике, как таковой) или пытаясь политически решать проблемы другой цивилизации, нам не чуждые, но у нас, может быть, не субстанциальные, а акциденциальные... Построить реальную государственность, не бросающую открытый вызов природе человека, можно, лишь отвечая (и отвечая адекватно: четко и быстро) на реальные вопросы. Сегодня для всего посткоммунистического мира таким вопросом является в первую очередь национальный. Серьезнейшей же проблемой будущего государственного синтеза является, во-первых, соотнесение этого вопроса с основаниями собственной духовной традиции, а во-вторых, помещение его в контекст мирового политического развития. 2. Национальный комплекс Когда сегодня сплошь и рядом, особенно в бывших Советском Союзе и Югославии, -- мы сталкиваемся с насилием и несправедливостью, рождающимися на почве национализма, то не можем не задаться вопросом о связи последнего с религией. Находящиеся в принципе в разных измерениях, в реальной жизни они опасно соседствуют и временами, как кажется, соединяются в противоестественном союзе. Так происходит во всяком случае в межэтнических конфликтах или, точнее, в конфликтах, имеющих этническую окраску. Это необходимо отметить с самого начала, поскольку вне конфликта или по крайней мере определенной систематической дискриминации по этническому признаку, "национализм" -- некая вещь в себе. Он так же трудно уловим, так же лишен "массы покоя", если можно так выразиться, как обычное, не поддающееся нормативному регулированию отношение одного индивида к другому. В отношениях и между отдельными людьми, и между этническими группами существуют определенные предубеждения: иногда мимолетные, иногда устойчивые, объясняемые историей, геополитическими факторами, экономическими структурами и еще чем-то, плохо поддающимся рационализации. Совершенно естественно, что все государственные образования, а не только "национальные государства", возникают и существуют в среде межэтнических (равно как и межрелигиозных) взаимодействий: более тонких или достаточно однозначных и устойчивых. "Национальная" государственность, как и негосударственный национализм, лишь властно придает так или иначе понимаемому "национальному комплексу" особое место в системе и в иерархии символических и идеологических регуляторов. В таком контексте национализм -- некое односторонне и нередко болезненно развившееся этническое предубеждение, закрепленное не только на уровне индивидуальной установки и даже не только первичной группы (особенно семьи), но и на уровне идеологически сплоченной организации, наконец -- государственных и правовых институтов. Чем выше уровень закрепления, институционализации национальных предубеждении, тем жестче националистический комплекс. Тем более развита в нем система прямых и обратных связей и тем меньше зависит он от колебании индивидуальном или коллективной психологии. "Выше" -- не только и даже не столько в системе институтов государства или форм общественной самоорганизации. Главное -- место "национального комплекса" в системе ценностен, усвоенных государством или навязанных ему. Только в том случае, когда "национальная идея" занимает место религии, которой более или менее явно противопоставляется, она приобретает исключительный и разрушительный характер, отличавший идеологические режимы ХХ века. Все это достаточно ясно в принципе. На практике, однако, входя в идеологический континуум повседневности, религия и этническое сознание крайне редко выступают как знаки некоей "двоичной системы". Можно представить себе как минимум три основных контекста, в которых религиозный фактор заметно присутствует в межэтническом конфликте или в ситуации этнического самоутверждения. 1. Религиозная идентификация выступает как более широкая и более глубокая, чем национальная или этническая. Так, в тех случаях, когда азербайджанцы в начавшемся в 1988 г. конфликте с армянами акцентируют свою принадлежность к исламу, это делается, очевидно, в первую очередь в расчете на поддержку, хотя бы символическую, соответствующую историко-культурной и геополитической общности. Во вторую очередь (что не означает, конечно, второстепенности) в религиозных основаниях культуры пытаются найти, почти инстинктивно, ориентиры в крайне зыбкой реальности воины, нового геополитического и лингвистического выбора. При этом действительно может углубляться сильно деформированная за годы коммунистического режима идентификация со своей религией, что может иметь и самостоятельные последствия. Разумеется, все сказанное в той или иной мере относится и к армянам - другой стороне в конфликте, равно как и к любому участнику конфликта между общностями, разделенными одновременно этнической и конфессиональной границей. Очень часто наложение друг на друга религиозной и этнической идентификации ставит если не отдельных людей, то общественные объединения и государство перед выбором: какую из них укреплять преимущественно. Так, в Османской империи, а затем Турецкой республике отношения между пантюркизмом и панисламизмом всегда были в той или иной степени конфликтными. То же можно сказать, с известным допущением, и о нюансах "выбора" между "славянской" и "православной" ориентациями в балканской политике Российской империи. Как правило, между двумя политическими ориентациями устанавливается какое-то зыбкое идеологическое равновесие, при том, что реально происходит усиление узко-этнократических тенденций во внутренней и внешней политике. 2. Этническая и религиозная идентификация находятся как бы в одной плоскости в повседневной политике, как разные формы общинной идентификации. Так, в Боснии говорят сегодня и говорили всегда о сербах, хорватах и мусульманах, в то же время как в Косово говорят об албанцах, хотя они тоже мусульмане. В Ливане мы находим шиитов, суннитов, маронитов, друзов и среди остальных -- армян. Речь идет, конечно, о специфическом конфликте (или просто взаимодействии) на уровне ниже национально-общинного, в ситуации, когда каждая из общин имеет (или хотела бы иметь, хотя бы подсознательно, по аналогии с другими -- случай боснийских мусульман) "коренной" оплот за пределами своего территориально-государственного образования. Прослеживается, однако, в данном случае и нечто общее для всех конфликтов, зашедших достаточно далеко. Любой из них есть, в конечном счете, воина всех против всех и во имя всего. В реальном столкновении причины и следствия, мотивации и рациональные объяснения поступков перемешаны: отождествление себя с тон или инеи общностью любого уровня подчиняется скорее всего логике не то чтобы политической -- психологической целесообразности, то есть в конечном счете инстинкту культурного самосохранения. 3. Религиозные нормы и организации играют роль фактора, сдерживающего развитие национализма и мешающего приобретению им крайних форм. Развитая националистическая идеология, подобно любой относительно устойчивой светской форме сознания, вступает в противоречие с нормами мировых религии, при том, что постоянно делаются попытки воспользоваться их авторитетом. Следствием этого в христианских странах нередко становятся внутренние неурядицы и паже церковные расколы, более или менее явно поощряемые националистически настроенными властями. Откровенно секулярные режимы сегодняшнего дня отличаются в этом смысле от рождавшихся на заре нового времени национальных государств, пожалуй, лишь более выраженным утилитаризмом, узким прагматизмом и неуклюжестью действия в отношении местных церквей. Реакция организованной религии на национализм, в свою очередь, оказывается, как правило, ослабленной, когда он становится официальном идеологией государства: во всяком случае, если государственная власть не является явно узурпаторской, нелегитимной. Речь идет в данном случае о христианских странах, хотя в принципе мировые религии, по крайнем мере если говорить о христианстве и исламе, типологически сходно относятся к национализму в его крайних формах. Это относится, в частности, к политическому христианству и, соответственно, политическому исламу. Небольшом, но зато как будто специально предназначенный для компаративистики, политический опыт бывшего СССР, уже позволяет делать некоторые обобщения, какими бы предварительными они ни были. Так, в идеологии бывшей союзной Исламской партии возрождения антинационалистический пафос был очень силен: националистов и национал-демократов, действовавших в мусульманских районах Советского Союза, эта партия всегда считала одними из главных противников истинного ислама. [Д.В. Микульский, Исламская партия возрождения, М., Горбачев Фонд, 1993, с. 52--53] Более или менее резко с момента своего возникновения выступали против национализма и три основных "христианско-демократических" группировки в России: Христианско-демократический союз, Российское христианско-демократическое движение, Христианско-демократическая партия. С другом стороны, всякий светский национализм, гипертрофирующий государственное начало, неизбежно стесняет естественное развитие любой организованной религии. Католическая церковь в Италии при Муссолини в принципе едва ли пользовалась большим иммунитетом от политики националистического государства и имела на него большее влияние, чем русская православная церковь при последних Романовых, когда национализм в Российской империи стал усиливаться. Наконец, там, где мировая религия становится катализатором возникновения организованных политических сил, они обычно все же подчиняются логике развивающегося политического конфликта, какой бы она ни была. упомянутая выше Исламская партия возрождения раскололась на национальные организации: главная ее часть, сохранившаяся в Таджикистане, стала активным участником сложного конфликта, имеющего клановый, общинный, локалистский характер, но, во всяком случае, не этно-конфессиональный. "Христианско-демократические" организации в России поляризовались в первую очередь вовсе не по принципу их отношения к конфессиональным проблемам (хотя здесь и существуют важные нюансы с точки зрения конфессионального состава группировок и их ориентаций на Московскую Патриархию или Русскую Православную Церковь за границей), а исходя из дифференциации на "демократов" и "национал-патриотов." [Религия и политика в посткоммунистической России (материалы "круглого стола"), -- "Вопросы философии", # 7, 1992, с. 19] 3. Опыт России в 1988--1992 г. Обращаясь к России в период после 1988 г. -- года тысячелетия крещения Руси, когда впервые после революции 1917 г. Русская Православная Церковь, а за ней и другие конфессии получили возможность относительно свободного существования, мы обнаруживаем важное отклонение от простой схемы: "религия" -- "национализм". В сегодняшней России эти два разноплановых идеологических начала не могут рассматриваться в отрыве от третьего, того, что недавно обобщенно называлось "коммунистической идеологией" и чему сегодня с разных сторон пытаются дать более нюансированное определение. Некоторая неопределенность в сфере идеологии соответствует в известном смысле размытости и даже двусмысленности ситуации в области церковно-государственных отношений в России. Их "нормализация" по сути оставалась, а во многом и по сен день остается для общества и государства, но также и для церкви, не столько достигнутым состоянием, сколько декларацией намерений и своеобразной "разведкой боем", ведущейся по всем культурным азимутам. Отношения между высшей исполнительной и в меньшей степени -- законодательной властью и Патриархией стали подчеркнуто теплыми, но при этом внутренне достаточно напряженными, запутанными. Главное же, не регулируемыми писанными или неписанными нормами остаются отношения многих епархия и приходов с местными властями. И дело здесь, как это ни странно на первый взгляд, не столько в позиции носителем власти в отношении церкви как института и юридического лица, сколько в отношении ценностей и норм самой власти, так или иначе соотносящихся с ценностями церкви. На это обстоятельство обратил в свое время внимание протоиерея Владимир Мустафин из Петербургской духовной академии, участник одного из первых официальных "круглых столов" периода перестройки, явно или скрыто ориентирующихся на традицию знаменитых Религиозно-философских собрании начала ХХ века. Останавливаясь на тезисе своего собеседника, философа из тогдашней Академии Общественных наук при Центральном Комитете КПСС, согласно которому сейчас "общечеловеческая мораль должна признаваться всеми", о. Владимир ответил: "Это удивляет, ибо до сих пор советские философы-марксисты упорно отстаивали свою приверженность "классовой" морали. Очевидно, что отказ от классовой морали не может представляться невинным изменением философской установки. Этот отказ означает признание несостоятельности всей прежней позиции советской философии в области морали. Конечно, такая перемена, с христианской точки зрения, есть дело безусловно благое, которое надо осуществить уже давно. Но эта перемена носит характер философской революции, а не само собой разумеющегося, так сказать, диалектического изменения прежних взглядов, изменения якобы естественного и беспроблемного. Напротив, проблемы есть, и по крайней мере две из них требуют срочного решения. Первая: как оправдать перемену позиции советских марксистов, т. е. отказ от классовой морали и признание объективно-абсолютных нравственных форм, обязательных для осуществления всеми без исключения? Эта проблема кардинальная, ибо на признании относительности (а это есть синоним классовости) морали была в значительной степени осуществлена и революция. Другая проблема состоит в необходимости эту перемену позиции довести до сознания идеологов среднего и низшего звена." [Культура, нравственность, религия (Материалы "круглого стола"), -- "Вопросы философии", # 11 , 1989, с. 38--39] За прошедшие несколько лет в стране многое изменилось, но и в сегодняшнеи России преобладающий тон не только официальной идеологии, если о таковоя все еще можно говорить, но и массового сознания, подразумевая радикальную смену позиции в отношении ценностей, определяющих вектор развития советской государственности и общественности с момента революции 1917 г., не предполагает того, что церковь обозначает термином "h metanoia" -- дословно, "перемена ума" (то есть покаяние). Августовский путч и распад СССР в декабре 1991 г. подвели черту под режимом и его символикой, не создав твердых оснований и символики нового строя. Предполагаемая смена господствующего типа морали не до конца объяснена и, если можно так выразиться, еще не вполне пережита не только властью, но и значительной частью общества. "Перемена ума", между тем, отнюдь не сводится к простои констатации совершенной ошибки и тем более не имеет следствием желание поскорее забыть о ней, ухватившись за первую попавшуюся идею, кажущуюся в данных момент правильной. Признание отвергнутого убеждения ошибочным и признание совершенной ошибки -- совсем не одно и то же. Власть, иными словами, пока что не самоопределилась историософски, в смысле обретения непротиворечивой системы ценностей. Отплыв от одного аксиологического берега в 1988 году, потеряв его из виду в 1991 г., она не пристала к другому, что не позволяет, в частности, считать и отношения между государством и церковью принципиально стабилизировавшимися. Развитие - возможно драматическое -- этих отношений будет, скорее всего составлять существенную часть истории последнего десятилетия века, а, может быть, и последующих десятилетии. Перед теми, кто выступает или намерен выступать от имени центральной власти, сегодня стоит, собственно, альтернатива: или принять все грехи и преступления революции на себя, не отказываясь -- полностью или частично -- от ее делен и идеалов, от тех, кто ее совершал, или отвергнуть саму революцию как ценность, целиком отождествив себя с иной традицией осмысления и отправления власти. В первом случае предстоит длительный и чрезвычайно болезненный поиск идентичности, не обязательно обреченный на успех, во втором -- трудное и, возможно, не менее болезненное обретение структур, в которых воплощалась бы возрождаемая традиция, не говоря уже о "примирении" с теми, для кого революция -- все еще значимый символ. Нельзя, разумеется, исключать ни того, что альтернатива (а с ней и вероятность колебаний в ориентации носителей власти) останется более или менее постоянным структурообразующим фактором политической культуры в течение длительного времени, ни того, что, сохранившись подобно некоему "следу" в памяти культуры в узком смысле слова, она окажется практически вытесненной собственно из культуры политической, то есть системы представления, норм и обычаев, связанных с отправлением власти. Вполне вероятно, что очередное изменение ориентации власти будет всякий раз требовать более или менее основательном ревизии если не всего комплекса отношений с церковью, то, по крайней мере, некоторых существенных его элементов. Чем чаще будет меняться политическая конъюнктура, тем естественнее ожидать, что общество будет тяготеть к некоей институциональной стабилизации отношении между церковью и государством при том условии, что общественный вес церкви будет достаточно велик. Ни в коем мере нельзя, конечно, сбрасывать со счетов и того что нравственное и историческое самоопределение власти на практике будет сдерживаться реактивностью массового сознания, не готового к "перемене ума" или упорствующего в свободно выбранном убеждении. В этом контексте и следует, очевидно, рассматривать проблему взаимоотношений между религией и националистической идеологией в сегодняшней России. Дискредитация прежней официальной системы ценностей произошла быстрее, чем складывание новой и, соответственно, чем формирование иной властной структуры общества. Остатки прежней идеократии на всех уровнях испытывают что-то наподобие идеологического "абстинентного синдрома", пытаясь самоопределиться в пространстве, на одном полюсе которого больная, переживающая внутренние неурядицы церковь, а на другом -- смутное видение некоей "национальной идеи". Наконец, общим фоном этого выбора является настороженность (в лучшем случае) в отношении антитоталитарных реформ, навязчиво отождествляемых с "вестернизацией" и "либерализацией" страны. Любопытную трактовку этой ситуации (в своей, естественно, системе категории) дает автор одной из программных статен, опубликованных в "Нашем современнике", -- органе "национальной" реакции на такие реформы. "По моим наблюдениям, -- пишет он, -- космополитически настроенная прослойка руководящих кадров, которой, по сути, наплевать на народ, на его духовность и, следовательно, на церковь, тем не менее из политических соображений заигрывает с церковными иерархами, стремясь накануне решающей битвы в истории нашей страны привлечь верующих на свою сторону. Напротив, патриотически настроенные руководящие кадры, менее искушенные в политике, упрямо придерживаются своего недоброжелательного отношения к церкви, которое у них за десятилетия государства агрессивного атеизма стало, можно сказать, принципиальным или догматическим." [М.Антонов, Выход есть! Когда и чем закончится перестройка, Ч. 1, -- "Наш современник", # 8, 1989, с. 110] "Патриотически настроенные руководящие кадры" в контексте конца 80-х годов -- это, конечно, коммунистическая номенклатура, атеистическая по духу и срочно пытающаяся найти для себя альтернативное идеологическое оправдание. То, что получило условное и несколько неуклюжее название "национал-патриотизма". Синтез коммунистических и националистических архетипов, однако, отнюдь не сводится только к самоочевидному поиску идеологии -- субститута: он имеет достаточно глубокие культурные основания. Комплекс "классовой морали", о жизнеспособности которого косвенно свидетельствовали данные некоторых опросов общественного мнения, проведенных на рубеже 80-х и 90-х гг., в принципе является частным случаем определенной парадигмы, выражающей основополагающие аксиологические особенности секулярного сознания. [Л.Г. Новикова, А.А. Овсянников, Д.Г. Ротман, Стереотипы исторического самосознания (по материалам межрегионального исследования), -- "Социологические исследования", # 5, 1989; Л. Бызов, Н. Львов, Перестройка: политическое сознание и социальные отношения, -- "Век ХХ и мир", # 9, 1989, с. 14] О том, что связь "классовой морали" и оппонирующего ей в конкретных исторических условиях национализма глубже, чем может показаться на первый взгляд, свидетельствует и то, как обосновывается в националистической идеологии, "преодолевающей" коммунизм, разрыв с ним. В указанной статье в "Нашем современнике" не без внутренней, скрытой логики цитируется Вл.Соловьев: "Безнравственна не индивидуальная собственность, не разделение труда и капитала, а именно плутократия. Она же безнравственна и отвратительна как извращение общественного порядка, как превращение низшей и служебной по существу своему области, именно экономической, в высшую и господствующую, которой все остальное должно служить средством и орудием. Но от этого извращения не свободен и социализм. В самом деле, если для представителя современной плутократии нормальный человек есть прежде всего капиталист, а потом уже ...гражданин, семьянин, образованный человек, может быть, член какой-нибудь церкви, то ведь и с точки зрения социализма все остальные интересы исчезают перед интересом экономическим, и здесь также низшая материальная область жизни, промышленная деятельность, является решительно преобладающей, закрывает собой все другое." [Цит. по: М. Антонов, цит. соч., ч. II, -- "Наш современник", # 9, 1989, с. 146] И дальше: "...Если отдельное лицо станет на точку зрения материального благосостояния как высшего блага и положительной цели жизни, то, очевидно... на этой точке зрения каждый будет заботиться о других единственно лишь насколько они пригодны для его материальных целей, то есть он будет их эксплуатировать, относиться к ним как к вещам полезным, а не как к лицам, следовательно, деятельность, исходящая из этого принципа, будет по необходимости несправедлива и безнравственна"[там же, с. 148]. Можно согласиться, что это и есть более или менее адекватное описание содержания того, что можно назвать, в частности, и "классовой моралью". Но утилитаризм, о котором говорил Вл.Соловьев, -- не все в ней, а, может быть, паже и не главное. За содержанием, являющимся объектом сознания, скрывается еще нечто, что относится, скорее, к подсознанию, вытесняется в подсознание и лишь рационализируется как стремление к "пользе". Речь идет о стремлении к присвоению или/и разрушению: к объективации, превращающей субъект в сферу самоутверждения, в объект самых разнообразных страстей. Краткосрочный или долгосрочный упадок культуры, в том числе и светской, неизбежно приводит к ослаблению не только обыденной морали, но и ее утилитаристской изнанки. На поверхность вырываются подавляемые страсти, облекающиеся обычно все же в форму морали, но особой, не общечеловеческой: в том числе -- и "классовой". Однако и "классовая мораль" имеет определенные градации. Существует некоторая дистанция между представлением о классах, как общностях, искажающих природу человека и оттого нравственно неприемлемых, и практически подавляющим обыденную мораль восприятием их в качестве общностей, полностью детерминирующих какую-то особую природу входящих в них людей. Доведенная до крайности объективация вступает в противоречие с логикой классового подхода, допускающей все же свободу индивидуального самоопределения, не говоря об эмпирической действительности. Этносы, родовые общности в большей степени отвечают логике объективизации и рано или поздно "проявляются" в ней. Национал-социализм -- трансцензус социализма. Смена же темы и отчасти ее интерпретаторов, среды, где она популярна, не обязательно означает смену типа сознания. В "социалистической" идеологии советского тоталитарного государства уже с начала 30-х гг. содержатся не только логика, все больше соответствующая национализму, чем социализму теоретиков, но и собственно националистические темы. Если избрать в качестве критерия принципиальное признание другого лицом, субъектом, то "национализм" предстает следующей ступенью ниспадения культуры даже по сравнению с "социализмом". Подмеченные М.Антоновым типы реакции "прослойки руководящих кадров" на церковь и представляют собой по сути нечто двуединое -- пару "космополитизм-национализм", в реальном обществе, конечно, не обязательно отчетливо выраженную и к тому же несколько деформированную влиянием властных отношений. В массовой культуре, прижившейся в деструктурированной социальной среде, символика церкви, само ее имя превратилось в довольно популярный товар. В среде несколько более социализированной и политизированной, к которой принадлежит бюрократия, -- в объект частного, группового или даже государственного прагматического интереса. Весьма сильно, хотя и несколько расплывчато, стремление "побудить" церковь заниматься милосердием -- в том смысле, в каком им должны были бы заниматься власти различных уровней. От церкви люди, нередко в жизни весьма от нее далекие, "ждут" нравственной или политической защиты, изредка -- утешения, довольно часто -- эстетического переживания. В массовом, если можно так выразиться, политико-религиозном сознании, сегодня, как свидетельствуют опросы, выделяются два более или менее устойчивых идеологических комплекса. [Здесь интерпретируются данные опросов, проведенных в июле-сентябре 199 г. и в августе--октябре 1991 г. в ряде городов России, а также в сельской местности, Аналитическим Центром Российской Академии наук под руководством Д.Е.Фурмана. См.: "Вопросы философии", # 7, 1992] Первый можно условно назвать "лево-богоискательским". Соответствующий тип сознания объединяет людей, в большинстве своем ориентированных на традиционные левые, либертаристские ценности и при этом -- в согласии с ними -- настроенных, по остроумному выражению одного из исследователей, "прорелигиозно": естественная реакция на подавление религии при коммунизме и подсознательное убеждение, что в "нормальном" (т. е. вестернизированном обществе) религии принадлежит "должное" место [там же, с. 8]. Для этой группы характерны нецерковная религиозность, отнесение себя к "христианству вообще", а не к какой-то определенной конфессии, увлечение "восточными" культами, астрологией, интерес к аномальным явлениям. Второй комплекс -- "право-инструменталистский", по сути -- националистический и антидемократический, предполагающий признание советского периода истории "ценностью". Отношение к церкви здесь -- в своем роде потребительское, ее авторитет пытаются использовать в своих интересах. Существенно, что в некоторых отношениях у этом группы наблюдается сближение (по своего рода принципу дополнительности) с верующими, принадлежащими к ядру православной церкви. Для этих последних также характерен заметный авторитаризм, антизападническая ориентация, относительно терпимое отношение к реальным институтам советской власти наряду в резким идеологическим антикоммунизмом [там же, с. 11]. "Националистической" логике, перерождающей естественный патриотизм, церковь, разумеется, чужда не менее, чем логике "классовой" с тем отличием, что могут делаться попытки вобрать в национализм символику и деятельную сторону церкви на том неоспоримом основании, что она является важнейшим участником и побудительной силен национального развития России. При этом не только у "левых богоискателей", но и у людей, по преимуществу, озабоченных судьбой русского народа и оскорбленных тем, что случилось с ними и с русской церковью, довольно часто происходит почти незаметная подмена канонического представления о церкви как мистическом теле Христовом -- "христианством", как неким совершенным моральным кодексом, включающим в себя заповеди, выстраданные человечеством. И даже когда это не провозглашается, возникает некоторая двусмысленность. "Наши интеллигентные прародители, -- пишет, например, тот же М. Антонов, -- были так умны, знали, должно быть, так хорошо народную массу, что для всеобщего блага ввели у нас "христианство", то есть взяли последнее слово, и притом самое лучшее, до чего дожило человечество веками страданий." [М. Антонов, "Наш современник", # 8, 1989, с. 106] Церковь как носитель нравственного опыта народа и "русское христианство" без богочеловечества Иисуса Христа -- таков вероятный предел "адаптации" национализмом церкви, наложившей неизгладимый отпечаток на национальную культуру. У "национально" ориентированных интеллигентов может быть хорошее отношение к церкви и даже с церковью -- и, при этом, сложные отношения с Символом Веры... Что же касается самая церкви, то ее публицисты все настойчивее акцентируют идею возможности общественного диалога и даже консенсуса на основе ценностей, в принципе разделяемых всеми культурами -- и при этом являющихся своими для церкви. ["Публицистами церкви" можно условно назвать тех ее представителен, которые ведут свободную публичную дискуссию с представителями светской культуры по проблемам взаимоотношения церкви, с одной стороны, общества, политики -- с другой. Это, как, правило, преподаватели духовных академий, семинарий, некоторые священники, занимающиеся общественной и научной деятельностью, а также миряне. Их число пока сравнительно невелико, но именно они находятся "на переднем краю" диалога церкви с обществом (не только государственными властями). Именно они, естественно, преимущественно и цитируются в данной статье.] "...Те ценности, -- замечает архимандрит Платон из Московской духовной академии, -- которые проповедует церковь, не являются только лишь христианскими, общечеловеческими ценностями... Стало совершенно очевидно (для общества в целом, а не только для церкви. -- А.С.), что никакая концепция, никакая точка зрения идеологического или мировоззренческого характера не может оправдать пренебрежительное отношение к человеческой личности, поскольку человеческая личность является самой высокой ценностью в мире. Этой ценности не могут быть противопоставлены другие ценности. В некотором смысле наша ситуация напоминает ту ситуацию, когда христианство открыло для себя другие мировые религии и увидело, что в их этических системах содержатся общечеловеческие ценности... Признание общечеловеческих ценностей вполне вписывается в парадигму христианского богословия, сформировавшего понятие "естественный нравственный закон...". Основываясь на естественном нравственном законе, человечество в рамках определенных национальных и мировоззренческих структур явило высокий уровень нравственных достижений" [Культура, нравственность, религия..., с. 53]. То же самое обмирщение отношений внутри христианского общества, признание которого реалией сегодняшнего общественного организма позволяет церкви более или менее плодотворно -- в зависимости от конкретного случая -- участвовать в разрешении межобщинных и межнациональных конфликтов, ставит ее сегодня перед необходимость" определиться по отношению к национализму: позднему плоду такого обмирщения. В первую очередь -- к попыткам "включить" саму церковь в националистическую логику, в парадигму этноконфессиональной общинности с акцентом на "этно". Объясняя интервьюеру журнала "Социологические исследования", как решается в православном богословии национальный вопрос, преподаватель Петербургской духовноя семинарии иеромонах Иннокентий говорит: "В православной экклезиологии... он решается просто. Церковь формируется по поместному признаку, т. е. по месту своего пребывания. Русская православная церковь есть православная церковь в России, и не церковь для русских. Исторически в состав ее клира и паствы входили и входят представители многих национальностей, и никогда за всю свою тысячелетнюю историю наша церковь не знала проблем "национальной чистоты". Вообще проблема чужого не существует в церкви как христианской общины..."["Время благоприятно..." (беседа со священнослужителем Русской православной церкви), -- "Социологические исследования", # 4, 1988, с. 44] Очень определенную позицию занял в спорах о соотношении религиозного и национального в России Патриарх Московский и Всей Руси Алексий II, постоянно повторяющий одну формулу: "Нет такого общественного строя, нет государства и нет нации, которые были созданы Богом для Вечности. Но для Вечности созданы Творцом люди". ["Известия", 30.12.1990; "Русская мысль", 11.12.1992; "Литературная газета", 6.01.1993] Как было показано выше, "национальная" критика не отрицает решающей роли Православия в становлении русской культуры, что не может не создавать сильного напряжения между ней и церковным видением проблемы. "Если... говорить о русском национальном самосознании, как самосознании православном, -- пишет о. Иннокентий, -- то ему чужд национализм. Проблема национализма -- это проблема не богословия, а социологии, но кажется, что национализм можно понять и даже оправдать в малых этносах, находящихся в многонациональной среде. Здесь национализм оправдан в топ мере, в какой он не выходит за рамки духовного самоопределения народа. А русский национализм, насколько я знаю как историк, не может не быть отклонением от нашей культуры и русских духовных традиций. Сегодня его даже трудно отделить от бескультурья и бездуховности ["Социологические исследования", # 4, 1988, с. 44]. Последнее наблюдение достаточно точно выражает суть дела: сегодняшний национализм, в том числе получивший некоторое распространение среди мирян и священников Свободной церкви, Русской Православной Церкви за рубежом и Русской Православной Церкви [З. Крахмальникова, Блуд ума, -- "Литературная газета", 1.10.1992], по сути, оборотная сторона того псевдозападного "космополитизма", с которым он борется не на живот, а на смерть: оба они -- порождение периода общественной дезориентации, когда "старые" ценности, скреплявшие государство, дискредитируются на глазах, а "новые" не обрели общественного веса, достаточного для нормализации социальных процессов и стабилизации политики не только ad hoс, но и на основе хотя бы минимального выраженного консенсуса ядра общества. Своеобразие момента, переживаемого церковью и политикой в их отношениях к себе и друг другу, достаточно ясно выражается в полемике о свободе в истории России, ведущейся с непонятной на первый взгляд горячностью. Одна из сторон, обвиняя другую в "русофобии", приписывает ей утверждение, будто рабство -- врожденная особенность русского человека (русского общества, государства). В качестве иллюстрации нередко приводятся несколько фраз из сравнительно недавно опубликованного, после многолетнего запрета, романа В.Гроссмана "Все течет", произносимых одним из персонажей. Цитируется, в частности, следующее: "Развитие Запада оплодотворялось ростом свободы, а развитие России оплодотворялось ростом рабства" [эта фраза -- в сущности, скрытая цитата из знаменитого заключения ко второй части "О демократии в Америке" А. де Токвиля, пишущего об американцах и русских: "Для одного главное средство действия есть свобода, для другого -- рабство"](18); "Пора понять отгадчикам России, что одно лишь тысячелетнее рабство создало мистику русской души" и др. [А.Бочаров, М.Лобанов, Самокритика или самооплевывание? -- "Литературная газета", 6.09.1989]. В сущности, позиция противоположной стороны нюансированнее: "Можно, блистая взором, перебирать этносы и народы на пришлые и коренные, на большие и малые и в кознях одних искать истоки бед других... Но только вот куда ни загляни - не было в истории народов России ни дня, когда бы жили они вполне по меркам тех, ненашенских (западных. -- А.С.) свобод: непременно с изъяном, с исключениями. И это факт... Однако в реальности народов-рабов не существует: есть лишь рабская психология, прививаемая, внушаемая представителями всех наций и народностей. К тому же границы понятии "народ" и "государство" сплошь и рядом не совпадают, хотя их усиленно смешивают. Народ, который в одном государстве, под одной властью ведет себя по-рабски, попав в иное, зачастую соседнее государство, проявляет вдруг совершенно отличные качества" [С. Панасенко, Выбирая свободу, -- "Огонек", No 5, 1990, с. 9--10]. Рецепт "демократов", которых их противники часто называют "западниками" (при том, что они не обязательно, кстати, отрицают цивилизационное своеобразие России) - приватизация экономики, частная собственность, призванная обеспечить и политическую свободу. "Патриотам" ("националистам") этот рецепт, рассматриваемым ими, впрочем, как элемент, и не самый опасный, общего технократически -- манипулятивного подхода к целостному комплексу народной жизни, представляется недостаточным в силу отсутствия в нем положительной нравственной цели. По их мнению, "историческое призвание Советской России на данном этапе всемирной истории -- это не победа на мировом рынке и не превращение в колонию транснациональных корпорации. Призвание России -- вновь стать духовным лидером мира." [М.Антонов, Цит. соч., ч. II -- "Наш современник", # 9, 1989, с. 152--153] В диалоге "левых" ("западников", "космополитов") и "патриотов" ("националистов", "черносотенцев") выявляется противопоставление свободы -- духовности. Первые отдают приоритет свободе, не отрицая императива духовности, хотя иногда рассматривая духовность скорее как необходимое условие достижения свободы, вторые -- предпочитают не говорить о свободе как о самостоятельной цели ["...Соблазняя идеями свободы и благосостояния, "западники" забывают добавить, что эти блага при капитализме в полной мере доступны лишь тем, у кого много денег" (там же, с. 142)], духовность же, как было показано выше, понимают по-своему, не совсем так, как церковь. Что касается церкви, то православные публицисты стараются в настоящий момент подчеркнуть значимость обоих императивов: и духовности, без которой отношение к миру становится утилитарным, хищническим, и свободы. В Священном Писании, говорит протоиереи Владимир Федоров, "человек предстает перед нами не только как венец Творения, но и как самый его принцип, предстает ипостасью земного космоса, а земная природа - продолжением его телесности, его "периферическим телом." [Культура, нравственность, религия..., с. 44] "Совесть каждого человека, -- по словам иеромонаха Иннокентия (Павлова), -- даже самого последовательного марксиста, в проявлениях ее свободы должна быть защищена" [там же, с. 47]. Это, собственно, основополагающие, вечные принципы церкви, при том, что их конкретное соотношение, то, как они воплощаются в общественной и политической организации, зависит от обстоятельств времени, места, культуры. Сознание этого -- тоже императив сегодняшнего православного миропонимания. "Каждая историческая эпоха, каждый исторический момент, -- пишет о.Владимир Федоров, -- накладывает свои отпечаток на характер взаимоотношении церкви и общества. Христианское сознание должно отдавать себе отчет в том, что то или иное конкретное решение социальных проблем никогда не может быть ни абсолютным, ни совершенным, пока не пришел Последний День. Но несовершенство окружающего мира, несовершенство социального устройства необходимо преодолевать. Пассивность и равнодушие должны быть чужды христианству. Если это справедливо для каждого момента истории, то тем более для тех моментов, которые можно было бы назвать "точками роста", переломными, поворотными" [там же, с. 45] В этом же контексте Патриарх Алексий II даже сказал однажды: "Мы будем поддерживать и, может быть, впоследствии участвовать в создании системы социальной защиты людей. Опыт социализма -- пусть не советского, а европейского образца -- нам забывать не стоит." ["Известия", 10.06.1991] Пока нельзя сказать, что столь важная, как оказалось, для всего общества проблема соотношения духовности и свободы в прошлом России и в нашем настоящем удовлетворительно решена под знаком современности и будущего. Естественно ожидать, что именно эта проблема, без решения которой сегодня нельзя заложить твердых оснований государственности, окажется canon из важнейших для православного сознания на ближайшую перспективу. Отсутствие практически полезного, доведенного до сведения общества решения в недрах церкви позволяет противоборствующим силам -- каждом по-своему -- апеллировать к авторитету церкви в условиях, когда их противоборство становится если не разрушительным, то небезопасным. В целом анализ взаимоотношений "советская политики", то есть системы норм и институтов, отождествляемых обычно с большевизмом, с православном церковью, каким бы вынужденно кратким он ни был, позволяет сделать два основных вывода. Во-первых, эволюция комплекса, условно названного "классовой моралью", к национализму в настоящее время несколько сдерживается неизбежной для русской культуры религиозной составляющей последнего. Во-вторых, националистическая и либеральная тенденции, самоопределяющиеся сегодня в культуре, вырвавшейся из парадигмы "классовой морали", во многом взаимодействуют в системе категории, все еще отвлеченных в отношении "неосвоенной" социальной реальности сегодняшнего дня. При всей важности собственно культурных проблем, решающими для будущего России станут их адекватность ориентациям основной части населения, а также возможность синтеза, обеспечивающего интеграцию общества и его стабильность: будь он институциональным, идеологическим, личностным или тем, другим и третьим одновременно. 4. Межэтнические конфликты в зеркале конфликтов межконфессиональных Проблема культурного синтеза, который позволил бы сдержать поднимающуюся волну национализма, актуальна, конечно, не для одной России и не только для стран, освободившихся от коммунизма. Здесь мы подходим к очень важной проблеме: что такое религиозный, межконфессиональных конфликт и что такое межэтнический. Как бы странно это ни прозвучало, но с собственно религиозными конфликтами мы встречаемся сегодня чрезвычайно редко. В современном мире они исчисляются единицами, притом, как было показано в начале статьи, это, как правило, не межконфессиональные конфликты в чистом виде. Что такое, собственно, межконфессиональный конфликт? Это попытка представителей одной конфессии навязать людям, принадлежащим другой конфессии, свою систему догм, а если это не удается -- поставить их в символически, в том числе политически подчиненное положение или даже уничтожить. Силой обратить мусульман в христианство, угрозами заставить евангелистов отречься от "лютеровой ереси" и т.д. Между тем, со времен Реформации и религиозных войн в Европе мы почти не встречаем (если не говорить о рецидивах и секулярной по сути политике с некоторым конфессиональным оттенком, вроде Kulturkampf и т. д.) крупных собственно межконфессиональных конфликтов в Западной и Центральной Европе. Со времен вытеснения Османской империи с европейского континента -- в Юго-Восточной Европе. С начала ХХ в. (после 1905 г.) -- в России, где до того подавлялись и преследовались старообрядцы, протестанты, иудеи, отчасти -- католики. Сегодня чертами межконфессионального обладает конфликт между греко-католиками и православными на Западноя Украине, где речь идет о последствиях (в том числе имущественных) меняющейся юрисдикции с фактическим самоопределением тех, кто в силу превратностей истории и произвола властен оказывался с сфере канонической юрисдикции то canon, то другой церкви. С другой стороны, даже очень далеко зашедший армяно-азербайджанский конфликт пока что, к счастью, не в состоянии поколебать равновесия межконфессиональных отношения в регионе. Одной из осей стабильности в нем на сегодняшний день являются отношения между христианской Арменией и "фундаменталистским" Ираном: в немалой степени потому, что стороны не питают иллюзий по поводу возможностей распространения своей конфессии на территорию соседа... Можно задаться вопросом: почему к концу ХХ в. собственно межрелигиозные конфликты превратились в раритет или (и) анахронизм? И еще один вопрос: необратима ли эта тенденция? Существует два альтернативных ответа на первый вопрос, позволяющих так или иначе интерпретировать и второй:
Вероятно, реальная ситуация все же сложнее. Если дело в индифферентизме, то мы должны, очевидно, обнаружить ослабление межконфессиональных конфликтов исключительно в сфере распространения христианства, даже уже -- западного христианства (реальность, описываемая термином "индифференцизм" едва ли существует вне пределов его распространения). Что касается второго ответа, то при всей его привлекательности он вряд ли может приниматься всерьез... Более внимательный взгляд на проблему позволяет заметить, что в действительности мы видим ослабление межрегиональных конфликтов прежде всего в двух сферах:
Иными словами -- прекращение межконфессиональных конфликтов не универсально и не однозначно. В чем здесь, собственно, дело? Не отвергая других вариантов ответа, остановлюсь на одном аспекте проблемы. После религиозных воин в Европе постепенно формируется новый религиозно-политический порядок: начиная с королевских эдиктов о правах протестантов во Франции, через Вестфальский мир -- к сегодняшнему дню. Веротерпимость распространяется в Европе, а затем и в мире, где все заметнее доминирует Запад. Распространяется не только силой принуждения национальных государств и колониальных держав, но и потому что в национальных, а затем интернациональных институтах абстрагируется "политическая квинтэссенция" христианства, которая в известном смысле является таковой и для других мировых религии. Такую культурную (не политическую!) "надстройку" не могут не принять, не могут однозначно отвергнуть даже общины и государства, принадлежащие к конфессиям мировых религии, в которых менее выражены собственно догматические предпосылки для ее развития. В итоге к концу ХХ в. мир обладает все еще достаточно влиятельной мировом культурой и политической надстройкой, обеспечивающей значительный иммунитет в отношении религиозно-политического фанатизма в той сфере, где он легко распознается и где при этом он наиболее опасен:
И если сегодня основания этого порядка ставятся под сомнение, с одной стороны, некоторыми религиозно-политическими движениями (в первую очередь исламским фундаментализмом}, с другой -- поднимающимися "религиозными сверхдержавами", та это происходит не потому, что его "пружины" ослабли. Как известно, фундаменталистская реакция в исламских странах обращена иге столько против христианства, как такового, сколько против "секулярных демократических" режимов... Так или иначе этот порядок, даже слабеющий, все еще достаточно прочен: по крайней мере -- более прочен и работоспособен, чем механизмы, обеспечивающие (или, точнее, не обеспечивающие) разрешение межэтнических конфликтов и предотвращение эксцессов национализма. Почему же ничего похожего на этот порядок мы не наблюдаем в сфере регулирования национальных конфликтов? Иногда приходится слышать, что религиозные конфликты рано или поздно вовлекают высшие мотивации, сдерживающие их, в то время как национализм обращен к жизненным чувствам. Иногда это верно, хотя и в межконфессиональных конфликтах всегда проявлялись не лучшие стороны человеческой природы и в межнациональных -- не одни худшие. И все же дело, вероятно, главным образом не в этом. Достаточно сказать, что если некоторые страны, при всех поворотах, в силу приобретенного фактического опыта обладают определенным иммунитетом против национализма, то мировое сообщество в целом им не обладает. Изживание религиозного фанатизма -- внутри церквей и вне их заняло целую эпоху. Поколения европейцев создали культуру, в которой фанатизм и ханжество были смешными и немодными. Не будем говорить сейчас об издержках этой культуры, об ее изнанке: предотвращение религиозной розни, тирании ханжества -- благие цели, независимо от сопутствующих обстоятельств. К сожалению, с национализмом дело обстоит иначе. До недавнего времени отношение к нему было двойственным: был "плохой" и "хороший" национализм, при том, что не существовало институционализированного критерия для различения первого и второго. Не решена и по сей день проблема соотношения двух принципов: нерушимости границ и национального самоопределения. Не выработаны вполне четкие критерии и не разработаны механизмы обеспечения прав меньшинств. Нет системы санкции за нарушение прав меньшинств, но нет и суммы идей, которая давала бы государственным властям возможность проводить последовательную политику в отношении меньшинств, опираясь на поддержку мирового сообщества. Это в сфере права, в сфере международных институтов. В сфере культуры критериев по сути тоже нет, нет и ценностного, культурного противоядия против националистического перерождения интеллигенции. Роль международного сообщества в Югославии, в Закавказье, в других местах -- непростительно мала, так как нет формулы решения конфликтов, которая была бы нравственно и интеллектуально-императивной для их потенциальных участников. Взаключение можно лишь констатировать, что если в обозримом будущем не возникнет культурной (и в связи с нею -- политической) основы нового мирового порядка, то непрекращающиеся межэтнические конфликты настолько дискредитируют и подорвут то, что остается от прежнего, что он окажется неспособным обеспечивать стабильность даже в той сфере, в такой, собственно, и начал складываться восемь-десять поколений тому назад. |
| Московский Либертариум, 1994-2020 |