 |
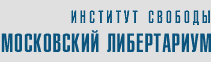 |
|
||
|
Два комментария (Берри Н, США и Лойбе К., Австрия) к статье Эбелинга "Роль австрийской школы в развитии мировой экономической мысли XX в." Комментарии (Берри Н.) (США) и (Лойбе К.) (Австрия) 04.11.1991
В изящном и содержательном эссе Р. Эбелинга, посвященном австрийской экономической теории, выделен ряд положений, которые четко отличают ее от ставших привычными подходов к изучению экономики и общества. Как это ясно видно из данной работы, рассмотрение австрийской экономической теории лишь как разновидности неоклассической ортодоксии, возникшей в результате маржиналистской революции в 1870-е годы, представляет собой довольно распространенную ошибку. Это не тот случай, когда две научные теории имеют общий интеллектуальный ген. Австрийская теория -- продукт радикальной мутации, т.е. источник совершенно новых подходов к анализу традиционных проблем человека и общества. Легкость, с которой австрийскую экономическую теорию увязывают с неоклассической (или столь же легкое утверждение, что ее экономические рецепты попросту представляют собой более экстремистский вариант предписаний ортодоксии), несомненно, объясняется тем, что они обе фокусируют внимание на субъективистской трактовке понятия экономической ценности в противоположность объективизму доминировавших ранее теорий, основывавшихся на затратах труда. Ясно, что несмотря на кажущийся субъективизм, неоклассическая ортодоксия в значительной мере унаследовала особый стиль научного мышления, когда картину мира социальных явлений стремятся воссоздать, следуя принципам, прямо аналогичным тем, использование которых оказалось столь успешным при изучении физического мира. Таким образом, хотя и создается впечатление, что неоклассическая теория базируется на субъективном выборе (это и в самом деле так, когда она объясняет формирование цен), в ней отчетливо проводится мысль, что для индивидуального выбора потенциально имеется достаточно информации, так что закономерности человеческого поведения могут быть выведены без дальнейшего изучения природы человека. При этом недооценивается то обстоятельство, что знания об обществе фундаментально отличаются от знаний о физическом мире. Эти соображения учитываются в австрийской теории. Однако возможность придания им антинаучного смысла и отказ от построения инженерных моделей общества не должны давать дорогу такому подходу к экономической и социальной теории, который игнорирует необходимость научного анализа социальных явлений и сводится к чисто историческому. Следует упомянуть, что австрийская экономическая школа на заре своего становления была вовлечена в методологическую дискуссию теми представителями немецкой исторической школы, которые отрицали существование всеобщих экономических законов и ратовали за частные, локальные исследования. В центре внимания австрийской школы находится человек, а не статистические закономерности, и такой подход -- единственно пригодный для подлинно научного понимания социальных процессов. Взгляд на человека как на активный источник инноваций, а не как на бездушный калькулятор затрат и результатов, не следует считать признаком того, что результаты взаимосвязанных действий людей являются чисто случайными и не допускают объяснения на языке причинных законов. Учет австрийской школой наличия творческих потенций человека скорее означает невозможность точного предсказания событий или четкого контроля за окружающей средой с тем, чтобы добиться социальных "улучшений'', диктуемых абстрактными соображениями. Как показывает проф. Эбелинг, неоднократные попытки воплощения в жизнь утопий основывались на ошибочном предположении о пластичности индивидуумов, которое, однако, опровергается результатами как самоанализа, так и наблюдениями причинно-следственных связей. Упор на уникальные черты человека имеет важные следствия, которые не ограничиваются экономической теорией, но распространяются на психологию, историю, политику. Если бы он был лишь пассивно реагирующим существом, каким его представляют некоторые социальные теории, т. е. физиологическим и психологическим артефактом <артефакт -- возникающие в некоторых случаях при исследовании организма образования или процессы, не свойственные в норме организму>, поведение которого в ответ на идентифицируемые стимулы можно было бы предсказать, то качественные различия между ним и высокоорганизованными животными были бы незначительными. Хорошо известные эксперименты показывают, что крысы способны к оптимизации, калькулированию и фактически подчиняются экономическим законам [Buchanan J. The Domain of Subjective Economics // Method Process and Austrian Economics. Lexington. 1982]. И нет ничего удивительного в том, что современные экономические и политические движения рационалистического толка столь сильно основываются на предсказании и контроле, поскольку их отношение к индивидуумам смахивает на отношение экспериментатора к подопытным животным. Но эта позиция зависит исключительно от возможности науки о человеческом поведении и игнорирует выводы, ко торые проистекают из понимания человеческого действия, в котором акцент делается на актах выбора при неопределенности, непредсказуемости и всех атрибутах, присущих исключительно человеку. Как указывает Эбелинг, австрийская экономическая теория противопоставляется тому чрезмерному возвеличиванию знания и претензиям на способность предсказывавать и контролировать события, которые были характерными чертами экономического и социального мышления еще со времен эпохи Просвещения, а в XX в. их развитие достигло апогея. Бесплодные эксперименты с коллективной собственностью и контролем за ресурсами (коммунизм), кажется, далеко отстоят от безобидной, на первый взгляд. политики государства благосостояния и милостивых, но пустых обещаний введения индикативного планирования. Однако все эти социальные авантюры имеют общий источник, и заключается он в том, что Ф. фон Хайек назвал лжезнанием [Hayek F. von. The Pretence of Knowledge // New Studies in Philosophy, Politics, Economics and the History of Ideas. London, 1972] . Выстроив впечатляющее здание объясняющей теории, твердо покоящейся на более пластичных чертах человека, особенно на способности его интеллекта подстраиваться к изменениям внешних условий, австрийская школа создала парадигму, альтернативную по отношению к превалирующему научному стилю, и не только кейнсианству, но и всем ортодоксальным интервенционистским взглядам в целом. Не задаваясь целью повторять данный проф. Эбелингом превосходный обзор основных элементов этой альтернативной парадигмы, я хотел бы указать на ряд областей австрийской экономической теории, в которых имеются загадки, проблемы и даже парадоксы. Мне кажется, что они не представляют собой непреодолимых трудностей, а скорее дают возможности для дальнейшего развития парадигмы. Этими областями являются методология, рынки и предпринимательство; пределы теории спонтанного порядка; экономическая теория социализма. В методологии, этой наиболее трудной части экономической теории, при поверхностном чтении трудов австрийской экономической школы обнаруживается прямой парадокс. Дело не просто в том, что среди австрийцев наблюдаются серьезные разногласия по фундаментальным проблемам. В самой структуре их построений имеется явное несоответствие. С одной стороны, все австрийцы подчеркивают моменты неопределенности, субъективизма и непредсказуемости в социальных процессах (моменты, которые, как нам кажется, не допускают существования объективных номотетических законов <т.е. общих законов, описывающих явления, в противоположность отдельным историческим фактам> ). С другой же -- априорно им известны законы подобного типа: например, о неизбежности краха социализма, о способности рынка (успешно) координировать индивидуальные планы, и т. д. Л. фон Мизес писал, что экономическая теория говорит нам о том, что должно произойти, однако он решительно возражал против апелляции к фактам для демонстрации кажущейся определенности экономической теории (которая была бы первым ухищрением модернистской социальной науки). Дискуссии между австрийцами и экономистами традиционных взглядов связаны с экономическими обобщениями, такими, как спрос и предложение, убывающая предельная полезность, закон ренты и теория денег. Ортодоксия утверждает, что в мире социальных явлений действуют определенные закономерности и их можно наблюдать. Повторяющиеся последовательности событий создают основу для номотетических законов. Эти законы могут быть только предположениями, но когда они связываются со специфическими начальными условиями, возможны и поддающиеся проверке предсказания будущих событий. В той мере, в какой эти предсказания не ложны, можно говорить о появлении оригинальной теории или утверждений типа законов. Расширение объема знаний происходит благодаря последовательным попыткам доказательства ложности теорий, претендующих на общность. Те из них, которые выдерживают подобные испытания, становятся частью массива эмпирических знаний. Тогда имеет место более или менее строгая симметрия между предсказанием и объяснением [Popper K.R. The Poverty of Historicism. London, 1957]. Этот подход, как мне кажется, и в самом деле приносит хорошие результаты в экономической теории. Вполне подтвердившиеся предсказания дефицита жилья в условиях, когда правительство контролирует квартирную плату и появление значительных излишков продовольствия при субсидировании цен на сельскохозяйственную продукцию, по-видимому, служат примерами действия хорошо известных экономических законов. То же самое можно сказать и о количественной теории денег. Экономика стала позитивной наукой, когда открытые ею законы были подтверждены эмпирическими данными. Однако, с точки зрения австрийской теории, неверно, что такой путь расширяет границы знания, как неверно и то, что неподтвержденные предсказания опровергают экономическую теорию. Поэтому вовсе не следует считать, что подобная теория не нужна, если отмена контроля за квартирной платой не приводит к увеличению предложения сдачи жилья внаем. Существующие и потенциальные домовладельцы просто могут думать (и не без оснований), что в будущем не исключена возможность восстановления этого контроля, и это чревато для них серьезным ущербом. Несоответствие их фактического поведения предсказанному варианту говорит в пользу теории человеческого действия, отрицающей, что существенные особенности поведения людей могут быть выявлены путем обобщения чисто эмпирических данных. Возможно, наилучшая характеристика сущности экономических законов содержится в высказывании лорда Л. Роббинса: "Они есть необходимость, которой подчиняется человеческое действие" [Robbins L. The Nature and Significance of Economic Science. London, 1935]. Они не служат инструментом предсказания отдельных событий, но являются описанием неизменных свойств мира. которыми должны заниматься все теории общества, особенно нормативные. Дают вспомогательные теории надежные предсказания или нет -- это будет зависеть от конкретных исторических обстоятельств. Например, окажется ли поведение людей в тот или иной момент экономически осмысленным в узком понимании этого слова? Если нет, то частная экономическая теорема просто не будет применяться. Однако индивидуумы, конечно, всегда действуют так, чтобы оказаться в предпочтительном положении, и эти робинзоновы потребности все еще существуют вне зависимости от выбранной цели. Утопическое теоретизирование почти всегда основывается на предположении о том, что они могут на какое-то время перестать существовать. При этом игнорируются вечно присутствующие феномены дефицитности и бесконечной эластичности человеческих потребностей. Отсюда следует, что не существует строгой симметрии между предсказанием и объяснением. Австрийская экономическая теория может объяснять человеческое поведение через понимание, самоанализ и установление устойчивых ограничений, не претендуя на предсказания количественного характера: сложность данных, с которыми приходится иметь дело наблюдателю, и их субъективная природа препятствуют этому. Следовательно, знание законов человеческой деятельности увеличивается не за счет накопления хорошо подтвердившихся гипотез, а скорее путем применения основных принципов человеческого поведения в новых областях: появление экономической теории, объясняющей политику и поведение бюрократии, представляет собой хороший пример экономического теоретизирования в тех областях, где отсутствуют традиционные рыночные институты. Тем не менее свой наибольший вклад австрийская теория внесла именно в изучение рынка. И именно здесь отчетливо видны ее отличия от ортодоксии. Наиболее явная попытка объективизации экономических отношений была сделана в теории общего равновесия [Barry N.P. The Invisible Hand in Economics and Politics. London, 1933], которая представляет собой математическую демонстрацию безупречно скоординированной экономической деятельности, не оставляющей места для прибыли. фирм, предпринимательства, денег и всех других институтов, дающих возможность индивидуумам стихийно приспосабливаться к неопределенностям социального мира и неизлечимому невежеству, этому вечному нашему спутнику. Австрийская школа разработала теорию рыночного процесса как более реалистическую альтернативу абстрактному формализму неоклассической ортодоксии, потому что такой подход позволяет понять, как именно осуществляется перманентная координация деятельности. Теория человеческого поведения нигде так хорошо не проиллюстрирована примерами, как в концепции предпринимательства, разработанной И. Киршнером на основе фундаментальных положений Л. фон Мизеса [Kirzner I. Competition and Enterpreneurship. Chicago, 1973]. Ибо только тогда, когда мы считаем человека способным активно реагировать на изменения цен на рынке, мы можем понять, как координировать его деятельность на нем. Некоторые австрийские экономисты, в частности Ф. фон Хайек, утверждают, что существование тенденции к равновесию является подлинно эмпирическим положением экономической теории. Именно готовность откликнуться на появившиеся возможности получения прибыли позволяет соединить и использовать на благо человека разрозненные знания, которыми обладают отдельные индивидуумы (это, вероятно, единственное положение австрийской теории, выдержанное в истинном духе концепции благосостояния). В ортодоксальной теории равновесия нет места предпринимательству, потому что из предположения о наличии исчерпывающей информации следует вывод о ненужности активных личностей, координирующих знания. Но даже среди представителей этой школы имеются различия во взглядах. На крайне субъективистских позициях стоят Л. Лэчмен и Дж. Шэкл [Shackle G.L. Epistemics and Economics. Cambridge, 1972], которые выражают сомнения по поводу того, что координация может быть обеспечена надежно. Такие характерные для капиталистического рыночного общества черты, как способность к творчеству, инновациям и прыжкам в неведомое, могут порождать калейдоскопические и даже хаотические перемены, а не процесс плавного приспособления. Здесь главные моменты - субъективность ожиданий и утверждение, что экономический мир в значительной мере состоит из умственных спекуляций относительно будущего: человеческие поступки, обусловленные подобными ментальными явлениями, не могут координироваться рынком так же хорошо, кк действия, осуществляемые на основе рассеянной информации в форме цен. Субъективизм -- палка о двух концах. По словам Г. Шэкла, будущее непознаваемо, но его можно себе воопразить. В самом деле, вероятно возникновение противоречия между идеей о возможности координации деятельности посредством повторяющихся актов отклика предпринимателей на разницу в ценах (т.е. попросту, арбитража) и положением, высказанным Й. Шумпетером (которому Э. Шэкл дает расширительное толкование) о том, что предпринимательство деструктивно и способно породить беспорядок. Можно сомневаться в допустимости использования одного и того же понятия отклика для описания как способности реагировать на изменения цен в процессе координации рынков, так и склонности к творчеству, которая характерна для любого вида человеческой деятельности. Тем не менее есть основания предполагать, что некоторые случаи крупномасштабного экономического краха, имевшие место в XX в., объясняются действием экзогенных факторов (прежде всего, манипуляциями с денежной массой и кредитом, осуществлявшимися правительствами), а не каким-либо пороком, внутренне присущим рыночной системе. И этот довод говорит в защиту австрийской теории. Конечно, рассуждения о возможных ошибках свободного рынка не являются доказательством способности правительства делать то же самое лучше. Успехи капиталистических экономик не служат порождением каких-либо сверхъестественных сил; они -- следствие того, что их институты находятся в соответствии с устойчивыми чертами, характерными для поведения людей. Растущее в мире признание необходимости рыночного механизма для решения проблемы эффективного использования дефицитных ресурсов, безусловно, означает, что теория предпринимательства будет развиваться и дальше. Одно время некоторые полагали (особенно И. Шумпетер), что рост крупных корпораций, работники которых получают заработную плату в соответствии с предельной производительностью их труда, а не как вознаграждение за их готовность выгодно применить имеющиеся возможности, означает конец предпринимательства, а следовательно, и неизбежную смерть капитализма. Однако осознание того, что хозяйственная деятельность человека не может быть точно разделена на части, одна из которых оплачивается в зависимости от физической производительности, а другая связана с извлечением прибыли за счет использования дефицитной информации, показывает, что предпринимательство пронизывает все стороны экономической жизни. Тем не менее вопрос о том, как именно предпринимательство действует в пределах фирмы и как ему содействуют или препятствуют различные институциональные установления, является одним из важнейших пунктов повестки дня для австрийской экономической школы. Теория спонтанного порядка имеет и свои ограничения, и конкурирующие варианты объяснений того, как возникают институты, необходимые для рыночного уклада. Общественные блага и нежелательные внешние эффекты рыночной деятельности (логически сходные феномены) вызвали разногласия в рядах австрийской школы. Одно из направлений, анархокапитализм [Rothbard M.N. Power and Market. Los Angeles, 1970], отрицает существование общественных благ (определенных в традиционном духе экономики благосостояния) и утверждает, что все нужные товары, включая оборону и чистый воздух, могли бы производиться в частом секторе. Однако большинство австрийских экономистов признает необходимость общественного сектора, а следовательно, и установления рациональных принципов для определения его границ. Здесь проблема состоит в том, чтобы построить теорию важнейших публичных институтов и не допустить того, чтобы официальные лица (в не меньшей степени желающие улучшить свое положение, чем обычные участники рынка) получали экономическую ренту, образующуюся в результате стихийной кооперации. В самом деле, это -- постоянная проблема, с которой сталкивается общество, и она побудила австрийских экономистов к разработке теорий политического либерализма (в традиционном европейском толковании этого вечно двусмысленного понятия) в качестве дополнения к индивидуалистической экономической теории [Mises L. von. Liberalism. Kansas City, 1978]. Даже в этой сложной и спорной по сути области уроки теории человеческого поведения все еще сохраняют свое значение, ибо многие феномены, существование которых когда-тo использовалось для оправдания расширения роли государства, могут быть устранены в рамках системы законов и прав собственности, сохраняющих возможность добровольного обмена. И ведь революция в экономической теории прав собственности, связанная, в частности, с Г. Демсетцом и А. Алчияном [Alchian A. Some Economics of Propetry Rights // II Politico, 1965. # 30], обязана своим возникновением, хотя это порой и не осознается, проницательности теоретиков австрийской школы. При анализе причин краха государственного социализма непрофессиональные наблюдатели, вероятно, в наибольшей степени будут находиться под влиянием австрийской школы. Также верно и то. что нынешняя приверженность рыночному социализму, выраженная экономистами -- противниками капитализма, уменьшилась бы, если бы последние знали о сокрушительной критике этой попытки, по сути, осуществить квадратуру круга, прозвучавшей в ходе дискуссии об общественном счетоводстве, имевшей место в 1930-х годах. Уроки опровержения социализма, преподанные Л. фон Мизесом и Ф. фон Хайеком, сегодня выглядят даже более актуальными, нежели в то время. Нынешние социалисты [On the Economic Theory of Socialism. Minnesota, 1938] знали, что полностью планируемая и централизованно управляемая экономика столкнется с огромными проблемами, связанными с необходимостью получения информации (например, о вкусах потребителей, факторах производства и т.д.) для обеспечения эффективной работы. Они также признавали, что если сохранить свободы либерального общества, то должна быть обеспечена и возможность ничем не ограниченного выбора рода занятий и потребительских благ. В силу этих, а также других причин в структуру плановой экономики надо было бы ввести рыночную сигнальную систему. Однако то, что было задумано ими, представляло собой всего лишь модель общего равновесия в традициях классической ортодоксии. Дело в том, что характер распределения предполагался эгалитарным: факторы производства оплачиваются только в соответствии с величиной их предельного продукта, отсутствуют монополии, сверхприбыли, а также другие несовершенства. Считалось даже, что неравенство в обеспечении ресурсами могло быть устранено без ущерба для производства. Рыночный социализм в его наиболее благообразном виде представляет собой попытку подражания деятельности системы с совершенной конкуренцией без тех ее черт, которые рассматриваются как неприемлемые с этических позиций, т.е. прибыли, частной собственности и якобы непроизводительных рынков капиталов. В свое время он выглядел справедливой теорией, утверждавшей гармонию равенства, эффективности и рациональности. Однако "австрийцы" довольно рано поняли, что именно нежелательные черты обеспечивают саму возможность функционирования рынков, и их нельзя устранить, не ликвидировав одновременно рынок. Это особенно важно в отношении рынков капиталов, так как без них инвестиции становятся функцией указов плановика. Но для того чтобы восстановить их, нужно восстановить наименее привлекаюльную черту капитализма: частную собственность на средства производства. В самом деле, одна из наиболее слабых сторон предприятий, управляемых чиновниками и основанных на принципах рыночного социализма, состоит в том, что отсутствие возможности передачи прав собственности на них (акции) подталкивает чиновников к "проеданию" их прибылей путем установления экономически неэффективной высокой заработной платы. Именно Ф. фон Хайек (вероятно, в большей степени, чем Л. фон Мизес) осознал, что проблема социализма - не просто проблема счета (см. [Hayek F. von. Essays on Socialist Calculation // Individualism and Economic Order. London, 1948]). Большая часть наших знаний об обществе не носит объективного характера и не столь наглядна, как в математике или инженерном деле. Наши знания чаще всего безмолвны, быстропреходящи, эфемерны. Они хранятся "внутри" децентрализованной системы и в значительной мере недоступны планирующему центру. Едва опубликованные, они уже устаревают, захлестнутые потоком изменений в мире человеческих существ. Этог феномен наиболее наглядно иллюстрирует австрийская теория субъективных издержек [Buchanan J. Cost and Choice. Chicago, 1969]. Издержки, связанные с проведением любого экономического мероприятия, всегда означают отказ от альтернативного варианта использования ресурса, однако поскольку этот мыслительный феномен обнаруживается только в момент принятия решения конкретным лицом, здесь не может быть объективной оценки использования ресурсов экономики в соответствии с критерием общественного блага. Таким образом, социалистический плановик, сравнивающий затраты на реализацию альтернативных проектов, попросту распределяет ресурсы в соответствии со своим субъективным мнением (которое, как это можно предположить, вовсе не связано с его изначальными намерениями), а не стремлением к рациональному решению. Это вновь вынуждает меня выделить особенность австрийской экономической теории, отмечаемую Р. Эбелингом. Речь идет о четком различии между "человеческим" и механическим построением теории общества, учитывающей ключевые свойства личности, и в то же время объясняющей, как из их неизбежно непредсказуемых действий возникает тот порядок, который мы видим вокруг себя. Следует также сказать, что данная теория, хотя и не связывает логически моральную ценность свободы и научное объяснение существования рыночных систем, все же показывает (неформально, но отнюдь не менее убедительно) их неразрывность. ЛИТЕРАТУРА
"Физик, который - только физик, еще может быть Мне хотелось бы предложить вниманию читателя одно важное критическое замечание методологического характера, ряд дополняющих пояснений относительно специфических условий Австрии и высказать конкретные соображения в пользу более холистского или межкультурного подхода в дальнейших исследованиях. Рынок как спонтанно развившийся социальный институт, с моей точки зрения, никогда не был процедурой открытий. Ею является только конкуренция, которая затем уже порождает рынок. Поэтому рынок не существует априорно. Только логика выбора существует априорно. Такова моя позиция. Теперь позвольте мне дать краткие пояснения по поводу специфического интеллектуального фона, определявшего становление и развитие австрийской школы. Ее типично европейские источники вообще и австрийские корни, в частности, к сожалению, никогда не были предметом систематического исследования. С одной стороны, если говорить, например, об основах теории предпочтений во времени, то можно упомянуть, что они ясно проглядывались в работах жившего южнее Альп Дж.Ф. Лоттини. Почти в то же время и там же Б. Даванцатти работал над теорией полезности, а Ф. Галиани, вероятно, ближе всех подошел к теории субъективной полезности и предельной полезности. Но не все камин в фундамент здания австрийской школы были заложены классической теорией и К. Менгером, вложившим в это свой живой, плодовитый ум и недюжинную работоспособность. На самом деле, еще задолго до него в Австрии сложилась своя традиция экономической мысли. Страна пережила эру Иосифа (императора Иосифа II) с ее специфически австрийской просвещенческой, но абсолютистской философией камерализма. Достаточно вспомнить имена X. фон Вольфа, И.Х.Г. фон Юсти и Й. Фон Зонненфельса. Задолго до К. Менгера они отстаивали каузально-генетический взгляд на общество, четко проводя различие между благами и потребностями и в какой-то мере уже замостили дорогу... Мне кажется, что К. Менгер явно находился под влиянием широко известного труда И. Кудлера под названием "Die Grundlehren der Volkswirtschaft" ("Основы экономического учения", 1846), который был написан в истинных традициях камералистики <камералистика -- совокупность административных и хозяйственных знаний по ведению каморального (дворцового, а также государственного) хозяйства, содержавшаяся в германской экономической литературе XVII--XVIII вв.> и должен рассматриваться в качестве первого опыта трактовки стоимости как субъективного явления. Кроме того, австрийская школа обнаруживает множество других характерных черт австрийского ума, и порой едва ли понятая холистическая Koniglich und kaiserlich (королевская кайзеровская) культура, конечно, накладывала свой отпечаток на ее воззрения. Все представители первого и второго и почти все -- третьего и четвертого поколений ученых австрийской школы были выходцами из аристократической среды, и данное обстоятельство, конечно, оказывало заметное влияние на атмосферу в университетах и некоторых политических кругах Вены и Инсбрука. Эта, а также ряд других специфических черт австрийской культуры послужили причиной как всевозможных препятствий, так и успехов на пути к признанию этой школы. Следует также упомянуть и об острой методологической дискуссии (Methodenstreit) между более молодой немецкой исторической школой и австрийской. Для того чтобы дать достаточно полное представление об окружении, в котором развивалась австрийская школа, необходимо сказать несколько слов о том, что я называю межкультурными аспектами экономической теории. Суть ее можно пояснить следующим примером. Оригинальный (написанный на венском диалекте) текст либретто "Волшебной флейты" в очаровательной форме выражает замечательное понимание В. Моцартом субъективного характера понятия ценности и его явный призыв к построению системы свободных рыночных отношений. Конечно, не это повлияло на подход К. Менгера, однако отсюда ясно видно, что данная идея уже вовсю обсужд лась в определенных кругах. Многие деятели науки и культуры XVIII в., включая В. Моцарта и И. Гайдна, а примерно 100 лет спустя многие представители второго и третьего поколений австрийской школы, в том числе Е. Бем-Баверк, И. Коморжински и Г. Шуллерн-Шраттенхофен были членами тайного, масонского ордена, и это в какой-то мере проливает свет на культурный фон школы. Следует также по крайней мере упомянуть и о тесной духовной связи между австрийским кронпринцем Рудольфом и К. Менгером. Сейчас, когда говорят об интеграции Европы и новых тенденциях в бывших королевских и имперских странах, будет в высшей степени интересно вспомнить, что Рудольф и К. Менгер совместно разрабатывали политически возможную модель федерации независимых и свободных придунайских государств задолго до того, как эти проблемы были поставлены в повестку дня. Их исследования были не только весьма детальными, но и написаны удивительно изящным слогом. Сосуществование и тонкое взаимовлияние между австрийскими философами, такими, как Б. Больцано или Ф. Брентано и австрийской экономической школой, представляет собой еще один межкультурный аспект, которым нельзя пренебрегать. Таковым являются и развитие правового позитивизма, и влияние психологии и философии науки, которые были предметом обсуждений Венского кружка. Мне кажется также, что дискуссия по поводу новых стилей в музыке (от И. Брамса к А. Шенбергу), развернувшаяся в Вене в то же самое время, когда К. Менгер в 70-е годы, а позднее Е. Бем-Баверк, Вайси и В. Матайя формировали свои идеи и наслаждались этой музыкой, должна была бы найти отражение при более основательном исследовании значения австрийской экономической теории в истории экономической мысли XX в. Насколько мне известно, до настоящего времени проводилось слишком мало серьезных исследований связи между экспрессионистским искусством Э. Шиле и Г. Климта и экономической философией и объяснением смысла и роли социальных инситутов. Все это также заслуживает большего внимания. Позволю себе заметить, что для меня хайековская теория искусства столь же важна, сколь и его теория спонтанного порядка. В заключение мне хотелось бы подчеркнуть, что австрийская экономическая теория состоит не только из трудов К. Менгера, Е. Бем-Баверка, Л. фон Мизеса, Ф. фон Хайека. Австрийская экономическая теория подразумевает холистический подход к социальным явлениям и институтам. Поэтому необходимо расширить изучение деятельности менее известных, но весьма серьезных оригинальных ученых -- ее представителей, которые внесли столь же важный вклад в развитие школы. Позвольте мне упомянуть только несколько имен представителей второго поколения школы, пришедших на ум: Р. Майер, Р. Цукеркандль, И. Коморжински (эти трое авторов задолго до Е. Бем-Баверка подвергли разгромной критике "Капитал" К. Маркса), Филиппович, Г. Шуллерн-Шраттенхофен, X. Сакс. Как однажды сказал мой друг и учитель Ф. фон Хайек, их труды -- словно "изящно отделанные камни". |
| Московский Либертариум, 1994-2020 |