 |
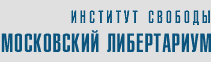 |
|
||
Либертаризм как политическое учение02.04.2009, Вадим Новиков
Занимаемое либертарно-юридической школой место в философии права определяется тем, что она не просто сформулировала особое непозитивистское понятие права и провела различие между правом и законом – это делали до нее и многие теоретики естественного права. Важно, что либертарно-юридическая школа пошла дальше и выдвинула еще одно положение – различение права и морали – определив юриспруденцию как науку о свободе [Нерсесянц В.С. Общая теория права и государства М.: Норма, 2004, стр. 7] (а не, скажем, о властных повелениях или нравственных требованиях к законодательству). Отдельная, отличная и от позитивизма, и от юснатурализма позиция тем самым была обозначена очень четко. Возможно, в значительной степени эта позиция уже содержалась в трудах предшественников, прежде всего, Б.Н. Чичерина. Также возможно, что к ней удалось приблизиться некоторым теоретикам либертарианства – современникам основателя школы, В.С. Нерсесянца. Для демонстрации научного потенциала школы более важно то, что она приняла именно формальную трактовку равенства, свободы и справедливости до того, как в 1993 году работа Джона Роулза «Политический либерализм» сделала общим научным достоянием сходную идею противопоставления всеобъемлющего (comprehensive) и политического (political) либерализма. Этой работой Дж. Роулз признал существенный недостаток написанной им в 1971 году «Теории справедливости». То, что ему прежде представлялось универсальными требованиями справедливости, на деле оказалось лишь отражением одного из «всеобъемлющих» мировоззрений, т.е. содержащих в себе конкретные представления о том, что делает жизнь ценной и придает ей значение. Работа 1993 года стала попыткой сформулировать «политическую» версию либерализма, которая была бы независима от подобных «всеобъемлющих» мировоззрений, но могла бы получить поддержку сторонников таких мировоззрений. Между тем, к этому моменту либертарно-юридическая школа уже была «политической», а не «всеобъемлющей» версией либерализма, или, по крайней мере, могла обоснованно на это претендовать. Способность либертарно-юридической школы привносить в политическую философию ценные мысли далеко не случайна. Она не является лишь побочным продуктом посторонних для политической науки исследований, например, юридических. Важно подчеркнуть, что В.С. Нерсесянц открыто постулирует «сущностное и понятийное единство права и государства» [Нерсесянц В.С. Общая теория права и государства, М.: Норма, 2004, стр. 77]. По его мнению, «основные положения либертарно-юридического понимания и понятия права относятся также к понятию государства» [Нерсесянц В.С. Общая теория права и государства, М.: Норма, 2004, стр. 78]. Таким образом, либертарно-юридическая школа делает заявку на то, что она является не только правовым, но и политическим учением, иными словами, является также и либертарно-политической школой. Здесь возникает впечатление противоречия между общим характером учения о праве, которое приложимо к описанию самых разных эпох, и частным характером политического учения, обращающегося только к одной из форм исторически существовавших политических организаций – государству. В современной политической теории и теории международных отношений слово «государство» (state, stato) используется как термин, обозначающий исторически новую форму политической организации (government), возникновение которой с некоторой условностью можно датировать подписанием Вестфальских соглашений в 1648 году. В отличие от прежде существовавших политических организаций государство является абстрактной корпорацией, юридическим лицом, не сводимой ни к правителям, ни к населению. Эта корпорация обладает монополией на определенные функции, прежде всего, применение насилия, и эта монополия распространяется только на определенную территорию, которая для каждого государства своя. [См. Кревельд М. Расцвет и упадок государства, М.: ИРИСЭН, 2006, стр. 11; Понятие государства в четырех языках: Сб. Статей / Под ред. О. Харахордина. СПб.: М.: Европейский университет в Санкт-Петербурге: Летний сад, 2002; Morris W.C. The Modern State // Gaus F.G. Kukathas C. (ed) Handbook of Political Theory London: Sage, 2004; Osiander A. Before the State NY: Oxford University Press, 2007; Ferguson Y. H Mansbach R.W. The Elusive Quest Continues Upper Saddle River: Prentice Hall, 2003; Ferguson Y. H Mansbach R.W. Remapping Global Politics: History's Revenge and Future Shock NY: Cambridge University Press, 2004] Нельзя сказать, чтобы подобные ограничения применимости термина «государство» либертарно-юридической школе были совсем не знакомы. Так, В.С. Нерсесянц указывает на историческую новизну термина «stato» и пишет, что «объемы понятий «политическое» и «государственное» не совпадают» [Нерсесянц В.С. История политических и правовых учений, М.: Норма, 2007, стр. 15], отличаются в разные эпохи и у разных авторов. Сам же он решил определить «государство» как «правовую (т.е. основанную на принципе формального равенства) организацию политической власти свободных индивидов» [Нерсесянц В.С. Общая теория права и государства, М.: Норма, 2004, стр. 78], противопоставленную неправовой организации политической власти – «деспотизму» [Нерсесянц В.С. Философия права: либертарно-юридическая концепция \\ Вопросы философии, N 3, 2002, стр. 3-15]. Такое терминологическое решение допустимо, хотя и не вполне удачно – оно создает препятствия для взаимного понимания с представителями других школ политической науки. Используемое В.С. Нерсесянцем определение «государства» одновременно более широкое и более узкое, чем определение «суверенного государства» (state). [Здесь и далее понятие «государство» в общепринятом в политической науке смысле будет обозначаться как «суверенное государство», тогда как термин «государство» будет использоваться исключительно в используемом В.С. Нерсесянцем смысле.] Более широкое, так как может обозначать и политические организации, существовавшие до Вестфальских соглашений, и территориальные политические образования, чей суверенитет не признается международным сообществом. Более узкое, так как может отказать в названии «государство» политическим образованиям, которые признает «суверенными государствами» международное сообщество, если эти образования не основаны на принципах права. Таким образом, казалось бы, есть основания отвергнуть тезис о противоречии между общим характером учения о праве и частным характерном учения о государстве: термин «государство» определен так, что может обозначать правовые разновидности всех форм политической организации, как прежде существовавших, так и могущих возникнуть в будущем. И все же некоторое противоречие есть, хотя дело не в определении, а в излишне узком его применении. Из всего многообразия политических сообществ, за которыми можно было бы признать «правовой» или «деспотический» характер, либертарно-юридическая школа для своего анализа выделяет только те, функционирование которых в наибольшей степени связано с применением силы. Между тем, понятие «политики» не сводится к «силе». [Наряду с насильственным принуждением осуществление власти может опираться на авторитет или различные средства убеждения, в т.ч. материальные выгоды.] Политикой, согласно авторитетному определению Майкла Оукшота, является любая «деятельность, посредством которой некая общность людей, оказавшихся вместе случайно или по собственному выбору, соблюдает общие соглашения». [Оукшот М. Политическое образование \\ Оукшот М. Рационализм в политике и другие статьи. М.: Идея-пресс, 2002, стр. 198] В соответствии с этим определением «собственную «политику» будут иметь семьи, клубы и ученые сообщества». [Стоит оговориться, что за этими договоренностями не обязательно стоит согласие относительно ценностей, на деле некоторого согласия можно достигать и при отличии ценностей: таков, например, любой акт обмена, где стороны всегда не согласны относительно сравнительной ценности обмениваемых вещей. И это обстоятельство делает возможным «политический либерализм» в смысле Роулза и правовое общение людей с разными моральными убеждениями.] Иными словами, политика существует в любых сообществах, т.е. «совокупностях индивидов, которые разделяют понимание, что является частным, а что публичным делом в рамках данной совокупности». [Kukathas C. The Liberal Archipelago Oxford: Oxford University Press, 2007, p. 169] В каждом сообществе – полисе, семье, империи, церкви, суверенном государстве, корпорации или клубе – понимание частного и публичного может отличаться, везде свои правила и свои способы их установления и поддержания. Потенциально каждое из этих сообществ, разумеется, в случае выполнения определенных требований, является «правовой политической организацией», т.е. «государством» в терминологии В.С. Нерсесянца. Почему же тогда либертарно-юридическая школа ограничивает свой анализ правовых и деспотических форм правления только наиболее «силовыми» политическими организациями (вождествами, полисами, империями, суверенными государствами)? Это ограничение анализа пришлось бы считать лишь ошибкой или, хуже того, неосознанным эклектическим заимствованием из потестарных теорий права и государства, если бы разделение организаций на склонные и не склонные к насильственному принуждению не было важно именно с точки зрения понятия свободы, которое является сущностью как права, так и государства. К счастью, характерное для многих либеральных мыслителей «негативное» понимание свободы отчётливо демонстрирует такое разделение. В рамках этого понимания свобода является возможностью делать, что хочешь, не подвергаясь чужому насильственному вмешательству. [Такого понятия свободы придерживался близкий к школе Б.Н. Чичерин и придерживается В.А. Четвернин, ученик В.С. Нерсесянца. Сам же В.С. Нерсесянц по всей видимости наряду с «насилием» видел и другие возможные проявления несвободы (См. Нерсесянц В.С. Философия права М.: Норма, 2003, стр. 24-25).] Получается, что сообщества, которые не склонны применять насилие к кому бы то ни было, тем самым признают за каждым человеком эту свободу и тем самым дают основания для однозначного признания их правового характера. Разумеется, правила церкви, корпорации или семьи могут стеснять действия индивида даже больше, чем правила (законы) многих государств, могут ограничивать владение собственностью или выражение собственного мнения. Однако эти сообщества в типичных формах не отрицают за своими членами, да и другими людьми, принципиальную возможность делать, что хочешь, не подвергаясь вмешательству. Все требования этих сообществ по отношению к своим участникам основаны на согласии последних быть членами этих сообществ. Принципы формальной свободы и формального равенства людей сообществах признаются и учитываются в их деятельности. Сомневаться в признании принципов формальной свободы и формального равенства приходится только в отношении организаций, склонных к применению силы. Так, «суверенные государства» признают негативную свободу тех, кто находится за пределами их территории, но склонны отрицать или умалять эту свободу применительно к находящимся в этих пределах. Правила государства – законы – навязываются только последним. Отсюда и проблема общеобязательности правил государства, т.е. законов, которая не возникает по отношению к правилам семей. Следование правилам семей добровольно, следование правилам государства принудительно. Первые не могут ограничивать свободу, вторые – несут такой риск, и поэтому только соответствующие праву законы считаются либертарно-юридической школой общеобязательными [Нерсесянц В.С. Общая теория права и государства, М.: Норма, 2004, стр. 73], т.е. такими, которые есть основания слушаться не только лишь из страха перед применением силы. Можно заметить, что реальное различие между «несиловыми» и «силовыми» сообществами (и соответствующими им политическими организациями) с точки зрения права вовсе не в содержании их правил, а в присущем последним непризнании формальной свободы и формального равенства людей. «Суверенное государство» может быть правовым, даже если его законы отрицают частную собственность и свободу слова, коль скоро это «суверенное государство» не навязывает правила по отношению к тем, кто не соглашался вступать в данное политическое сообщество. У любого «суверенного государства» юрисдикция ограничена. Правовым «суверенное государство» делает принцип этого ограничения. Получается, что первичным критерием для правовой оценки норм сообществ является отсутствие принуждения для членства в нем, принимающая форму свободы входа или выхода (свободы ассоциации или диссоциации). Именно эту возможность с политической точки зрения стоит рассматривать как minimum minimorum свободы. Классические же правовые составляющие этого minimum minimorum (собственность и личную неприкосновенность) стоит рассматривать как «обеспечительные меры» для этого политического минимума. Эти нормы показывают не то, как должна быть устроена жизнь внутри отдельных сообществ, а возможности, которые должны признаваться всеми политическими сообществами за людьми, которые к ним не принадлежат (не вошли в них или вышли из них). Скажем, если в некой коммуне её членам запрещено иметь частную собственность, но членство в коммуне добровольно и нормы коммуны не предполагают насильственное лишение собственности тех, кто не является её членом, то такая коммуна будет иметь правовой характер. Таким образом, критерий добровольности принятия правил сообщества это попросту критерий мирного сосуществования, который может использоваться для оценки любых сообществ, как «силовых», так и «несиловых», и тем самым стать основой для по-настоящему общей политической теории либертаризма. В том, что критерий свободы входа и выхода из сообществ отражает суть защищаемой либертарно-юридической школой формальной свободы и тесно связан с используемым ей традиционным правовым minimum minimorum, можно убедиться на примере рабства, которое традиционно свободе противопоставляется. Рабство делают рабством не тягостные условия жизни, не детальные требования со стороны хозяина и даже не отсутствие у раба собственности. Отличительной чертой рабства является то, что в случае ухода и последующей поимки раб наверняка подвергнется насилию. Совместим этот критерий и с уже используемым в либертарно-юридической школе определением «правового государства», как организации, которое признает, закрепляет и соблюдает 1) прирожденные и неотчуждаемые права и свободы человека; 2) верховенство правового закона; и 3) организацию власти на основе принципа разделения властей [Нерсесянц В.С. Общая теория права и государства, М.: Норма, 2004, стр. 308]. Если сообщество признает свободу входа и выхода из него, не навязывая силой свои правила несогласным, оно уже теряет возможность нарушать первые два требования. Третье же требование имеет смысл рассматривать не как самостоятельное, а как один из возможных механизмов выполнения первых двух. Практическое значение этого требования особенно велико в реальном мире «суверенных государств», которые нередко под угрозой применения силы налагают свои правила на несогласных. Чем в большей степени выполняется это и другие предотвращающие правовой произвол требования к процессу принятия решений в «суверенных государствах», тем более велика презумпция их правового и, следовательно, обязательного характера. [Эту презумпцию американский юрист Рэнди Барнетт называет «легитимностью», которая возникает «если существуют процедурные гарантии того, что законы не окажутся несправедливыми» (т.е. неправовыми). Эти гарантии не обязаны быть совершенными, отсюда существует возможность существования как правовых, но нелегитимных законов, так и легитимных, но неправовых законов. Легитимный закон морально обязывает, пока его неправовой характер каким-либо образом не показан. Аналогично, нелегитимный закон не имеет обязательной силы до той поры, пока не будет показано, что вопреки значительному несовершенству процедуры его принятия в конкретном случае он все же отражает требования права. (Barnett R. Constitutional Legitimacy \\ The Columbia Law Review, 2003, Vol 103, N 1)] Выполнение подобных требований может помочь нам получить уверенность в том, что законы государства не возлагают на нас вопреки нашему несогласию новых обязанностей, а всего лишь отражают (конкретизируют, поясняют) права, которые исходно присутствовали у других людей, возможно, у тех, кто добровольно подчинился юрисдикции государства. Важно также, что более общая политическая теория, основанная на критерии свободы входа и выхода, позволяет более явно реализовать разделение права и морали, чем это делает основанный только лишь на правовом minimum minimorum подход. Сейчас разделение либертарно-юридической концепции права и морали очевидно только по отношению к системо-центрической (коллективистской) морали. Действительно, право не является выражением системо-центризма – оно дозволяет и защищает неконформное, антиобщественное поведение. При этом содержащиеся в minimum minimorum требования допускать наличие собственности у членов сообщества или гарантировать им личную неприкосновенность могут создать впечатление поддержки либертаризмом персоно-центристской (индивидуалистической) морали. На деле же отношение права к индивидуализму не отличается от отношения к коллективизму. Право точно так же дозволяет и защищает конформное поведение, как и неконформное, оно обеспечивает такую же возможность неприкосновенности для коллективистских образов жизни, как и для пожелавших того отдельных индивидов. Отсюда коллективисты могут быть заинтересованы в праве по тем же причинам, что и индивидуалисты, желающие защиты от внешнего насилия. И именно те же причины могут заставлять и тех, и других быть противниками права, видя в нем препятствие для максимально широкого воплощения своих взглядов на должную организацию общества. Как бы то ни было, критерий свободы входа и выхода делает реальное соотношение между требования права и морали более очевидным: свобода состоит не в ценностном содержании правил, а в добровольности их принятия. Не против коллективизма право борется и не за индивидуализм, а против насилия. И именно в этом состоит политический смысл права – оно предлагает решение проблемы мирного и свободного сосуществования людей в условиях значительного разнообразия моральных ценностей. |
| Московский Либертариум, 1994-2020 |