| 27 август 2020 | |
 |
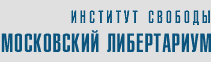 |
|
|
|||||||
| Пользователь: [login] |
настройки |
карта сайта |
статистика |
|
|||||||
|
перевод под ред. Вадима Новикова 01.05.2010, Джеральд Ф. Гаус
Всеобъемлющие либеральные течения Различие между «всеобъемлющим» и «политическим» либерализмом, о котором шла речь в предыдущей главе, стало центральным для современной политической теории. В настоящей главе я стремлюсь рассмотреть различные варианты «всеобъемлющего» либерализма, уделяя особое внимание характеру их всеобъемлемости. В одной из своих работ [Gaus 2003 : Ch. 7] я указывал на то, что различие между политическим и всеобъемлющим либерализмом не так просто провести. В качестве «всеобъемлющих» Ролз неоднократно описывал «философские», «моральные» и «религиозные» «доктрины» [Rawls 1996: xxv, 4, 36, 38, 160], или «убеждения» [Rawls 1996 : 63]. Фактически, Ролз столь часто характеризует всеобъемлемость в терминах моральных, религиозных и философских доктрин или верований, что у читателя возникает соблазн прийти к заключению, что доктрина будет всеобъемлющей тогда и только тогда, когда она является моральной, религиозной или философской. Однако, как ни соблазнительно такое понимание «всеобъемлющих концепций», оно было бы неверным. Ролз недвусмысленно утверждает, что «различие между политической концепцией и другими моральными концепциями лишь в широте охвата; то есть, в спектре предметов, к которым приложима данная концепция, и соответствующем ему предмете» [Rawls 1996 : 13]. Всеобъемлющие и общие доктрины охватывают более широкий спектр тем, ценностей и идеалов, приложимых к различным сферам жизни. Даже при таком анализе, который практикует сам Ролз, было бы разумнее не рассматривать всеобъемлющие типы либерализма как основанные на все покрывающей доктрине, а представлять их в виде спектра теорий, начиная с тех, что опираются на некое всеобъемлющее представление, и кончая теми, что опираются, скажем, лишь на общую теорию права. В настоящей главе я намерен сосредоточиться на следующих вариантах всеобъемлющего либерализма:
Либерализм в качестве светской философии представляет собой отчетливо радикальную концепцию, которая в некотором смысле является парадигмой «полностью всеобъемлющего» либерализма. Согласно этому взгляду, человеческий разум приводит к слиянию различных представлений в теорию человеческой жизни в обществе, куда входят метафизика, эпистемология, а также теории морали и политики. С другой стороны, либерализм как теория права гораздо более осторожно подходит к вопросу о пределах человеческого разума; наиболее скромные версии этого течения незаметно сливаются с политическим либерализмом Ролза. Таким образом, я намерен утверждать, что «всеобъемлющий» либерализм, представленный в Теории справедливости [Rawls 1971], оказался явно «пристрастной» всеобъемлющей теорией, которая была далеко не так всеохватна как многие другие типы либерализма. Либерализм как философская система Джон У. Чэпмен [Chapman 1965] утверждает, что все политические теории являются по природе всеобъемлющими, поскольку они сочетают в себе видение социальной реальности, эпистемологию, психологию и этику для постановки политического диагноза и назначения лечения. Либерализм, разумеется, иногда понимался как политическая теория в этом смысле, действительно всеобъемлющий либерализм —это всеобщая теория познания, общественной жизни, равно как и теория благой жизни и политической справедливости. В одной из работ [Gaus 2000b] я утверждаю, что либеральная теория на протяжении последней сотни лет характеризовалась непрекращающимися дебатами о типах психологии, теориях ценностей, эпистемологии и теориях личности и общества, а также принципах справедливости, которые должны или могли бы сформировать часть действительно всеобъемлющей философии. Я намерен сосредоточиться на двух ключевых аспектах этих споров о либерализме как всеобъемлющей философии: существует ли специфическая либеральная эпистемология и существует ли социальная метафизика. Либеральная эпистемология Мы ясно видим разрыв между двумя типами либеральной эпистемологии. Рационалистический лагерь связан с «просвещенным либерализмом»; более того, как отмечает Стивен Хоумз, критики либерализма связывают его с «гиперрационализмом» [Holmes 1993 : 247]. При такой трактовке либерализм не только пряовляет веру в разум и науку, но и направлен против предрассудков, обычаев и, что существенно, религии. Отсюда — по большей части светский и антирелигиозный характер либеральной мысли. «Либерализм» понимается здесь как «светский гуманизм». Этот тип воинствующего, уверенного рационализма также связывается с величайшей верой в способность людей понимать природу и управлять своей общественной жизнью. Либерализм как светский гуманизм остается крайне важным и сегодня, хотя сам либерализм как самодостаточный рационализм неоднократно подвергался нападкам со стороны плюралистов, релятивистов, постмодернистов и прагматиков (см. [Gaus 2003 : Ch. 1]). Тем не менее, любопытным и удивительным образом прагматический либерализм Ричарда Рорти [Rorty 1991] и других, заявляющий о своем неприятии просвещенческого рационализма и эпистемологии, в то же время наследует этой концепции либерализма как общему методу постижения истины. Разумеется, прагматизм является реакцией на рационализм и теорию репрезентативности сознания и знаний; как подчеркивает Рорти, наше сознание не отражает природы, а истина не является ее верной репрезентацией [Rorty 1979 : 176–9]. Тем не менее, истина все еще рассматривается как результат слияния индивидуальных умозаключений: истиной будет считаться то, к чему приходит в своем рассуждении некое сообщество исследователей [Misak 2000]. Итак, отвергая конкретные взгляды на разум и истину, характерные для большинства просветительских теорий, прагматический либерализм двадцать первого века продолжает отождествлять либеральную демократию с определенным способом познания, причем таким, которое в своем корректном воплощении приводит к слиянию рациональных убеждений. Более того, в руках таких либералов, как Дьюи, этот способ познания позволяет обществу достигнуть «сознательного контроля» — например, в форме экономического планирования — за своей коллективной жизнью [Dewey 1980 : 87]. Таким образом, либерализм понимается как доктрина конвергенции рационального познания, приводящего к рационально организованному обществу. Согласно Ф. А. Хайеку, такие либеральные теории порочны в своей основе, из-за веры в способность человека понимать и контролировать сложные социальные процессы. Хайек утверждает, что именно «наше невежество» приводит к необходимости введения общественных правил [Hayek 1976 : 20]. Карл Поппер [Popper 1945] выдвинул аналогичное обвинение Платону, Гегелю и Марксу, заявив, что они не смогли оценить пределов знания. Хайек и Поппер, таким образом, представляют другой тип либеральной эпистемологии: утверждающей ограниченность человеческого знания и считающей состояние невежества основным состоянием человека. В противоположность либеральному рационализму, этот осторожный фаллибалистический либерализм склонен скорее к толерантности по отношению к религии, чем к воинствующему секуляризму; ему свойственно подчеркивание постепенной и экспериментальной природы социальной политики, а не поддержка великих социальных перемен. Кроме того, он скорее всего будет рассматривать в качестве средства преодоления нашего природного невежества рынок, а не рассчитывать на государственное планирование. Метафизика либерализма Весь прошлый век либерализм одолевали противоречия между, с одной стороны, теми, кого в широком смысле называли «индивидуалистами», а с другой стороны, «коллективистами», «коммунитаристами» или «органицистами» (скептическое отношение к этому разделению выражено в [Bird 1999]). Эти неясные и огульные названия применялись в широком круге дискуссий; в своей работе я сосредоточусь на различиях взглядов в отношении (1) природы общества, и (2) природы как таковой. Разумеется, либерализм обычно связывается с индивидуалистическими взглядами на общество. Как утверждал Милль, «Человеческие существа в обществе не обладают никакими иными свойствами, кроме тех, что обусловлены законами природы индивидуальных человеческих существ и могут быть сведены только к ним» ([Mill 1963b : 879]; см. также [Bentham 1987 : Ch. I, s. 4]). С ним соглашался и Спенсер: «Свойства массы зависят от свойств ее составных частей» [Spenser 1995 : 1]. В последние годы девятнадцатого века индивидуалистические взгляды на общество подверглись особенно сильным нападкам, в частности, со стороны тех, на которого повлияла философия идеализма. Д. Г. Ричи в своей критике философии Спенсера в 1891 г. прямо отвергает утверждение о том, что общество есть не более чем «нагромождение» индивидов, настаивая на том, что оно больше похоже на организм со своей собственной сложной внутренней жизнью [Ritchie 1902 : 13]. Либералы (например, Л. Т. Хобхаус и Дьюи) отказывались от радикальных коллективистских взглядов, выдвигаемых Бернардом Бозанкетом [Bosanquet 2001], в то же время отвергая радикальный индивидуализм Бентама, Милля и Спенсера. Всю первую половину двадцатого века в либеральной теории, даже в отношении экономики, господствовали подобные «органические» взгляды на общество (см. [A. F. Mummery and J. A. Hobson 1956 : 106; J. M. Keynes 1972 : 275]). Во время и после Второй мировой войны тезис об индивидуалистической сущности либерализма вновь обрел силу. В своей книге «Открытое общество и его враги» [Popper 1945] Карл Поппер дал подробный и последовательный критический анализ гегельянской и марксистской теории в их коллективистском и историцистском (и, с точки зрения Поппера, изначально нелиберальном) понимании общества. Возвращение экономического анализа в либеральную теорию выводит на первый план бескомпромиссный методологический индивидуализм. В работах 1960-х гг. Джеймс Бьюкенен и Гордон Таллок яростно защищали «индивидуалистический постулат» против притязаний всех форм «органицизма»: «Этот [органический] подход или теория коллективности … сущностно противостоит западной философской традиции, в которой человеческий индивид рассматривается как основная философская сущность» [Buchanan and Tullock 1965 : 11–12]. Лишь человеческие существа, утверждали Бьюкенен и Таллок, могут принимать решения и осуществлять выбор, и именно их преференции определяют как общественные, так и частные действия. Возрождающийся индивидуализм в либерализме конца двадцатого века был тесно связан с возведению в пантеон либеральных мыслителей Гоббса. Последовательно индивидуалистические взгляды Гоббса на общество, а также его подход к состоянию природы способствовали разработке теоретико-игрового моделирования, привели к культивированию крайне индивидуалистического, формального подхода к либеральному государству и либеральной этике (см. [Buchanan 1975; Hampton 1986]). Разумеется, ни для кого не секрет, что в последние 20 лет наблюдается возрастание интереса к коллективистским взглядам на либеральное общество — хотя сам термин «коллективистский» заменен на «коммунитарный». В 1985 г. Эми Гутман отмечала, что «мы являемся свидетелями возрождения коммунитарной критики либеральной политической теории. Как и критика 1960-х гг., критические замечания 1980-х обвиняют либерализм в ошибочном и непоправимом индивидуализме» [Gutmann 1985 : 308] (курсив наш). Начиная с известной работы Майкла Сэндела [Sandel 1982], критикующей Ролза, целый ряд критических замечаний обрушился на либерализм, который необоснованно выбирает в качестве базиса абстрактные концепции индивида как исключительного субъекта выбора, чьи убеждения, ценности и стремления принадлежат одной лишь личности, но никогда ее не составляют. И хотя известный сегодня (скорее даже, печально известный) спор «либералов с коммунитариями» развивался с привлечением широкого спектра вопросов моральных, политических и социологических дискуссий о природе сообществ, правах и обязанностях их членов, основным вопросом спора оставалась природа либеральной личности. Для Сэндела основным изъяном либерализма Ролза была его невероятно абстрактная теория личности. Он обвиняет Ролза в том, что тот в итоге верит в осмысленность отождествления людей с чистой способностью выбора, а также в то, что такие чистые субъекты выбора могут отклонить некоторые или все свои привязанности и ценности и все еще быть тождественными самим себе. На протяжении 1990-х либералы упорно пытались показать, как либерализм может последовательно отстаивать теорию личности, в которой нашлось бы место культурной принадлежности и другим невыбираемым связям и убеждениям, которые хотя бы отчасти составляют личность [Kymlicka 1991]. В значительной степени либеральная теория сосредоточилась на попытке объяснить, как мы можем оставаться общественными существами, принадлежать различным культурам и воспитываться в разных традициях, и в то же время оставаться автономными субъектами выбора, которые используют свою свободу для строительства собственной жизни. Нам здесь важно отметить, что все эти споры вращались вокруг вопроса о том, ведет ли либерализм с неизбежностью к индивидуалистической теории человека в обществе, или же его политические и моральные постулаты могут сочетаться с различными концепциями личности и социального порядка; таким образом, это спор о том, насколько «всеобъемлющим» является либерализм на самом деле. Либерализм как общая теория благой жизни Идеал высокоразвитой личности За последние полтора столетия — примерно со времен Джона Стюарта Милля — большинство либеральных теорий основывалось на особом отношении к человеческому совершенству. Так называемая перфекционистская теория благой жизни, или жизни, посвященной полной самореализации в качестве конечной цели, рассматривается в работах Милля, Т. Х. Грина, Бернарда Бозанкета, Л. Т. Хобхауса, Джона Дьюи и даже, с моей точки зрения, в третьей части «Теории справедливости» Джона Ролза — наиболее «всеобъемлющей» части книги [Gaus 1983a]. Суть этой теории представлена в третьей части книги Милля «О свободе», которая называется «Об индивидуальности как одной из составных частей благополучия», где человеческая природа сравнивается с «деревом, которое должно расти и развиваться во все стороны в соответствии с внутренними устремлениями, делающими его живым существом» [Mill 1963a : Ch. 3]. Милль тесно связывает индивидуальность с таким ростом или развитием человеческой природы: «Индивидуальность и развитие — одно и то же» [Mill 1963a : Ch. 3]. Милль полагает, что разум помогает раскрыться нашей природе и ее потребностям; человеческая природа обладает импульсами или энергией, которые стараются проявить себя. Мы не только естественно наделены разными способностями, но эти наши способности являются источником энергии, которые стремятся к самовыражению. Соответственно, препятствовать развитию способностей человека означает лишить его энергии — сделать пассивным и сонным [Mill 1963a : Ch. 3; Gaus 1983a: Ch. 4]. Эта перфекционистская теория благой жизни, которая требует совершенствования человеческих существ в обществе, оказывается весьма привлекательной для современных политических теорий. Именно она легла в основу ранней работы Уильяма Галстона [Galston 1980; 1991] и была использована Дугласом Б. Расмуссеном и Дугласом Дж. Ден Юйлем [Rasmuessen and Den Uyl 1991] для защиты классического либерализма. И хотя многих смущает объяснение Айн Рэнд своей позиции как «эгоизма», некоторые понятия человеческого перфекционизма не чужды и либерализму, вдохновленному ее взглядами [Machan 1989; Smith 1995 : 62ff]. Перфекционистские взгляды на благую жизнь являются откровенно либеральными в двух аспектах. Во-первых, и наиболее явным образом, они дают основания для защиты свободы. Люди нуждаются в пространстве для роста, пространстве для решения вопроса о том, какой образ жизни дает им возможности для развития своей уникальной личности, а какой эти возможности закрывает. Как пишет Милль, людям нужна свобода для «экспериментирования с жизнью». Недостаток свободы сдерживает рост, и таким образом, блокирует человеческие импульсы, приводя к становлению пассивных личностей. Во-вторых, такие теории склонны ставить индивидов и их выбор в центр жизненной этики: либерализм понимается как теория этического индивидуализма. Нельзя сказать, что подобные теории понимают развитие как асоциальное; напротив, очень часто в них подчеркивается необходимость социальной жизни для полноценного развития [Gaus 1983a : Chs. 2 and 3; Kymlicka 1991]. Тем не менее, именно индивид и его самореализация или процветание имеет наивысшую ценность, а сами индивиды не настолько неразрывно связаны с обществом, чтобы эта связь превращала их выбор в отражение истории или культуры общества [Sher 1997 : Ch. 7]. Отход от предназначения: теории личностной автономии и реализации собственного проекта При такой трактовке оказывается, что Милль делает существенное для Просвещения утверждение: мы можем познавать человеческую природу, и знание человеческой природы позволяет нам верно судить о том, как мы должны жить [Gaus 2003 : Ch. 1; cf. Shapiro 2003]. Либерализм начинает ассоциироваться с культивацией определенного типа самоутверждающейся личности, а именно, личности, развивающей свои собственные природные данные, разумной и не принимающей традиции, экспериментирующей с различными жизненными траекториями и не склонной к конформизму. Относительно принятия такой концепции либерализма было высказано два сомнения. Первое: такой образ благой жизни кажется слишком определенным и спорным в качестве основы либеральной политики. Многие либеральные общества вовсе не привержены культивированию совершенства личности; в таком случае либерализм становится скорее теорией элиты, которой приходится бороться с общей массой, не заинтересованной в совершенствовании. Масса общества, по Миллю, представляет собой «коллективную посредственность»: она склонна к конформизму и не интересуется новыми идеями. Те немногие, что способны думать и изобретать, являются «солью земли: без них человеческая жизнь превратилась бы в стагнирующую трясину» [1963a : Ch. 3, § 10). Второе сомнение, вытекающее из первого, заключается в том, что такие теории перфекционизма дают почву для распространения патернализма. Несмотря на то, что Милль отстаивал действенную антипатерналистскую этику, идеал получается слишком определенным и взыскательным и дает основания для вмешательства в реализацию свободы с тем, чтобы подтолкнуть посредственную массу в направлении развития идеальной личности. К тому же, становится непонятно, зачем давать массам столько же свободы, сколько и совершенствующейся элите. Многие утверждали, что защита свободы, основанная на личной автономии, не может быть отвергнута на таких основаниях. Согласно Джозефу Рацу, несмотря на то, что «идеал самореализации» Милля «заключается в развитии в наивысшей степени всех (или всех ценных) качеств, присущих человеку … автономный человек прежде всего сам строит свою жизнь, и он может как выбрать путь самореализации, так и отвергнуть его» [Raz 1986 : 325]. Основная мысль состоит в том, что в соответствии с идеалом автономии важно не то, что человек принимает решение развивать свои способности, а то, что он сам решает, надо ли развивать свои способности, или, иными словами, как ему следует жить. Полностью автономный человек живет выбранной им самим жизнью — принимает решения, касающиеся своей жизни на основании своих убеждений. Важность свободы, по мнению сторонников личной автономии, заключается в том, что только свобода делает такую жизнь возможной. Идеал личностной автономии распадается на более узкие доктрины [Lindley 1986]. Личная автономия всегда понималась в терминах реализации намерений, самоуправления, личного творчества и критического размышления над собственными планами и ценностями или над согласованностью желаний первого и второго порядка (об этом см. [Gill 2001 : 20ff ]). Большая часть концепций личностной автономии используют сразу несколько подобных идей. Согласно Стивену Уоллу, например, «автономным людям нужна а) способность выбирать замыслы и реализовывать убеждения; б) независимость, без которой невозможно намечать свой курс в жизни и расширять собственное понимание того, что является ценным и достойным усилий; в) уверенность в себе и желание самим контролировать собственную жизнь» ([Wall 1998 : 132]; см. также [Raz 1986]). Для Джеральда Дворкина «именно жизненный план и проекты делают человека той личностью, каковой он является. В своем стремлении к автономности, человек формирует собственную жизнь, задает ей смысл. Автономная личность придает смысл своей жизни» [Dworkin 1988 : 31]. Во взглядах на автономность сохранились многие формальные принципы перфекционизма самореализации девятнадцатого века, в то время как идея полного развития способностей личности почти не нашла в них отражения. Для теории самореализации девятнадцатого века центральной оказалась идея последовательного жизненного плана [Gaus 1983a : 34–44]; сама идея наличия замысла или плана указывает на набор внятных и согласованных целей. В той мере, в которой концепция личностной автономии предусматривает наличие определенной рациональной структуры целей или рационально построенного плана, она вызывает те же возражения по поводу элитизма и патернализма, которые были направлены против либерального перфекционизма девятнадцатого века. Все эти вопросы отступают перед концепциями автономности, согласно которым «фундаментальная идея автономности заключается в создании собственного мира вне подчинения воле других» [Young 1986 : 19]. Автономная личность использует собственные критические способности для оценки и выбора своих целей и проектов таким образом, что выбор личности является действительно ее собственным выбором, не подверженным воздействию других и не перенятым бездумно у других. Автономия, таким образом, понимается как «идеал самосозидания ... Автономия противостоит жизни с навязанным выбором. Она отличается от жизни без выбора, или от дрейфа по жизни без попыток реализовать свою способность выбирать» [Raz 1986 : 370, 371]. Настоящая концепция автономности, таким образом, гораздо более свободна в выборе целей и, следовательно, менее противоречива и идеалистична, чем идеалы самореализации или претворения замысла в жизнь. Автономность не подсказывает нам выбор; она только утверждает ценность жизни, которую выбираешь сам. Возникающее сомнение касается того, что никто на самом деле не создает себя сам. Наши личностные характеристики и наш выбор подвержены влиянию как наших природных способностей, так и культуры и воспитания. Какие возможные решения кажутся нам привлекательными — зависит от нашего воспитания и культуры. Как отмечал Джон Стюарт Милль, только «случайное стечение обстоятельств» определяет традиции, в которые мы оказываемся погруженными: «те же самые причины, что делают человека прихожанином лондонской церкви, сделали бы его буддистом или конфуцианцем [мы можем добавить от себя — или маоистом] в Пекине» [Mill 1963a : Ch. 2, § 4]. Учитывая, что мы с неизбежностью достигает взрослого состояния с набором ценностей и убеждений, которые мы не выбирали, Стенли Бенн утверждает, что автономная личность — это личность, которая находится в процессе постоянного «критического переосмысления системы ценностей, в которой она находится и где один аспект может быть оценена при помощи принципов, взятых из другого» ([Benn 1988 : 32]; ср., однако [Wall 1998 : 128–9]). Согласно этой точке зрения, человек, ведущий жизнь, которую он выбрал сам, это не тот, кто создает ее для себя, а тот, кто осуществляет постоянную переоценку мнений и ценностей, убеждаясь, что он может следовать им в свете других взглядов, которые он принимает. Человек не может оценить всего сразу, однако он может быть всегда готовым критически посмотреть на свои ценности и проекты и спросить себя, уверен ли он в том, что может продолжать им следовать. При таком подходе жизнь человека не является предметом свободного выбора, не является автономной, если какие-то ее аспекты он отказывается анализировать — если у него есть какие-то убеждения, которые он не хочет или не может критически переосмыслить. Если у человека есть такие убеждения, именно им он следует несвободно, поскольку сам отказ от критического переосмысления указывает на то, что человек следует этим убеждениям только в силу своей несвободы их пересмотреть или отвергнуть. Вместе с тем, Бенн признает, что такой подход делает личностную автономность идеалом личности, который может быть реализован в большей или меньшей степени, и многие люди оказываются весьма далеки от этого идеала. Таким образом, в противовес большинству теорий сторонников либеральной автономии, Бенн отказывается рассматривать автономию в качестве оправдания необходимости либеральных свобод, рассматривая ее как личностный идеал, а не как основание для либеральной справедливости [Benn 1988 : Ch. 9]. Почему теорию личностной автономии можно считать либеральной теорией благой жизни? Теория личностной автономии, которая в широком смысле включает концепцию саморазвития Милля, не просто отражает представления либералов о благой жизни, и даже не является просто их точкой зрения на благую жизнь, которая служит оправданием либеральных политических институтов. Это отчетливо либеральная концепция благой жизни: блага́ прежде всего свободно выбранная жизнь, и поэтому благая жизнь — это свободная жизнь. Это, по словам Раца [Raz 1986], мораль свободы; в центре этой морали стоит определенная концепция свободной жизни. Это не значит, что проект последователя автономности обязательно оказывается успешным; как я подчеркнул выше, «свобода как автономность» балансирует на грани оправдания элитизма и патернализма, и таким образом навлекает на себя критику, подобную той, что обрушил на нее Берлин в работе «Две концепции свободы». Как пишет Берлин, цитируя Канта : «Патернализм является наихудшим возможным деспотизмом» [Berlin 1969 : 157]. Горацио Спектор [Spector 1992] делает, пожалуй, наиболее глубокую попытку показать, что принцип автономности не ведет с обязательностью к такой политике, зато может служить оправданием сильных классических либеральных свобод. Было бы ошибкой пытаться дать определение либерализму; либеральные теории являются сложными конгломератами концептуальных и ценностных убеждений. Однако, главным критерием описания тех или иных взглядов как «либеральных» является то, является ли свобода ключевым и основным убеждением [Freeden 1996; Gaus 2000a]. Теории личностной автономии, одновременно утверждая необходимость традиционных либеральных свобод для личностной автономии и указывая на достижение автономии как свободу саму по себе, таким образом серьезно претендуют на разработку отчетливо либеральных теорий морали. Сравните это с известным утверждением Рональда Дворкина, что либерализм покоится на фундаментальной приверженности равенству, а не свободе ([Dworkin 1978 : 115]; см. также [Dworkin 2000 : Part I]). Согласно его эгалитарному либерализму, свободы (такие как свобода слова и собраний) ведут к достижению равенства в обязанностях и уважении. Их равное распределение является одним из этапов защиты равного распределения ресурсов и возможностей. Особый статус, который приписывается этим базовым свободам в либеральной теории, следует не из особой важности свободы, а скорее является способом выражения равной заботы и уважения. Следует задуматься о том, становится ли либерализм более реалистичным за счет, во-первых, практически полного освобождения от традиционных постулатов свободы, и, во-вторых, за счет замены свободы равенством, ценностью, которая традиционно с трудом находила свое место в либеральной теории [Freeden 1996 : 241; Gaus 2000a : 166–8). Либерализм, взращенный на теориях морали Я сказал, что теория морали, такая как, например, теория личностной автономии, имеет все основания стать либеральной концепцией моральности, поскольку в основании ее подхода к идее благой жизни лежит представление о свободной жизни. Разум заставляет нас объединяться в либеральном понимании благой жизни, и в этом смысле, это именно «всеобъемлющий», хотя и не «радикально всеобъемлющий» подход. Следует теперь провести границу между теорией благой жизни и морали и приверженностью либерализму, которая основано на теории морали; две отличные друг от друга концепции либерализма часто смешивают в одну кучу под видом «всеобъемлющего» либерализма. Либеральные политические принципы могут быть выведены из теорий морали, которые сами по себе не являются исконно либеральными. Я рассмотрю три подобных теории: утилитаризм, контрактуализм в духе Гоббса и ценностный скептицизм. Утилитаристский либерализм Разум и принцип полезности Утилитаристские теории морали утверждают, что мы способны обладать знанием о благом и правильном; с позволения Ролза, это не относится к предмету «разумного плюрализма». Наиболее откровенные варианты утилитаризма основаны на утверждении, что благо есть либо удовольствие, счастье, либо удовлетворение собственных преференций, а правильность есть всесторонняя максимизация блага. Любопытно, что Бентам не задумывался о том, что принцип полезности может быть доказан; вместе с тем, он утверждал, что его нельзя отвергнуть на разумных основаниях [Bentham 1987 : Ch. 11, s. 11]. Любой разумный человек не может не понимать, что удовольствие является конечной целью: соответственно, принцип полезности не может стать предметом разумного спора. Однако, вопрос о том, может ли принцип полезности быть установлен с помощью разума, был и остается предметом спора. Хорошо известно доказательство Милля [Mill 1963c : Ch. 4]. В противоположность этому Сиджвик настаивает на том, что при защите утилитаризма следует опираться на основные интуитивные оценки; в конце концов Сиджвик склоняется к тому, что даже эгоист не обязательно бывает иррационален [Sidgwick 1962 : 418–22]. В то же время, если принять, что 1) я ценю свою собственное счастье потому, 2) что счастье это благо и 3), более того, единственное благо, а 4) чем больше блага, тем лучше, следовательно 5), учитывая, что мы можем межличностно сравнивать счастье разных людей, 6) человек обязан стремиться к наивысшему счастью. Каждый следующий шаг в этом утверждении является неоднозначным (и остается таковым, даже если заменить «удовольствие» или «удовлетворение предпочтений» на «счастье»); эта проблема утилитаристской этической теории не должна нас на данном этапе волновать. Польза и свобода: традиционная критика Сейчас нам важно прежде всего установить, может ли принцип полезности, если он принимается этикой, служить оправданием либеральным политическим принципам. Ролз [Rawls 1971], разумеется, утверждал, что в лучшем случае, нельзя сказать наверняка, будет ли принцип, направленный на максимизацию общего количества пользы (счастья, удовольствия и т. п.), служить также и равному распределению свободы. Если большее счастье для многих достижимо путем ограничения свободы немногих, то принцип полезности с очевидностью оправдывает нелиберальную стратегию. Согласно традиционной линии критики, проблема заключается в том, что принцип полезности принимает правило самостоятельного совершения индивидом выбора — того, как он может максимизировать свое благо — в качестве правила принятия решения о выборе для общества в целом. Несмотря на то, что либерализм полностью согласен с правом индивида пожертвовать какими-то аспектами своей жизни для достижения большего блага в других ее аспектах, было бы нелиберальным применять такой принцип для принятия политических решений, касающихся распределения блага между гражданами. Отсюда обвинение в том, что принцип полезности рассматривает общество «как одного большого целостного индивида» [Chapman 1964 : 163]. Это обвинение настолько распространено, что стало традиционным для современной политической теории. Сторонники утилитаристского либерализма, в свою очередь, сумели выдвинуть несколько контр-аргументов. Теория рынка Критика утилитаризма со стороны Ролза получила такое широкое распространение, что мы стали забывать о тесной дружбе либерализма и утилитаризма в течение девятнадцатого века. Большинство крупных политических экономистов были того или иного вида утилитаристами [Gaus 1983b], как возможно и большинство современных нам экономистов. Теория рынка является, по сути, изощренным доказательством того, что при определенных условиях наилучших результатов в максимизации общей полезности можно добиться, если каждый человек будет преследовать цель повышения своего собственного благосостояния. Дж. Р. Мак-Куллох так сформулировал эту доктрину: Когда индивиды предоставлены самим себе и руководствуются своим чутьем, выбирая наиболее полезное для себя при управлении своими активами и занятиями, их интересы совпадают с интересами общества; и те, кто добивается наибольших успехов в увеличении собственного богатства, с необходимостью вносят вклад в благосостояние всего государства, гражданами которого они являются [McCulloch 1964 : 125]. Разумеется, можно указать, что условия, при которых возможна максимизация удовлетворения предпочтений в рыночных трансакциях, идеализированы, а значит — невозможны в реальном мире. Таким образом, действия государства, направленные на коррекцию рынка, могут быть оправданы. Более того, принимая предположение о сокращении предельной полезности (или сокращении ставки обмена товарами), утилитаризм может найти оправдание эгалитарному распределению доходов; П. Дж. Келли [Kelly 1990] утверждает, что даже до появления маржинализма утилитаризм Бентама выступал за умеренный эгалитаризм. Учитывая также размах провалов рынка, утилитаризм может поддержать идею более всеохватного государства. С другой стороны, теория общественного выбора дает почву для теории провалов государства [Mueller 2003]. Если деятельность правительства само по себе не может способствовать получению оптимальных результатов, то провалы рынка как таковые еще не дают повода для государственного вмешательства в экономику. Следовательно, даже перед лицом серьезных провалов рынка, утилитарист будет защищать необходимость достаточно свободных рынков. Итак, вопрос о том, насколько утилитаризм поддерживает либеральную политику и экономику, оборачивается в сторону экономической теории, теории общественного выбора, теорий проектирования институтов [Goodin 1996], и т. п. В этом смысле, либеральный утилитаризм и в самом деле является частично всеобъемлющей теорией, в защиту которой выступают различные экономические и политические теории. Многие философы склонны отрицать либеральный утилитаризм только на том основании, что он прибегает к эмпирическим утверждениям; эти противники утилитаризма часто приводят фантастические примеры, начинающиеся с «а что, если», демонстрируя, что в необычных обстоятельствах утилитаризм может приводить к необычным результатам. Напротив, утилитаристы обычно свято верят в такие теории и не видят оснований считать, что наша теория политического права не должна зависеть от наших лучших экономических и политических теорий эмпирического свойства. Либерализм Парето Многие из распространенных экономических аргументов в пользу либерализма основаны на межличностных сравнениях полезности. Хотя экономисты с большой осторожностью относятся к проблеме сравнения полезности в отношении разных людей, все же в политической экономии этот способ весьма распространен [Mueller 2003 : 566ff]. Если же, напротив, мы предположим, что польза (счастье или удовольствие) различных людей несопоставимы, мы сразу приходим к проблеме плюрализма и общественной несоизмеримости. Однако и при несопоставимости личных представлений о пользе можно сделать некоторые минимальные общие суждения, касающиеся благосостояния. По критерию Парето, 1) общественное состояние S1 является Парето-превосходящим состояние S2 в том и только в том случае, если, по крайней мере, благосостояние одного человека в состоянии S1 выше, чем в состоянии S2, и ничье благосостояние не ухудшается в ситуации S1 в сравнении с его благосостоянием в ситуации S 2; и 2), если ни одно состояние не будет превосходить в смысле Парето состояние S1, то состояние S1 является множеством оптимальных в смысле Парето социальных состояний. Эти критерии, разумеется, могут быть применены к крупному множеству Парето-оптимальных состояний, и потому они далеко не всегда смогут руководить нашим выбором оптимального состояния. Но и при такой неоднозначности критерий Парето, по крайней мере, позволяет избежать проблемы, сформулированной Ролзом: он исключает возможность жертвования интересами немногих ради выгоды большинства. Таким образом, принцип благосостояния по Парето кажется вполне совместимым с либерализмом. Амартия Сен, однако, доказал, что так бывает не всегда. Сен [Sen 1970] показывает, что, если права дают человеку право выбора между, по крайней мере, двумя социальными состояниями, то при наличии двух обладателей таких прав, либеральные права могут вступить в противоречие с неограниченным принципом благосостояния по Парето. Отдельные критики выразили несогласие с трактовкой Сеном прав как полномочий выбора между социальными состояниями (дискуссии по этому вопросу приводятся в работе [Mueller 2003 : 650–51]); однако, недавние исследования в области теории права независимо подтвердили правдоподобность такой теории полномочий [Mack 2000; Gaus 1996 : 199–204]. Достигнутый Сеном результат важен, поскольку показывает, что в принципе даже в минимальных проявлениях теория благосостояния может быть несовместима с либерализмом. В общем смысле, как показали недавно Луис Каплов и Стивен Шэвел [Kaplow Shavell 2002], практически любой принцип, не основанный на благосостоянии, может противоречить критерию Парето. Утилитаризм и права Утилитаристы, или шире — консеквенциалисты, потратили много сил на выяснение того, каким образом можно примирить права личности и утилитаристскую систему. Сен [Sen 1990] предлагает модель консеквенциализма, в которой удовлетворение прав рассматривается как элемент пользы для состоянии дел (ср. [Scanlon 1977; Nozick 1974 : 166]. Сложный утилитаризм Милля — где правила интегрированы в концепцию моральности — часто использовался в качестве модели утилитарных прав [Lyons 1978; Frey 1984]. Рассел Хардин [Hardin 1988; 1993] выступил в защиту «институционального утилитаризма», который принимает во внимание проблемы знания при разработке утилитарных институтов, которые, по его мнению, являются альтернативой как утилитаризму действия, так и утилитаризму правил. Согласно Хардину, «мы нуждаемся в институциональной структуре прав или защиты, поскольку не каждый проявляет утилитарность или же иной род моральности, и поскольку наше знание о других сильно ограничено, то их интересы часто могут быть соблюдены наилучшим образом только в том случае, если они сами смогут контролировать этот процесс». И это то, как «следует понимать традиционные права», добавляет он [Hardin 1988 : 78]. Весьма влиятельную теорию прав с точки зрения консеквенциализма выдвигает Л. У. Самнер [Sumner 1987]. Самнер признает парадоксальность последовательного консеквенциалистского понимания прав: коль скоро сторонник консеквенциализма стремится к максимизации возможности достижения определенной цели, а права являются сдерживающим фактором для способов достижения целей, то получается, что с точки зрения консеквенциалиста наилучшим способом достижения цели будет сдерживание наших усилий по ее достижению. Ключ к решению парадокса, говорит Самнер, лежит в различении теории морального обоснования и предпочитаемой теории морального принятия решений [Sumner 1987 : 179], или же, иначе, консеквенциализма как теории оценки, с одной стороны, и теории обдумывания — с другой. Этот довод в поддержку консеквенциализма прав (или, шире, консеквенциализма правил) утверждает, что не может быть простого перехода от требования максимизации положительных результатов при правильном действии к требованию, чтобы наилучшая процедура принятия решений приводила к выбору действия, которое по чьему-либо мнению приводит к наилучшим результатам. Таким образом, наилучшая процедура принятия решений с точки зрения консеквенциализма заключалась бы в том, чтобы ограничить степень вовлеченности в консеквенциалистские процедуры путем сдерживания стремления к преследованию собственных целей на основании признания прав. Такого рода доводы выдвигались Сиджвиком [Sidgwick 1962 : 489], считавшим, что консеквенциализм может быть самоустраняющимся в том смысле, что он советует нам не пользоваться им в качестве теории принятия решений. Было бы лучше, по его мнению, если бы большая часть людей руководствовались общепринятой моралью. Этот подход сталкивается с двумя проблемами. Первое, очень часто мы не сознаем, что утилитаризм правил налагает бо́льшие, а не меньшие ограничения на тех, кто рассчитывает систему правил. Для применения утилитаризма правил следует осознавать, что, допустим, следование правилу R было бы способом максимизации или, по крайней мере, ускорения достижения пользы. Однако, при этом мы должны предвидеть полезность большого множества действий, а также учитывать ту степень, в которой люди будут склонны игнорировать правило R или применять его ошибочно, стоимость обучения применению правила R и соответствующие наказания. Эта проблема выступает на первый план в рассуждениях самого Сиджвика на темы морали здравого смысла, в его неимоверных допущений насчет направленности такой морали в сторону достижения всеобщего счастья. Второе: отличая утилитаризм как эталон оценки от его роли эталона выбора, мы приходим к своего рода моральному элитизму, так привлекавшему Сиджвика: возможно, толпе следует придерживаться неутилитарных принципов, однако сословие великолепных расчетчиков, возможно, добьется большей полезности с применением утилитаризма в качестве методики принятия решений [Sidgwick 1962 : 489ff]. Вдохновившись теорией Сиджвика, Роберт Э. Гудин [Goodin 1995 : Ch. 4] взялся отстаивать государственный утилитаризм, который расматривает утилитаризм не в качестве руководства к личному действию, а как «государственную философию», которую следует применять политикам. Контрактуализм Гоббса Как отмечалось выше, в последние 20 лет Гоббс постепенно был возвращен на свое место в качестве ключевой фигуры либерального пантеона. Помимо беспощадного индивидуалистического анализа человеческого общества, либерализация по Гоббсу опирается на его контрактуализм, а также на его применение в теоретико-игровом моделировании. Основной интерес представляет работа Джин Хэмптон ([Hampton 1986]; дискуссия по данному вопросу приводится в работе [Kraus 1993]). На первый взгляд может показаться, что Гоббс вовсе не выдвигал никакой теории морального контрактуализма: естественные права являются додоговорными этическими нормами, а сам договор имеет отношение к институту политического правления, а не играет роль соглашения по поводу этических норм. Тем не менее, как подчеркивал Дэвид Готье [Gauthier 1995], договор по Гоббсу подразумевает одобрение использования правителем разума как правильного разумного решения, включая его решение по поводу требований морали; таким образом, это политический договор, включающий этические правила. В любом случае, последние изыскания, вдохновленные теорией Гоббса — и, особенно, работа Готье [Gauthier 1986] — превратили эту теорию в основание оправдания этики, что, в свою очередь, утверждает либеральный порядок (сомнения по поводу происхождения теории Готье из выводов Гоббса изложены в [Lloyd 1998]). Как известно, теория Гоббса начинается с гипотетического анализа природы неструктурированного взаимодействия разумных индивидов, преданных идее максимального удовлетворения своих предпочтений [Kavka 1986 : 123–4]. Существуют разногласия по поводу того, предполагают ли выводы Гоббса доминирование эгоизма [Kavka 1986 : 64] или просто максимизацию нонтуистичных предпочтений [Gaus 1999 : 12, 74; Wicksteed 1946: Vol. 1, 180]. [«Нонтуистичный» (nontuistic) — не заинтересованный в тех, с кем взаимодействует. Термин введен Филипом Уикстидом в работе «Здравый смысл политической экономии» (Wicksteed, Philip H. The Common Sense of Political Economy, 1933). По Уикстиду, «нонтуистичность» означает, что деловые соображения безразличны как к эгоистичным, так и альтруистичным внеэкономическим мотивам (Id., I.5.24). — Прим. ред. пер.] В такой ситуации индивиды столкнутся с дилеммой заключенного, играми в ястребов и голубей и играми на доверие [Mueller 2003 : Ch. 2; Skyrms 1996]; чаще всего им не удастся добиться взаимодействия, что приведет к отрицательным последствиям для всех. Таким образом, агенты Гоббса имеют причины, основанные на удовлетворении своих собственных предпочтений, согласовывать свои действия с регулирующими их взаимодействие правилами, и, в частности, позволяют им избежать дилеммы заключенного, перед которой они могут оказаться. Теория договоров Гоббса сталкивается с тремя основными проблемами ([Gaus 1999 : Ch. 5; см. также [Kraus 1993]). Во-первых, учитывая, что жизнь в условиях естественных законов — условиях неструктурированного взаимодействия — является «ужасной, грубой и короткой» [Hobbes 1948 : Ch. 13], легко согласиться с тем, что хоть какое-то согласие лучше, чем его отсутствие. Тем не менее, скорее всего в такой ситуации будут возможны многочисленные Парето-оптимальные договоры: они все будут лучше, чем состояние в условиях естественных законов, и в тоже время ни один из них окажется в Парето-предпочтительном положении по отношению к любому другому. Некоторые договоры будут выгодны одним группам, другие — другим. Таким образом, договор по Гоббсу может быть неокончательным; а значит, вызывающим сомнения в своей способности представить сильное оправдание либеральных в своей основе принципов. Во-вторых, учитывая, что индивиды по Гоббсу представляют собой целенаправленных разумных индивидов, стремящихся к максимизации, каждый, скорее всего, будет стараться обойти общественный договор, если увидит в этом выгоду для себя, и если обман может пройти незамеченным. Однако, такое знание и будет доказательством, ведь каждый знает, что общественный договор не принуждает никого жертвовать своими интересами, поэтому нет смысла с ним соглашаться. И наконец, согласно Джеймсу Бьюкенену [Buchanan 1975], можно предложить следующий договор: каждый сохраняет то, чем владел в состоянии естественного закона, и соглашается прекратить войну каждого против всех. Такой договор точно был бы выгоден каждому, поскольку таким образом каждому удалось бы избежать необходимости нести расходы на защиту собственного имущества. В то же время, это кажется несправедливым в том смысле, что отражает сильную позицию сторон, полученную в результате участия в войне, свойственной состоянию естественного закона. Такая сделка могла бы быть modus vivendi — компромиссом конкурирующих интересов, приводящим к миру — но вряд ли подходит в качестве основания для морали (защита теории договора Гоббса в качестве modus vivendi представлена в [Gray 2000]). Изощренные аналитические работы, такие как теория контрактуализма Дэвида Готье [Gauthier 1986], пытаются разрешить подобные проблемы (общая дискуссия приводится в работе [Vallentyne 1991]). Готье утверждает, что для достижения цели рациональные сторонники максимизации склонны согласиться прекратить делать выбор в пользу максимизации результатов. Если бы индивиды могли согласиться подчиняться условиям общественного договора, то и вторая проблема — проблема согласия — была бы решена; при таком отношении — таких предпочтениях при действовании — они перестали бы руководствоваться при выборе только лишь тем, что наилучшим образом ведет к достижению их собственных целей, и вместо этого основывали бы этот выбор на том, что способствует достижению их собственных целей в рамках дозволенного условиями договора. Занимая такую позицию, люди, как это ни парадоксально, выигрывают в смысле максимизации, поскольку они могут при этом следовать договору, который способствует выгоде для всех. Готье называет это «ограниченной максимизацией» [Gauthier 1986 : 158]. Очевидная и, по крайней мере, первой приходящая на ум проблема, с точки зрения Готье, заключается в том, что с позиции действительно рациональной, было бы разумнее только казаться сдержанным максимизатором, в то время как все остальные действительно таковыми становятся. Готье дает двухчастный ответ на свой вопрос. 1) Сторонники ограниченной максимизации не принимают на себя обязательств безоговорочно ограничивать себя вне зависимости от того, с кем им приходится иметь дело. Они только предрасположены к действию на условиях ограничения с теми, кто ведет себя подобным же образом. 2) Готье утверждает, что мы не являемся совершенно непостижимыми друг для друга, но в какой-то мере можем понимать других и догадываться об их намерениях. Следуя его выражению, мы «прозрачны». Люди в состоянии видеть друг друга насквозь в какой-то мере. Если человек прозрачен, то его соучастники по договору не будут ограничивать свою максимизирующие действия по отношению к обманщику, и таким образом, ему не удастся получить выгоду от общественного сотрудничества. Как резюмирует Готье, рациональный агент не станет стремиться к неограниченной максимизации в среде сторонников ограничения максимизации. Может показаться, что Готье считает выгодным становиться на позиции неограниченной максимизации в аналогичном окружении. Вовсе нет. В работе «Договорная мораль» Готье различает два типа позиций соответствия договору: в широком и узком смысле [Gauthier 1986 : 177ff, 225ff]. Сторонники соответствия в широком смысле согласны следовать любому договору, который идет им на пользу; сторонники соответствия в узком смысле будут следовать только справедливому и непринудительному договору. По мнению Готье, соответствие договору в широком смысле не является вполне рациональным: тем самым вы так и напрашиваетесь на то, чтобы вас использовали, поскольку вы соглашаетесь выполнять условия любого договора вне зависимости от того, насколько это выгодно для вас. Так Готье отвечает на сомнения по поводу несправедливых договоров: наиболее разумным будет занять позицию человека, согласного на ограниченное соответствие условиям договора — только такого договора, который является выгодным, справедливым и не принудительным. Рациональные участники договора соглашаются только на условия справедливых и рациональных сделок, однако, как уже было сказано, трудно дать определение исключительно рациональной сделки. Готье изначально весьма оригинально отстаивал «минимаксную относительную уступку» в качестве решения проблемы [Gauthier 1986 : 226], однако затем поменял точку зрения [Gauthier 1993 : 178ff ]. Гоббсианские представления о справедливости, таким образом, оказывается зависимым от конкретной теории сделки и тех проблем, с которыми эти теории связаны (см. [Barry 1989 : Part I]). Ценностный скептицизм Мысль о том, что либерализм сколько-нибудь тесно связан с ценностным скептицизмом или иной формой субъективизма, сегодня вызывает сомнения: многие влиятельные сторонники либерализма, такие как Шер (1997), опровергают такую связь. Более того, противники либерализма, например, Аласдер Макинтайр [MacIntyre 1981] пытались проследить такую связь, заставив современных сторонников либерализма отнестись к ней с подозрением. Тем не менее, скептицизм в отношении внеличностного статуса ценностей уже давно стал частью либеральной теории. К лагерю скептиков принадлежат все либеральные теории, которые основаны на предположении, что силы человеческого разума недостаточно для того, чтобы дать общезначимые и полные ответы на вечные вопросы о том, в чем ценность жизни, и каким целям нам следует себя посвятить. Эту линию либеральной мысли можно проследить до Гоббса и Локка. По Локку: Разум, как и вкус, склонен к различным наслаждениям; и столь же тщетны будут попытки угодить всем людям, дав им богатство и славу (в которых находят счастье отдельные личности), как и попытки накормить всех сыром и омарами; которые хоть и несомненно вкусны и приятны для многих, другим покажутся тошнотворными и неприятными --- и многие люди разумно предпочтут голодное урчание желудка таким деликатесам, которые иные сочтут пиршеством. И посему я полагаю, что философы древности напрасно вопрошали, в чем состоит высшее благо — в богатстве, телесных наслаждениях, добродетели или размышлении: с таким же успехом они могли спорить о том, что вкуснее, яблоки, сливы или орехи, и на этом основании разойтись по разным сектам [Locke 1975 : 299]. Подобные субъективистские теории ценностей — приравнивающие ценности к вкусам или предпочтениям — занимают видное место в либеральных теориях XX века. Субъективистская концепция ценностей неразрывно связана с австрийской философской школой; Карл Менгер [Menger 1994 : Ch. 3] и его последователи, такие как Людвиг фон Мизес [Mises 1966], открыто пытались интегрировать субъективистскую теорию ценностей в экономическую теорию. Разумеется, в той мере, настолько экономический либерализм основан на предположении, что только удовлетворение предпочтений определяет понятие ценности, он также является субъективистским (критика этих положения приводится в [Sunstein 1997 : 15ff]). Субъективистское понимание ценности защищали как философы так и экономисты: более того, некоторая форма субъективизма — относящая ценности либо к желаниям, либо к чувствам агентов — и является основной в философии ценностей XX века (см. [Gaus 1990 : Part I]). Итог всех субъективистских теорий ценности сводится к тому, что связывая ценности с желаниями, чувствами или предпочтениями индивида, они подрывают предположение, что государство должно посвятить себя поискам высшего блага. В этой связи либеральная политика не имеет разумных оснований в поиске действительно ценного, так как ценность дело вкуса, а о вкусах не спорят. Разумеется, такие теории сами по себе не ведут к либерализму; хотя они выступают против утверждений, стремящихся к оправданию политики, основанной на поиске высшего блага, для либеральной справедливости нужны положительные оправдания, к которым мы сейчас и обратимся. Либеральные теории справедливости Граница между оправданием либеральных принципов по Гоббсу и тем, что я назову «либеральной теорией справедливости», является весьма туманной и спорной. Разумное объяснение этого различия состоит в следующем: утилитаристские, гоббсианские и субъективно-ценностные этические принципы могут быть использованы для оправдания либеральных порядков, однако, в зависимости от частностей и допущений, они могут в равной степени оправдывать и совершенно нелиберальные установки. Таким образом, они требуют дополнительных условий (например, теории рынка) для обоснования либеральных политических принципов. В конце концов, теория Гоббса как таковая была откровенно нелиберальной. В отличие от этого, то, что я называю «либеральными теориями справедливости» связывают саму идею справедливости и моральных оснований с основными либеральными принципами. При таком подходе, даже в отсутствии либеральной теории благой жизни или ценности, мы располагаем либеральной теорией права. Основные либеральные теории права Хотелось бы напомнить, что взгляды Локка на естественное право [Nozick 1974; Simmons 1992] несомненно представляют собой либеральный подход к вопросу справедливости. В целом, теории справедливости, основанные на праве, которые отдают первенство правам свободы личности [Lomasky 1987; Steiner 1994], совершенно недвусмысленно являются либеральными. Вред и свобода В трактате «О свободе» Дж. С. Милль выдвигает свое «очень простое положение … состоящее в том, что единственной причиной, оправдывающей индивидуальные или коллективные вмешательства в свободу действий кого-либо … является предотвращение причинения вреда другим» [Mill 1963a : Ch. 1, § 9]. Милль выдвигает радикальную теорию политического права: принуждение — включающее в себя и общественное давление, направленное на предотвращение любого действия А — должно иметь оправдание в том, что действие А наносит вред другим лицам, и принуждение используется для предотвращения причинения этого вреда. Великое множество либеральных теорий пытались объяснить этот принцип причинения вреда, и показать, что это действительно является единственным основанием оправдания принуждения. Один из споров касался выяснения того, подразумевал ли Милль, что этот принцип выявляет множество действий — не причиняющих непосредственного вреда другим — в отношении которых недопустимо общественное принуждение (см. [Riley 1998 : 93ff]), или же данный принцип следует толковать как выявляющий множество причин — типов вреда для других — которые могут оправдать принуждение [Ten 1980 : 50–7; Gaus 1999 : 106–13]). Классической работой в области принципа причинения вреда, и шире — в области изучения подхода сторонников Милля к вопросу политической справедливости — является работа Джоэля Файнберга «Моральные основания уголовного права» [Feinberg 1984–90]. Четырехтомная работа Файнберга подробно исследует основные положения теории морали в духе Милля. 1) Что именно является вредом [Feinberg 1984]? 2) Дозволяет ли мораль в духе Милля предотвращение действий, которые не нанося вреда другим, все же являются оскорбительными для кого-то [Feinberg 1985]? 3) Если индивиды неспособны осуществить полностью свободный выбор, может ли принуждение использоваться для предотвращения нанесения ими вреда самим себе [Feinberg 1986]? И 4) существуют ли условия, при которых либерализм оправдывает принуждение, не подпадающее ни под одну из вышеописанных категорий [Feinberg 1990]? Файнберг убедительно доказывает, что при тщательном анализе радикальное утверждение Милля — только нанесение вреда другим оправдывает общественное принуждение — оказывается необоснованным, но в то же время разумно приводится как основание либеральной общественной морали (см. подробнее [Gaus 1999 : Part II]). Как отмечает Файнберг, моральные принципы, основанные на понятии причинения вреда, либеральны настолько, насколько принимается презумпция свободы: если действие человека не причиняет вреда другим, значит, он имеет право действовать так, как сочтет нужным [Feinberg 1984 : 9]. Более того, основанием принципа причинения вреда является принцип, утверждающий, что при наличии согласия не может идти речи о причинении вреда: так, индивид может дать согласие на действия, ущемляющие его интересы (например, употребление наркотиков); не только сам человек имеет право причинять вред самому себе, но и продавец наркотиков не считается приносящим вам вред, если вы дали добросовестное согласие на покупку. Тем не менее, противники принципа причинения вреда (например [de Jasay 1991]) утверждали, что такие основания недостаточны для поддержки либеральных принципов, поскольку концепция причинения вреда слишком пластична: ее можно трактовать как предотвращение психологического или культурного вреда (см. например [Kernohan 1997]), что послужит оправданием значительным и серьезным принудительным вмешательствам. Более того, условие «добросовестного согласия» со стороны агента и «добровольности» причинения им вреда самому себе открывает путь к патерналистскому вмешательству [Kleinig 1983]. И наконец, несмотря на то что принцип причинения вреда может пониматься как независимый моральный принцип, которому следуют сторонники самых разных теорий благой жизни [Gaus 1999 : Ch. 6], Милль и множество его последователей связывали его с теориями перфекционизма, таким образом включая его в систему взаимосвязанных комплексных положений. Либерализм Канта I: от уважения к либеральным правам То, что Файнберг назвал «презумпцией свободы», Бенн отстаивал с позиции принципа невмешательства, основанного на уважении к личности. Бенн [Benn 1988] приводит пример Алана, дробящего гальку на пляже, от которого Бетти требует некоего оправдания его действий перед ней. Бенн соглашается с Файнбергом; он не обязан давать ей какого-либо оправдания своих действий. А теперь предположим, что Бетти попытается помешать ему, и он, в свою потребует от нее оправдания ее действий. Бенн утверждает, что «с ее стороны ответ, что он не смог представить ей оправдания своих действий (дробления гальки), не может быть принят, поскольку дробление камней Аланом никак не затрагивало действий Бетти» [Benn 1988 : 87]. По мнению Бенна, существует основополагающая асимметрия собственных действий и вмешательства в действия других. Алан не обязан оправдывать свои действия — дробление камней — перед Бетти: не существует никаких действующих норм, требующих от него доказательства своих честных намерений перед Бетти. С другой стороны, Бетти обязана оправдать свое вмешательство в действия Алана или свои попытки заставить его прекратить то, что он делает. Бенн утверждает, что если Бетти уважает личность Алана, она должна признать за ним право на действия: «Вы можете считать действия другого человека абсолютно бессмысленными как таковыми. Требование уважения основано не на ценности или значимости действий другого, … а лишь на том, что это личное желание другого человека» [Benn 1988 : 107]. Поскольку мы требуем невмешательства в собственные дела, уважение к другим требует невмешательства в их дела. В том же ключе, Джеффри Рейман заключает, что «разумным является требование ограничения собственных действий только теми, которые позволяют нам преследовать собственные интересы, максимально сообразуясь с интересами других. Мы признаем правоту морального императива уважения» [Reiman 1990 : 141–142], курсив автора). Несмотря на отсылку к неким «планам действий» в утверждении Бенна, оно не предполагает целенаправленного уведомления властей о самостоятельном действии или жизненных планах; как поясняет Бенн, подразумеваемое наличие у агентов того, что он называет «автаркией», способности к истинному выбору — условие, которое согласуется с гетерономией [Benn 1988 : Ch. 8, 9]. Таким образом, Бенн развивает либеральную теорию права, которая не предполагает наличия либеральной концепции благой или полезной жизни: даже дробильщики гальки имеют право на невмешательство. Аналогичные утверждения выдвигал Алан Гевирт в своей важной и в последнее время забытой работе «Разум и мораль» [Gewirth 1981]. Как и Бенн, Гевирт начинает с широкой концепции действования и утверждает, что при такой концепции индивиды обязаны требовать для себя и других основных прав на свободу и благополучие. И Бенн, и Гевирт, таким образом, разделяют общее положение, выводящее основные либеральные права из самой идеи этического действования. Гевирт, однако, ставит более радикальную цель: он утверждает, что природа рационального действования заставляет индивида выдвигать определенное благоразумное требование, которое позволяет ему выдвигать моральные требования к другим, а это требует обобщения. Моральное действование следует из рациональности. (Общая критика такого рода доводов приводится в [Williams 1985 : 55–64]). В отличие от этого, Бенн различает рациональное и моральное действования. Он полагает, что можно быть исключительно «естественным человеком», не предъявляющим моральных требований: психопаты, например, вполне могут располагать рациональной естественной личностью — являться рациональными агентами, добивающимися достижения своих целей — и, вместе с тем, быть обделенными моралью [Benn 1988 : 101–2]. Моральными будут те личности, которые рассматривают себя и других в терминах моральных отношений: именно так мы, на самом деле, и рассматриваем самих себя, и именно моральные личности признают основное право личности на невмешательство. Либерализм Канта II: от уважения к моральному договору и далее к либеральным правам Невзирая на различия между собой, и Бенн, и Гевирт ищут прямой путь от действования к либеральным правам: если мы понимаем, какого рода деятелями являемся, мы знаем, что обязаны требовать определенных либеральных прав и признавать таковые за другими. Напротив, направление, часто называемое «кантианским либерализмом», стремиться обосновать либеральные права посредством гипотетического договора, из которого основополагающие права затем выводятся. Как замечает наиболее известный критик кантианского, или деонотологического, либерализма Сандел «общество, которое состоит из множества лиц, каждое из которых имеет собственные устремления, интересы и представления о благе, лучше всего организуется, когда управляется принципами, которые сами по себе не предполагают никакой определенной концепции блага» [Sandel 1982 : 1–7]. Поскольку, согласно данной точке зрения, каждый сам выбирает свои жизненные цели, уважение к чужой личности требует воздержания от навязывания ей своих понятий о благой жизни. Уважение к каждой личности обеспечивают лишь такие принципы, которые могут быть оправданными перед каждым. Уважение, таким образом, требует оправдания особого вида, в соответствии с которым моральные принципы приемлемы для всех свободных моральных лиц в ситуации свободного выбора. Далее, посредством оправдания такого вида, выводятся либеральные принципы. «В соответствии с контрактуализмом, — пишет Томас Скенлон, — Когда мы обращаем свой ум к вопросам о правильном и неправильном, первое, что мы должны решить, — какие из принципов, если представится случай, не могут быть разумно отвергнуты никем» [Scanlon 1998 : 189; см. тж. Barry 1995]. (Обсуждение контрактуализма и Барри см. в Главе 30). Обратите внимание, что критерий Скенлона предполагает «разумное» отвержение, а не просто рациональное [Scanlon 1998 : 198]. По Скенлону, «различие между тем, как поступить разумно и как поступить рационально, не нечто особенное — оно существует и в обыденной речи» [Scanlon 1998 : 192]. Разумный человек не выдвигает требований, с которыми другие не смогут смириться, или совершенно нечестных требований. Похожая мысль есть у Роулза: стороны в его изначальной позиции «рациональны и разумны», а не просто рациональны: «Люди разумны ... если готовы предлагать в качестве справедливых условий кооперации принципы и нормы и добровольно следовать им, будучи убеждены, что и другие будут поступать так же» [Rawls :1996 : 48]. В отличие от гоббсовых участников договора, ролзовские стремятся уважать друг в друге свободных и равных моральных существ [Larmore 1996 : Ch. 6]. Кантовский контрактуализм должен учитывать ряд ограничений, ограничивающих рассмотрение только теми из оправданий, которые согласятся принять все разумные люди, и никто не захочет отвергнуть. Одни из способов такого учета — а-ля Ролз — ограничить ситуацию выбора так, что рациональные стороны вынуждены выдвигать только разумные требования. Природа ролзовских доводов за завесой неведения (исключающей некоторые знания о жизни и личности участника договора после его заключения) такова, что, с учетом данного ограничения выбора, самый рациональный выбор участника договора будет совпадать с вашим или моим разумным выбором. Однако, вместо того, чтобы учитывать изначально в понятии ситуации выбора наше понимание требования разумности, мы можем, как предлагает Скенлон, апеллировать напрямую к своей интуиции, связанной с разумностью в контракционистском анализе. Или же можно минимизировать такую апелляцию, разрабатывая более систематичную теорию оправдания и разумного отвержения (см. [Gaus 1996]). Плодотворным направлением развития кантианского либерализма является интеграция его наиболее откровенной версии, описанной выше, с котрактуалистической аргументацией [Reiman 1990; Gaus 1990 : Part II]. Некоторые из основополагающих моральных принципов могут напрямую выводиться из наших представлений о себе как моральных личностях (например, основополагающее право на невмешательство), в то время как другие моральные принципы (например, касающиеся определенных вариантов прав собственности и справедливости в распределении) могут оправдываться посредством котрактуалистической аргументации. Настолько, насколько кантианский контрактуализм предполагает предшествование определенных норм договору (например, норм разумности его принципов), допущение таких додоговорных норм полностью соответствует его подходу. Кантианский контрактуализм подводит к анализу «общей аргументации» (см. [D’Agostino 1996], ключевого для так называемого «политического либерализма» элемента. Черта, разделяющая кантианский контрактуализм и политический либерализм, столь же тонка и неопределенна, сколь и отделяющая «Теорию справедливости» и «Политический либерализм». Выводы Должно стать очевидным, что ярлык «всеобъемлющий» в применении к либерализму уводит в сторону: он объединяет все, что угодно, от по-настоящему всеобъемлющего либерализма (такого, как широкомасштабная светская философия) до кантианских либеральных теорий политической справедливости, которые, похоже, могут сочетаться с широким диапазоном представлений о ценности, общественном знании и самости. Определение того, с насколько широким кругом концепций личности может сочетаться, скажем, кантианский либерализм, было предметом жарких обсуждений в последнее десятилетие; в центре дебатов оказался как раз вопрос о том, насколько всеобъемлющим должен быть такой либерализм. В то время как как кантианский либерализм содержит ряд утверждений о природе действования и межличных правах, миллевский либерализм qua теория личностного развития, похоже, предполагает развитую теорию благой жизни, а qua утилитаристская теория привержен всеобщей теории блага и права. С другой стороны, понимаемый как просто подход к либерализму, покоящийся на принципе причинения вреда, миллевский либерализм вовсе не в большей степени всеобъемлющ, чем кантовский; он может оказаться даже менее всеобъемлющим, принимая моральный принцип, подлежащий тому, что Ролз назвал «перекрывающимся консенсусом» [Rawls 1996 : Lecture 4]. В общем и целом, скорее всего будет лучше отказаться от противопоставления «всеобъемлющего» и «политического» либерализма в пользу более тонких различений. Литература
|
| [email protected] | Московский Либертариум, 1994-2020 | |