 |
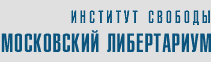 |
|
||
Судьбы Либерализматом 4 СУДЬБЫ ЛИБЕРАЛИЗМА Сборник эссе: австрийская экономическая теория и идеал свободы
Перевод с английского: Б.Пинскер
ОглавлениеИздательское предисловиеI. Собрание сочинений Ф.А. Хайека является результатом ощущения У.У. Бартли III, что огромная важность хайковской мысли не будет вполне воспринята без полного, заново упорядоченного и аннотированного издания его работ. Это издание является незапланированным результатом предложения Хайека передать в распоряжение Бартли все свои бумаги в случае, если он возьмется за составление биографии, на что Бартли и согласился. В ходе многих бесед -- о Поппере, о Витгенштейне, о Вене -- Хайек осознал, что Бартли приобрел уникальное понимание того, чем была Вена в годы его детства и молодости. Со своей стороны Бартли, ознакомившись с глубиной и охватом работ Хайека, осознал, что современные мыслители имеют в лучшем случае фрагментарное представление о его идеях, а в худшем -- просто их не знают. Так же как английские последователи Людвига Виттгенштейна мало знали о его жизни в Австрии, пока Бартли не написал о ней, так и английские и американские читатели Хайека мало знали о его ранних работах, написанных на немецком. Даже большинство экономистов перестали читать работы Хайека по экономической теории, и совершенно пренебрегали его идеями о теории восприятия и росте знания. При этом все его работы так или иначе взаимосвязаны с целым, и теперь, помещенные в исторический, теоретический и критический контекст -- благодаря плодотворному труду издателей -- собрание его работ представляет собой бесценный источник для образования в области, которая суть не что иное, как -- развитие современного мира. Этот новый сборник эссе -- "Судьбы либерализма. Сборник эссе: австрийская экономическая теория и идеал свободы" представляет собой 4 том собрания сочинений (и третий том по порядку выхода из печати). Особенный интерес представляет эссе "Экономическая теория 1920-х годов: взгляд из Вены", которое опубликовано здесь впервые, а также эссе "Новое открытие свободы: личные воспоминания", которое впервые публикуется на английском. Также впервые публикуется Приложение к главе 1, а впервые на английском выходят в свет главы 3 и 7, и разделы глав 4 и 6. За исключением двух текстов, все остальные главы были труднодоступны, и здесь собраны вместе впервые. II. Многое изменилось в мире с тех пор, как приступили к изданию этого собрания сочинений. Драматическое и символическое падение Берлинской стены было неизбежно в свете той критики социализма, которую осуществили Хайек, Мизес и их последователи. Теперь не приходится отрицать, что аргументы Хайека могут выступать в качестве пробного камня при новом исследовании эволюции расширенного порядка общества. Для специалиста по Хайеку, интересующегося изменением его представлений о подлежащей разрешению ключевой проблеме, содержащиеся в этом томе материалы о его учителях и коллегах будут весьма интересны. Кто-то будет поражен тем, что в 1926 году молодой Хайек писал (глава 3) о "самой важной экономической проблеме, о законах распределения дохода". Но уже тогда можно было почувствовать, что эти "законы" есть просто предгорья, за которыми угадывается многообразие неисследованных трудностей. Это похоже на то, как писал о себе Фридрих фон Визер, учитель Хайека: "Моей мечтой стало написать анонимную историю. Однако эта затея окончилась ничем. Самые очевидные социальные отношения проявляют себя в хозяйственной жизни -- это должно быть прояснено в первую очередь, прежде чем даже помыслить об измерении более глубоких отношений". Вопрос о месте истории в социальном развитии и о роли историков в выработке национального самосознания связывают все эссе этого тома. Подобно фигуре "ostinato" (привратника), эта тема возникает в самом начале эпохального спора Менгера с германской исторической школой -- Methodenstreit -- о том, возможно ли открытие законов истории, которые бы объясняли, предсказывали или определяли судьбу наций. Великой трагедией XX века были чудовища-близнецы, социальные бедствия нацистской Германии и советского коммунизма, которые доказали, что если история не "трескучая болтовня", как говаривал Генри Форд, "историцизм" есть не просто заблуждение, но опасное заблуждение. В конечном итоге ясно, что судьбы либерализма зависят от объективности историков -- к которым Хайек причислял всех исследователей социальных явлений -- от "возможности истории, которая была бы написана не ради прислуживания особым интересам". Как совместить "верховенство истины", выдвинутое Хайеком в качестве критерия для всех историков, с неопределенностью событий, которые приходится изучать экономистам, -- так можно сформулировать задачу. К тому же, как напоминает нам Хайек в эссе о Рёпке -- "экономист, являющийся только экономистом, не может быть хорошим экономистом". III. Этот том был составлен при печальных обстоятельствах. Инициатор издания собрания сочинений Ф.А. Хайека У.У. Бартли III скончался от рака в феврале 1990 года. Никто не может подготовиться к такой утрате. Но мы были готовы выполнить труд, который останется как свидетельство его прозорливости, настойчивости и интеллигентности. Среди всех тех, кто помог сохранить и продвинуть проект, я особенно признателен м-ру Уолтеру Моррису из фонда Веры и Уолтера Моррис. Как писал Бартли, он был гением-хранителем этого большого проекта, без советов и поддержки которого никогда не удалось бы ни организовать, ни запустить проект, и, добавлю я теперь, без его неустанных советов и сочувствия все это не удалось бы продолжить. Схожий долг признательности должен быть выражен, также, м-ру Джону Бланделлу из Института исследований человека. Я хотел бы также выразить мою благодарность м-с Пенелопе Кайзерлайан из издательства Чикагского университета и м-ру Питеру Соудену из Ратледжа -- не только за их приверженность изданию собрания сочинений, но также за терпение и понимание сложности этого предприятия; эти сложности не удалось бы разрешить, а книги не удалось бы издать без знаний и настойчивости помощника редактора м-с Жене Оптон. Нам повезло, что нашим переводчиком была д-р Грета Хейнц. Следует поблагодарить м-с Шарлотту Кубитт, м-с Лесли Грейвс и м-ра Эрика О'Киифи, а особенно м-ра Питера Клейна за то, что он был достаточно любопытен и энергичен, чтобы завершить с большой тщательностью кропотливую работу по изданию этого тома, а также за достаточную скромность, которая позволила ему не рассчитывать на иное вознаграждение добродетели, чем она сама. Наконец, проект не мог бы осуществиться без щедрой финансовой помощи организаций, названия которых напечатаны в начале этого тома, которым благодарны все участники издания. Поддержка этих спонсоров -- институтов и фондов с шести континентов -- свидетельствует не только о международном признании работ Хайека, но также являет пример расширенного порядка сотрудничества людей, о котором пишет Хайек. Стефен Крезге Примечание американского издателя Издатель в особенном долгу перед покойным У.У. Бартли III, которому принадлежит первоначальный план этого тома и большая часть необходимых предварительных исследований. Он также признателей д-ру Грете Хейнц за ее превосходные переводы; профессору Ральфу Райко из Буффальского колледжа университета штата Нью-Йорк, и м-ру Лейфу Венару из Гарвардского университета за помощь в работе над текстом; д-ру Дэвиду Гордону и анонимному читателю за ряд предложений по Предисловию; и м-с Лесли Грейвс за внимательное прочтение рукописи. Кроме того, издатель извлек огромную пользу от участия в научных конференциях по австрийской экономической школе, организованных следующими организациями: институтом Людвига фон Мизеса, университет Аусбурна; отделением экономической теории и отделением особых коллекций университета Дьюка; институтом гуманитарных исследований, университет Джорджа Мейсона; фондом экономического образования, Ирвингтон-он-Хадсон, Нью Йорк; колледжем Хиллсдейл, Мичиган. Он благодарен всем этим организациям за помощь, а в особенности признателен институту Мизеса за финансирование большей части его дорожных расходов. Наконец, он признателен м-с Джен Оптон за считывание рукописи перед публикацией и м-ру Стивену Крезге за разумное руководство и исключительное терпение. Никто из этих людей и организаций, естественно, не несет ответственности за сохранившиеся в тексте ошибки.
Питер Г.Клейн Хронологическая таблица содержания
Введение
"Может ли выжить капитализм?" -- спросил в 1942 году Йозеф Шумпетер. "Нет. Я не думаю, что может" [Joseph A. Schumpeter, Capitalism, Socialism and Democracy (New York: Harper & Brothers, 1942; third edition, 1950), p. 61]. Но капитализм выжил: спустя полвека мы присутствуем при саморазрушении социализма, при одновременном крушении идеала централизованного планирования и хозяйственных системы Восточной и Центральной Европы. Если из событий 1989 года и можно извлечь урок, то лишь один: возрождение либерализма в этой части мира представляет собой главным образом, если не целиком, возрождение капитализма -- то есть признание того, что только рыночный порядок может обеспечить уровень благосостояния, требуемого современной цивилизацией. Это хоть и не полностью понято, но широко признано. Роберт Хейлбронер, уж конечно не являющийся другом капитализма, пишет, что недавняя история "принуждает нас переосмыслить значение социализма. В качестве полурелигиозного видения преобразованного человечества он в 20 веке получил сокрушительные удары. В качестве проекта разумного планируемого общества он сокрушен полностью". ["Reflections After Communism", The New Yorker, September 10, 1990, pp. 91--100, esp. p. 98. Расширенный вариант статьи имеет название "Analysis and Vision in Modern Economic Thought", in the Journal of Economic Literature, vol. 28, September 1990, pp. 1097--1114] Ф.А. Хайека это бы не слишком изумило. Будучи экономистом "австрийской" школы, Хайек всегда понимал рынок не совсем так, как его современники, в том числе иначе, чем многие защитники капитализма. На протяжении большей части этого века "проблему экономики" видели в задаче распределения ресурсов, то есть в таком распределении производительных ресурсов, которое бы позволило удовлетворять конкурирующий и потенциально неограниченный спрос -- в принципе посторонний наблюдатель (либо -- центральный планировщик) вполне может вычислить решение этой задачи. Напротив, для Хайека и австрийской школы в целом экономическая теория имеет перед собой задачу координации планов, поскольку "очень сложный порядок" человеческого сотрудничества возникает из планов и решений изолированных индивидуумов, которые действуют в мире скрытого и разрозненного знания. В задачи экономической науки входит объяснение закономерностей явлений подобных ценам и производству, деньгам, процентным ставкам, колебаниям деловой активности и даже праву и языку, когда эти явления не являются частью чьего-то сознательного замысла. Только изучая социальный порядок с этой точки зрения мы можем узнать, почему рынки работают и почему усилия по созданию внерыночного общества обречены на провал. Хайек принадлежит к четвертому поколению австрийской школы экономической теории, к поколению диаспоры, которое разлетелось из Вены в Лондон и Чикаго, в Принстон и Кембридж, так что прилагательное "австрийский" имеет сейчас чисто историческое значение. Во время странствий по Англии и Соединенным Штатам Хайек сохранил большую часть наследства школы, основанной Карлом Менгером. С самого начала австрийская школа была известна резко своеобразным пониманием экономического порядка, часть которого была (до известной степени) включена в главное течение экономической мысли, а другие были отброшены и забыты. К первому можно отнести некогда революционную теорию ценности и обмена, выдвинутую Менгером в Grundsatze der Volkswirtschaftslehre публикация которой в 1871 году положила начало возникновению школы; к последним относится отрицание возможности экономических вычислений при социализме, развитое старшим коллегой и наставником Хайека Людвигом фон Мизесом, теория, ставшая основой современного австрийского толкования рынка как процесса обучения и открытия, а не равновесного состояния дел. Общепринятая классическая экономическая теория считала, что Мизес давным-давно был опровергнут моделями "рыночного социализма" Ланге и Тэйлора, а потому и не могла ничего сказать о жизнеспособности централизованного планирования. Австрийская школа была в другом положении. Представления Хайека о том, чем является рынок и как работает рыночный процесс привели его к выводу, что социализм представляет собой тяжкую ошибку -- если хотите, "пагубную самонадеянность". Исходя именно из такого понимания он и строил свою защиту либерального порядка. В таком духе и составлен этот том. В предлагаемых эссе Хайек пишет об австрийской экономической теории, где началась его интеллектуальная одиссея, и о судьбах либерализма, о социальной философии рыночного порядка, с которой былы тесно связаны его собственные работы. Первая часть содержит эссе и лекции о главных фигурах австрийской школы: о Карле Менгере, об учителях Хайека Фридрихе фон Визере и Людвиге фон Мизесе, о Иосифе Шумпетере (одна из ведущих фигур в экономической мысли 20 века, получивший образование в австрийской традиции, хотя и не принадлежащий к австрийской школе per se); о менее известных экономистах Эвальде Шамсе и Ричарде фон Стригле; о двух фигурах Венской интеллектуальной сцены, философах Эрнсте Махе и Людвиге Витгенштейне, двоюродном кузине Хайека. Во второй части собраны работы о новом открытии свободы в послевоенной Европе, с особенным выделением Германии и международного общества Монт Перелин, влиятельной либеральной организации, созданной Хайеком в 1947 году. В обеих частях затронута тема, пронизывающая все работы Хайека по социальному порядку: роль идей -- и особенно экономической теории -- в сохранении либерального общества. В оставшейся части этого Введения я очерчу карьеру Хайека и попытаюсь понять место его идей в исторической и теоретической перспективе. Прежде чем продолжить, нужно сделать одно терминологическое замечание. Хайек использует слово "либерализм" в его классическом, европейском значении, для обозначения социального порядка, основанного на свободных рынках, на правительстве, ограниченном властью законов, и на приоритете личной свободы. Как он объясняет во Предисловии к первому (1956) массовому изданию его классической работы Путь к рабству: "Я использую термин "либеральный" в его исходном значении, как оно использовалось в XIX веке и до сих пор используется в Британии. В современном американском употреблении оно обозначает нечто вполне противоположное. В результате маскировки левацких движений в этой стране, которой помогла тупость многих из тех, кто действительно верил в свободу, "либеральный" стало означать защиту почти всех видов правительственного контроля. Я до сих пор недоумеваю, почему в Соединенных штатах истинные сторонники свободы не только позволили левым присвоить этот почти незаменимый термин, но даже сами им в этом помогли, начавши использовать его как позорное клеймо." [F.A.Hayek, The Road to Serfdom (London: Routledge & Kegan Paul; Chicago: University of Chicago Press, 1944; reprinted, 1976), p. ix]. Мы подчинимся этой критике и будем использовать "либеральный" вместе менее элегантных "классический либерализм" или "либертарианизм", вошедших в употребление в Соединенных Штатах. Хайек пришел в Венский университет в возрасте 19 лет, сразу после окончания первой мировой войны, когда он был одним из трех лучших мест мира для изучения экономической теории (два других были Стокгольм и Кембридж. Англия). Хотя он записался на изучение права, его в первую очередь интересовали экономическая теория и психология; последняя из-за влияния Махистской теории восприятия на Визера и его коллегу Отмара Шпана, а первая -- в силу реформистского идеала фабианского социализма, столь типичного для поколения Хайека. Подобно многим другим студентам экономики -- и тогда и потом -- Хайек выбрал этот предмет не ради его самого, но из желания улучшить мир, а в послевоенной Вене нищета ежедневно напоминала о необходимости этого. Социализм казался подходящим решением; но в 1922 году Мизес, который не был штатным преподавателем университета, но был при этом центральной фигурой в общине экономистов-теоретиков, опубликовал свою работу Die Gemeinwirtschaft, позднее переведенную как Социализм. "Ни для одного из прочитываших эту книгу молодых людей, -- вспоминает Хайек, -- мир не остался прежним". Трактат Социализм, углубивший идеи пионерской статьи, опубликованной двумя годами раньше, доказывал, что экономические вычисления возможны только при существовании рынка средств производства; без такого рынка нет возможности установить ценность этих средств, а значит, нельзя определить подходящий способ их использования в производстве. От Мизеса, который непродолжительное время был начальником Хайека во временном правительственном учреждении, в его частном семинаре, постоянным участником которого стал Хайек, последний усвоил представлении о превосходстве рыночного порядка. В своей предыдущей работе по теории денег и банковского дела Мизес успешно применил австрийский принцип предельного полезности к анализу ценности денег и, используя английскую валютную школу и идеи шведского экономиста Кнута Викселя, набросал теорию колебаний промышленной активности. Используя эти результаты как отправную точку для собственных исследований промышленной активности, Хайек объяснил деловой цикл в терминах кредитной экспансии банков. Работа в этой области принесла ему приглашение читать лекции в Лондонской школе экономической теории и политических наук, а затем и к приглашению принять кафедру экономической теории и статистики им. Тука, которое он и принял в 1931 году. Здесь он попал в весьма вдохновляющую и увлеченную работой группу, к которой принадлежали: Лайонел Роббинс (позднее Лорд Роббинс), Арнольд Плант, Т.Е. Грегори, Денис Робертсон, Джон Хикс и молодой Абба Лернер. Хайек принес с собой незнакомые (для них) взгляды [Хикс говорит о первой (1931) английской книге Хайека, что ""Цены и производство" были написаны на английском, но это не была английская экономическая теория"; Sir John Hicks, "The Hayek Story", in his Critical Essays in Monetary Theory (Oxford: Clarendon Press, 1967), p. 204] и постепенно австрийская теория делового цикла стала известна и была принята. Но в следующие несколько лет удача отвернулась от австрийской школы. Во-первых, австрийская теория капитала, составная часть теории делового цикла, попала под атаку рожденного в Италии кембриджского экономиста Пъера Сраффы и американца Френка Найта, а саму теорию цикла забыли из-за энтузиазма, возникшего по поводу Общей теории Джона Мейнарда Кейнса. Во-вторых, начиная с перемещения в Лондон самого Хайека и до начала 1940-х годов австрийские экономисты один за другим покинули Вену, сначала по личным, а затем по политическим причинам, так что школа как таковая прекратила существование. В 1934 году Мизес уехал из Вены сначала в Женеву, а затем в Нью Йорк, где он продолжил работать в изоляции; Хайек оставался в Лондоской школе экономической теории до 1950 года, а затем перебрался в Комитет по социальной мысли в Чикагском университете. Другие австрийские экономисты поколения Хайека достигли признания в Соединенных Штатах -- Готтфрид Хаберлер в Гарварде, Фриц Махлуп и Оскар Моргенштерн в Принстоне, Пауль Розенштей-Родан в Массачусетском институте технологии -- но в их работах, казалось, не осталось и следов Менгеровской традиции. В Чикаго Хайек опять попал в ослепительную группу: экономическое отделение, где тон задавали Найт, Якоб Винер, Милтон Фридман, а позднее и Джордж Стиглер было бы лучшим где угодно; Аарон Директор в школе права вскоре основал первую программу по экономической теории и праву; деятельное участие в преподавании принимали такие международно известные ученые, как Ханна Арендт и Бруно Беттельхейм. Но экономическая теория, в особенности стиль рассуждений, быстро изменялись: в 1949 году появились Основы Поля Самуэльсона, и утвердили физику как методологический образец для экономической теории; в 1953 году эссе Фридмана о "позитивной экономической теории" установило новый стандарт для экономических методов. К тому же Хайек перестал работать над экономической теорией, сконцентрировавшись на психологии, философии и политической теории, и австрийская экономическая теория вошла в период продолжительного упадка. В этот период два молодых человека, работавших вместе с Мизесом в Нью-йоркском университете, опубликовали важные работы в австрийской традиции: Мюррей Ротбард опубликовал в 1962 году Man, Economy and State, а Израиль Кирцнер в 1973 году -- Competition and Enterpreneurship. Но большей частью австрийская традиция пребывала в забвении. В 1974 году случилось нечто поразительное: Хайек получил Нобелевскую премию по экономике. Благодаря престижу этой премии интерес к австрийской школе возродился; в силу совпадения, в том же году ряд изолированных ученых, продолжавших работать в традициях австрийской школы, собрались на достопамятную конференцию в Южном Роялтоне, Вермонт.[Материалы конференции были опубликованы: The Foundations of Modern Austrian Economics, ed. Edwin Dolan (Kansas City: Sheed & Ward,1976). Двумя годами позже появился следующий том: New Directions in Austrian Economics, ed. Louis M. Spadaro (Kansas City: Sheed Andrews & Mcmeel, 1978).] Отсюда началось "австрийское возрождение" с всевозрастающим потоком книг, журналов и даже университетских программ, специализирующихся на традиции Менгера. Остальные экономисты также начали постепенно обращать внимание на австрийскую экономическую школу. Современная австрийская школа начинает оказывать влияние в таких областях, как теория банковского дела, реклама и ее взаимосвязь со структурой рынка, новое истолкование дебатов об экономических вычислениях при социализме [например: Lawrence H. White, Free Banking in Britain: Theory, Experience, and Debate, 1800--1845 (Cambridge: Cambridge University Press, 1984); George A. Selgin, The Theory of Free Banking: Money Supply Under Competitive Note Issue (Totowa, N. J.: Rowman & Littlefield, 1988); Robert B. Ekelund, Jr., and David S. Saurman, Advertising and the Market Process (San Francisco: Pacific Institute for Public Policy Research, 1988); Don Lavoie, Rivalry and Central Planning: The Socialist Calculation Debate Reconsidered (Cambridge: Cambridge University Press, 1985)]; более того, появившаяся примерно в последние 15 лет об экономической теории систем, работающих в условиях неполноты информации, и о теории стимулов может рассматриваться как результат работ Хайека о распыленном знании и ценах как информационных сигналах -- хотя об этом долге признательности часто забывают. [См., например, отрывки из словаря New Palgrave, опубликованные под названием Allocation, Information and Markets (London: Macmillan, 1989). Примечательно, что в расширяющихся макроэкономических публикациях о "срывах координации", начало которым положили теоретики Питер Дайамонд и Мартин Вейтцман нет ссылок на Хайека, хотя он в своих работах явно обсуждает проблему координации (см. Gerald O'Driscoll, Economics as a coordination problem: The Contributions of Friedrich A. Hayek (Kansas City: Sheed Andrews & Mcmeel, 1977). Обзор этой литературы см. у Russell Cooper and Andrew John, "Coordinating Coordination Failures in Keynesian Models", Quarterly Journal of Economics, vol. 103, August 1989, pp. 441--463.] Для интереса современных экономистов к Хайеку есть и другая причина. Сегодня анализ рынка как механизма, порождающего благосостояние, идет в форме дискуссии между двумя сторонами: защитниками свободных рынков являются экономисты "новой классической школы", исходящие из предположений о сверхрациональном поведении участников рынка, вооруженных "рациональными ожиданиями" и о мгновенном клиринге рынков; и скептиками, которых относят к той или иной разновидности "кейнсианства", которые рассматривают ожидания как более проблематичные и считают, что ценовое приспособление происходит медленно. В полную противоположность этому Хайек основывает защиту рынков не на рациональности людей, но на их неосведомленности! "Все аргументы пользу свободы, или большая часть таких аргументов, покоится на факте нашей неосведомленности, а не на факте нашего знания" [из замечаний Хайека на конференции, организованной Конгрессом за свободы культуры, опубликованных как Science and Freedom (London: Martin Secker & Warburg, 1955), p. 53]. В понимании Хайека рыночные агенты следуют установленным правилам, отвечают на ценовые сигналы в рамках системы, возникшей в результате эволюции -- в рамках спонтанно возникшего, а не сознательно выбранного порядка; при этом их действия приносят системе в целом непредусмотренные выгоды, которые невозможно было разумно предвидеть. Для современного экономиста, для которого эволюция и спонтанность почти совсем не важны, это звучит странно. [Истолкование экономического поведения как "рутинного" или механического, развитое Ричардом Нельсоном и Сиднеем Винтером в их Evolutionary Theory of Economic Change (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1982) имеет некоторое отношение к идее Хайека о следовании правилам. Так же верно и то, что развиваемая современной теорией игр концепция равновесия частично отражает вышеупомянутую идею "координации планов", в смысле подискания наборов взаимно согласующихся "стратегий", а также в том отношении, что теория повторяющихся игр позволяет многое понять в эволюции поведения, ориентированного на сотрудничество. Теория игр, однако, не объясняет, как осуществляется отбор правил сотрудничества; она показывает только, что стратегии, в основе которых устойчивое сотрудничество, могут быть наилучшими для всех способами поведения. Смотри об этом Robert Axelrod, The Evolution of Cooperation (New York: Basic Books, 1984). На ту же тему публикация с элементами австрийской традиции: Bruce L. Benson, The Enterprise od Law: Justice Without the State (San Francisco: Pacific Institute for Public Policy Research, 1990).] Подход Хайека отличается от принятого у новых классических экономистов и в другом отношении: он шире, он интегрирует экономическую теорию в широкую социальную философию, в нем намечены политические, правовые и моральные аспекты социального порядка. Новые классики, напротив, чистые теоретики и не приобрели широкой поддержки. Леонард Реппинг, один из первых экономистов "рациональных ожиданий", отмечает, что "многих молодых и идеалистов привлекают концепции свободы и справедливости, а не эффективности и изобилия. Помимо своего вклада в экономическую теорию, Фридман и Хайек создали мощную систему защиты капитализма как системы, способствующей либеральной демократии и личной свободе. Это привлекло к их идеям многих людей, далеких от экономической теории. У новых классиков нет такой повестки дня". [Цитирую по рецензии Kevin D. Hoover, The New Classical Macroeconomics: A Sceptical Inquiry (New York and Oxford: Basil Blackwell, 1988) in the Journal of Economic Literature, vol. 28, March 1990, pp. 71--73, esp. p. 73.] И в самом деле, последователи австрийской традиции нередко обладают широкими интересами, и междисциплинарный характер этой традиции делает ее привлекательной. Ясно, что возрождение австрийской традиции обязано Хайеку не меньше, чем кому бы то ни было другому. Но являются ли его работы действительно "австрийской экономической теорией" -- частью отдельной, узнаваемой традиции -- или их следует рассматривать как оригинальный, глубоко личный вклад? [Хайек и другие рассматривали работы Визера как его личный вклад. Противоположную точку зрения смотри у Robert B. Ekelund, Jr., "Wieser's Social Economics: A Link to Modern Austrian Theory?", Austrian Economics Newsletter, vol. 6, Fall 1986, pp. 1--2, 4, 9--11.] Некоторые наблюдатели обвиняют, что поздние работы Хайека, особенно когда он начал отходить от чисто технических аспектов экономической теории, показывают большее влияние его друга сэра Карла Поппера, чем Менгера или Мизеса; один критик даже говорит о "Хайеке 1" и "Хайеке 11", а другой пишет о "преображении Хайека". [О Хайеке 1 и Хайеке 11 см. T.W. Hutchinson, "Austrians on Philosophy and Method (since Menger)", in his The Politics and Philosophy of Economics: Marxians, Keynesians, and Austrians (New York and London: New York University Press, 1984), pp. 203--232, esp. pp. 210--219; о "преображении" см. Bruce J. Caldwell, "Hayek's Transformation", History of Political Economy, vol. 20, no. 4, 1988, pp. 513--541.] Хотя до известной степени это вопрос о ярлыках, здесь есть и некоторые существенные моменты. Один таков: полезно ли вообще различать школы. Сам Хайек двойственен по этом вопросу. В первой главе этого тома, написанной в 1968 году для Международной энциклопедии социальных наук, он следующим образом характеризует собственной поколение австрийской школы: Но если по стилю своего мышления и по направленности интересов это четвертое поколение все еще отчетливо проявляет свою принадлежность к Венской традиции, этих людей уже нельзя рассматривать как отдельную школу, в смысле принадлежности к определенной доктрине. Величайшим успехом школы является ситуация, когда она перестает существовать, потому что основные ее идеалы становятся частью общего господствующего учения. На долю Венской школы выпал как раз такой успех. [Существенно, что те неоклассические теоретики, которые видят смысл австрийских работах, также склонны утверждать, что они говорят то же, что и все остальные, но другим языком (имея в виду, что австрийцы обычно избегают использовать математизированный язык). Сам Мизес в следующем примечательном высказывании однажды заявил почти то же самое: "Обычно мы говорим об австрийской и англо-американских школах (следующих Вильяму Стенли Джевонсу) и Лозанской школе (следующей Леону Вальрасу) ... <но фактически> эти три школы различаются только способом выражения одних и тех же фундаментальных идей и их разделяют в большей степени терминология и способ изложения, чем существо доктрин". Mises, Epistemological Problems of Economics (New York and London: New York University Press, 1981), p. 214. (Впервые опубликовано в 1933 году.) Позднее Мизес отказался от такого понимания, так же как недавние исследователи ""маржиналистской революции "Менгера--Джевонса--Вальраса"". См. в этом томе главы 1 и 2.] Но похоже, что к середине 80-х годов он изменил мнение, и в своих текстах вполне определенно утверждал существование австрийской школы, работал, главным образом, в оппозиции к кейнсианской макроэкономике, которая сохраняется поныне [см. Приложение к главе 1]. Современные члены австрийской школы также не едины в этом вопросе: некоторые отчетливо сознают свою принадлежность к традиции, которую воспринимают как символ чести, а другие избегают каких-либо классификаций, придерживаясь фразы, что "нет никакой австрийской экономической теории", есть только плохая и хорошая теория. Трудно сказать, в какой степени это вопрос глубоких убеждений, а в какой просто способ убедить остальных, что нужно относиться серьезно к австрийской традиции. Особый интерес, однако, представляет характер отношений между Хайеком и Мизесом. Бесспорно, ни один экономист не оказал большего влияния на мышление Хайека, чем Мизес -- даже Визер, у которого Хайек обучался в университете, но который умер в 1927 году, когда Хайек был еще очень молод; и собственные слова Хайека делают это вполне ясным (глава 4). К тому же, Мизес явно выделял Хайека как самого яркого в своем поколении: Маргит фон Мизес вспоминает о семинаре ее мужа в Нью-Йорке, что "Лю встречал каждого нового студента с надеждой, что из него получится второй Хайек" [Margit von Mises, My Years with Ludwig von Mises, second enlarged edition (Cedar Falls, Iowa: Center for Futures Education, 1984), p. 133]. Однако, как напоминает Хайек, он с самого начала не был вполне последователем: "Хотя я получил <от Мизеса> решающий стимул в критический момент моего интеллектуального развития, а также постоянную поддержку в течении десятилетия, возможно, что я сумел так много получить от него как раз потому, что не был его студентом в университете, не был тем невинным юношей, который бы принимал его слова как откровение, но пришел к нему уже подготовленным экономистом, получившим подготовку в параллельной ветви австрийской экономической теории (в школе Визера), откуда я под его влиянием постепенно, но не до конца, ушел" [из лекции в колледже Хиллсдейл, Мичиган, 8 ноября 1977 года, опубликована под названием "A Coping with Ignorance", in Imprimis, vol. 7, no. 7, July 1978, pp. 1--6, and reprinted in Champions of Freedom (Hillsdale, Mich.: Hillsdale College Press, 1979)]. Есть две часто обсуждаемые области несогласия между Хайеком и Мизесом: дискуссия об экономических вычислениях при социализме и "априорная" методология Мизеса. Вопрос о социализме заключается в следующем: действительно ли социалистическое хозяйство "невозможно", как заявил Мизес в 1920 году, или оно просто менее эффективно и трудно реализуемо. Хайек теперь утверждает, что "никогда центральным утверждением Мизеса не было, как это порой ошибочно формулируют, что социализм невозможен, но что он не может обеспечить эффективного использования ресурсов". Такое истолкование само по себе спорно. Хайек здесь выступает против стандартного взгляда на экономические вычисления, как, например, у Шумпетера в книге Капитализм, социализм и демократия или у А. Бергсона в "Социалистическая экономическая теория" [Schumpeter, op.cit., pp. 172--186; Bergson, in Howard S. Ellis, ed., A Survey of Contemporary Economics, vol. 1 (Homewood, Ill.: Richard D. Irwin, 1948)]. Согласно этому взгляду, исходное утверждение Мизеса о невозможности вычислений при социализме было опровергнуто Оскаром Ланге, Аббой Лернером и Фредом Тейлором, а позднейшая модификация этого утверждения Хайеком и Роббинсом сводится к тому, что социалистическое хозяйство возможно в теории, но трудно реализуемо, потому что знание децентрализовано, а стимулы слабы. Ответ Хайека в процитированном выше тексте, что действительную позицию Мизеса поняли неверно, получил поддержку у ревизионистского историка дискуссии о возможности вычислений при социализме -- у Дон Лавоя, который утверждает, что "центральные аргументы, усовершенствованные Хайеком и Роббинсом, представляют собой не отход от позиций Мизеса, но, скорее, ее прояснение, ориентированное на позднейшие версии центрального планирования. ... Хотя комментарии Хайека и Роббинса о трудностях вычисления <в позднейших версиях> вызвали неверное понимание их аргументов, в главном они остались вполне в рамках первоначальной логики Мизеса" [Lavoie, op.cit., p. 21]. Израель Кирцнер сходным образом утверждает, что позиции Мизеса и Хайека следует рассматривать совместно, как раннюю попытку разработать в рамках австрийской традиции подход к рыночному процессу как к "предпринимательству-открытию". [Israel M. Kirzner, "The Socialist Calculation Debate: Lessons for Austrians", Review of Austrian Economics, vol. 2, 1988, pp. 1--18. См. также недавнюю работу Джозефа Т. Салерно, выступающего, напротив, за противоположное понимание -- что первоначально сформулированная Мизесом проблема вычислений отлична от проблемы процесса открытия, акцентируемого Лавойем и Кирцнером. Joseph T. Salerno, "Ludwig von Mises as Social Rationalist", ibid., vol. 4, 1990, pp. 26--54.] Во-вторых, существует утверждение Мизеса, что экономической теории (в отличие от истории) присущ чисто дедуктивный характер, что она является исключительно априорной наукой, не требующей эмпирического подтверждения своим выводам. Ясно, что Хайеку было нелегко принять эту позицию, и временами он доказывал, что позиция Мизеса на деле более умеренная, а порой он просто дистанцировался от своего наставника. Во вторичной литературе можно встретить обсуждение вопроса, представляла собой или нет опубликованная в 1937 году плодотворная статья Хайека "Экономическая теория и знание" решительный отход от Мизеса в пользу "фальсификационного" подхода Поппера, в соответствии с которым эмпирические свидетельства могут быть использованы для того, чтобы фальсифицировать теорию (но не для того, чтобы с помощью индукции верифицировать ее). [В пользу того, что 1937 год был и на самом деле ключевым поворотным моментом смотри Хатчинсона (op. cit., p. 215) и Колдуэлла (op. cit., p. 528); обратную точку зрения см. и John Gray, Hayek on Liberty (second edition, Oxford: Basil Blackwell, 1986), pp. 16--21, and Roger W. Garrison and Israel M. Kirzner, "Hayek, Friedrich August von", in The New Palgrave: A Dictionary of Economics (London: Macmillan, 1987), vol. 2, pp. 609--614, esp. p. 610. Сам Хайек в недавних интервью с У.У. Бартли III подтвердил первое истолкование, заявив, что статьей 1937 года он хотел убедить в первую очередь самого Мизеса. Если это так, попытка Хайека оказалась поразительно вкрадчивой: Мизес приветствовал эти аргументы, не отдавая отчета, что они направлены против него.] Эта статья утверждает, что в то время как экономический анализ индивидуального действия может быть строго априорным, изучение межличностного обмена требует эмпирических предположений о процессе обучения и о передаче знания. Сам Хайек сообщает, что начиная с 1937 года "данный автор, сначала почти не отдававший себе отчета, что он просто развивает заброшенную часть менгеровской традиции, утверждал -- <оспаривая "крайний априоризм" Мизеса> -- что хотя и в самом деле чистая логика выбора, с помощью которой австрийская теория истолковывает индивидуальные действия, является чисто дедуктивной, но как только объяснению подпадает межличностная активность рынка, решающими оказываются процессы перемещения информации между людьми, то есть чисто эмпирические явления (Мизес никогда так и не ответил на эту критику, но уже не был готов перестраивать вполне завершенную к этому времени систему)". Также верно и то, что Хайек впервые познакомился с работами Поппера в начале 30-х годов, и что уже в 1941 году он демонстрировал отход от позиции Мизеса. [Брюс Колдуэлл описывает рецензию Хайека на magnum opus Мизеса, воспроизводимую в главе 4 этого тома, как "сокровенную", отмечая при этом вялость его похвал. "По сравнению с тем, что говорили о Действии человека другие, рецензия Хайека крайне хвалебна. Она выглядит вялой, когда мы вспоминаем об особых отношениях Хайека с Мизесом". Caldwell, op. cit., p. 529.] Влияние Поппера начинает сказываться, как только интересы Хайека сдвигаются от теории ценности к теории знания; есть предположения, что Хайековская критика центрального планирования частично связана с попперовской идеей непредсказуемых последствий теории -- попытка планирования оканчивается неудачей, потому что мы не можем заранее знать все последствия знания, которым мы уже располагаем [об этом смотри W.W. Bartley III, Unfathomed Knowledge, Unmeasured Wealth (LaSalle, Ill.: Open Court, 1990)]. Следует также отметить, что позднейшее акцентирование Хайеком эволюции и спонтанного порядка не разделялось Мизесом, но у Менгера встречались элементы продвижения в этом направлении. Ключом к этому различию может быть утверждение Хайека, что "Мизес был в гораздо большей степени наследником рационалистической традиции просвещения и континентального либерализма, чем английского ... в отличие от меня" ["Coping with Ignorance", op. cit.]. У Хайека часты ссылки на два типа либерализма: континентальный либерализм или утилитаристская традиция, которая подчеркивает рациональность и способность человека изменять свое окружение, и английская традиция обычного права, которая акцентирует спонтанные силы эволюции и ограниченность разума. Как писал Хайек в 1978 году, через пять лет после смерти Мизеса: Одно из моих различий с Мизесом касается основного философского утверждения, которое меня всегда смущало. Но только сейчас я в состоянии сформулировать природу этих проблем. Мизес утверждает в этом отрывке, что либерализм "рассматривает все виды общественного сотрудничества как воплощение разумного стремления к полезности, где общественное мнение является источником всякой власти, а потому не возможны действия, способные помешать свободному принятию решений мыслящим человеком". Сегодня я полагаю, что неверна только первая часть этого утверждения. Крайний рационализм этого утверждения, которого он не мог избежать как истинное дитя своего времени, и с которым он, возможно, так и не расстался, теперь мне представляется совершенным заблуждением. Бесспорно, что рыночная экономика стала преобладающей формой не в силу разумного понимания ее выгод. Мне представляется, что основное в учении Мизеса это демонстрация того, что мы приняли свободу не потому, что осознали ее благодетельность; что мы "не изобрели и, конечно же, не были достаточно умны, чтобы изобрести тот строй жизни, который только сейчас начали слегка понимать... Человек выбрал его только в том смысле, что он научился предпочитать нечто уже существовавшее, а по мере улучшения понимания, он смог и усовершенствовать условия деятельности. Хайек опасается, что "крайний рационализм" континентального подхода ведет к тому, что он называет "ошибкой конструктивизма" -- к представлению, что никакой социальный институт не может быть благотворен, если он не является результатом сознательного проекта. Ему представляется, что именно это составляет основу социалистического понимания: поскольку рынки никем не созданы, сознательно созданная искусственная система, навязанная, как водится, сверху, сможет функционировать лучше, чем естественная и децентрализованная. [Интересно, что большая часть современной экономической теории благосостояния проникнута последовательным "конструктивизмом"; сначала они изобретают оптимальное "плановое" решение экономических проблем, а затем пытаются выяснить, смогут ли рынки оказаться столь же эффективными, как благонамеренный диктатор.] В результате современная австрийская школа вполне могла расколоться на противостоящие лагеря: "твердых мизесовцев", являющихся "социальными рационалистами" и "крайними априористами", и "хайековцами", которые подчеркивают спонтанность социального порядка и ограничения рациональности. (Существует также и третья группа "радикальных субъективистов", которые следуют за Д.Л.С. Шаклем и Людвигом Лахманном, и отрицают возможность какого бы то ни было экономического порядка.) Различия между группами сохраняются, и природа взаимоотношений между Мизесом и Хайеком так до конца и не понята. Остается добавить, что в будущем посмотрим, как все это повлияет в будущем на жизнеспособность школы 1871 год, когда Менгер опубликовал свою Grundsatze и была рождена австрийская школа, примечателен и другим: в этом году Бисмарк создал германский рейх. Хайека глубоко интересовала судьба Германии после второй мировой войны; он был убежден, что перспективы возрождения либерализма в международном масштабе решающим образом зависят от восстановления интеллектуальной жизни в Германии. Расположенные во II части тома эссе посвящены как раз этим вопросам. Хайек был убежден в необходимости международной научной организации либералов, и ради этого в 1947 году он организовал конференцию, которая заложила основы общества Монт Перелин. Частично его озабоченность объясняется той ролью, которую играли экономисты во время войны. Впервые в истории, профессиональные экономисты в целом вошли в состав правительственных планирующих организаций: контролировать цены, как это делало в Соединенных Штатах Управление по ценам, возглавлявшееся Леоном Хендерсоном, а потом -- Джоном Кеннетом Гелбрейтом; либо -- изучать военные поставки (позднее стало известно как "исследование операций"), чем занималась группа статистических исследований Колумбийского университета; либо -- оказывать всевозможные консультационные услуги. Все это было совершенно беспрецедентно и очень встревожило либералов. (Хайек хотя и получил Британское гражданство, не был, как австриец по рождению, допущен к соответствующим работам). Интеллектуальный климат этого периода легко представить по реакции экономистов на решение министра Людвига Эрхарда освободить цены и заработную плату в только что созданной Западной Германии. Гелбрейт в 1948 году уверял коллег, что "нет ни малейшей возможности обеспечить восстановление Германии с помощью полной отмены <контроля и регулирования>". Уолтер Геллер, позднее ставший председателем Совета экономических экспертов при Джоне Ф. Кеннеди, двумя годами позже добавил, что "позитивное использование <поддерживаемых мною> мер фискальной и денежной политики не гармонируют, строго говоря, с ортодоксальной политикой свободных рынков, которую выбрала нынешняя администрация Федеративной Германской республики". [John Kenneth Galbraith, "The German Economy", in Seymour E. Harris, ed., Foreign Economic Policy for the United States (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1948); Walter Heller, "The Role of Fiscal-Monetary Policy in German Economic Recovery", American Economic Review, vol. 40, May 1950, pp. 531--547. Эти и ряд сходных фактов можно найти у T.W. Hutchinson, "Walter Eucken and the German Social Market Economy", in his The Politics and Philosophy of Economics, op. cit., pp. 155--175.] Хайек приводит воспоминания самого Эрхарда: "Он сам с ликованием рассказывал мне, как в то самое воскресенье, когда должен был быть опубликован знаменитый декрет об освобождении цен и введении новой немецкой марки, командующий американскими войсками в Германии генерал Клэй позвонил ему по телефону и сказал: "Профессор Эрхард, мои советники утверждают, что вы делаете грандиозную ошибку", -- на что, по его собственным словам, Эрхард ответил: "Мои говорят точно то же самое"." [Нынешний интеллектуальный климат совсем не таков. См. Amity Shales, "Germany needs Another Erhard", The Wall Street Journal, April 13, 1991, p. A18.] Для противодействия всему этому Хайек собрал на первую встречу в Монт Перелин замечательную группу либералов, большей частью людей, работавших в изоляции. Группа включала международно известных ученых в области экономической теории, политологии, философии (четверо из экономистов, участвовавших в этой первой встрече, позднее были удостоены Нобелевской премии); двое из участников -- Вальтер Эйкен и Вильгельм Рёпке -- были одними из главных архитекторов послевоенного немецкого экономического чуда. Задачей Хайека было создать условия для процветания либеральных тенденций в науке в надежде на то, что это привлечет общественное мнение. "Ведь распространенная иллюзия, что свобода может быть предоставлена сверху, представляет собой действительную проблему, -- замечает он, -- Необходимо понимание, что должны быть созданы условия, которые бы позволяли людям творить собственную судьбу." Влияние Хайека оказалось глубоким и длительным: созданное им общество по-прежнему существует, а кроме этого были основаны и другие организации со схожими целями, особенно после начала возрождения австрийской школы. К этим организациям принадлежат институт экономических дел в Лондоне; институт исследований человека в университете Джорджа Мейсона, Фэрфакс, Виргиния; институт Катона в Вашингтоне, округ Колумбия; институт Людвига фон Мизеса в университет Аубурна, Алабама. Все эти группы внесли решающий вклад в возрождение либеральной мысли в Соединенных Штатах и в Европе. Нам не нужно другого доказательства либерального возрождения, чем включения бывшей Восточной Германии в 1989 году в состав Западной Германии; для Восточной Германии это было "новым открытием свободы", то, возникновению чего за 40 лет до этого в Западной Германии помог Хайек. И хотя было бы дерзостью называть Хайека пророком, главы 8, 10 и 11 содержат немало высказываний о природе немцев и германского народа, которые верны и поныне. Как-то Хайек с одобрением процитировал знаменитый пассаж из Общей теории Кейнса о влиянии абстрактных идей на реальный ходе дел. "И верные и ошибочные идеи экономистов и политических философов гораздо могущественнее, чем принято думать. На деле мир подчиняется почти исключительно им." [John Maynard Keynes, The General Theory of Employment, Interest and Money (London: Macmillan, 1936), p. 383.] Собранные в этом томе тексты Хайека немало делают для подтверждения этой истины. Питер Д. Клейн Часть первая
Пролог. Экономическая теория 1920-х годов: взгляд из Вены
Этот прежде не публиковавшийся текст представляет собой одну из 5 лекций, прочитанных Хайеком в Чикагском университете в октябре 1963 г. Спонсором этого цикла лекций был фонд Чарльза Уолгрина (Charles O.Walgreen). Следует отметить, что Хайек намеревался переработать текст этой лекции для публикации, но не смог этого сделать. Здесь она воспроизводится в первоначальном виде. -- амер. изд. Хотя мне кажется, что организаторы этой лекции ждали, что я пущусь в воспоминания, до сих пор я пытался избежать этого. Это опасная привычка, и непонятно, где кончить, когда обнаруживаешь, что для большей части аудитории то, о чем вспоминает лектор, есть вещи неизвестные и неинтересные. В прошлом я сам не очень-то любил этот жанр, и сейчас даже сожалею, что при моем первом посещении этой страны 40 лет назад не проявил достаточной интеллигентности и не выслушал старого биржевого брокера, который хотел рассказать мне о кризисе 1873 года. Хоть я и занимался тогда деловыми циклами, мне показалось скучным слушать его. Не очень ясно, почему бы вы должны оказаться более терпеливыми, чем я когда-то, тем более что из собственного опыта мне известно, что стоит лишь начать, и посыпятся всевозможные обрывки воспоминаний, бросающие свет скорее на суетность рассказчика, чем на предметы, представляющие общий интерес. С другой стороны, как исследователь истории экономической мысли я потратил немало сил, пытаясь воссоздать интеллектуальную атмосферу прежних дискуссий, мечтая при этом о том, чтобы участники этих дискуссий оставляли бы свидетельства о своих отношений с современниками, и чтобы это делалось в том возрасте, когда такие воспоминания еще относительно надежны. Теперь, стоя перед вами с намерением исполнить как раз эту задачу, я хорошо понимаю, почему большею частью люди избегают этого: я боюсь, что при этом человек почти неизбежно оказывается чрезмерно эгоцентричным, и если вам покажется, что я чрезмерно много говорю о собственном опыте, пожалуйста, не забывайте, что для меня это единственный способ рассказать и о других. Я не сомневаюсь, что если мне когда-либо случится готовить эти лекции для публикации, их придется сильно почистить. Но в данный момент это всего лишь попытка поговорить со старыми друзьями, так что придется дать себе свободу. Венский университет, когда я совсем молодым пришел туда в конце 1918 года прямо с войны, а особенно экономическое отделение факультета права, был на редкость оживленным местом. Хотя материальные условия жизни были чрезвычайно трудными, а политическая ситуация -- весьма неопределенной, поначалу это мало влияло на интеллектуальный уровень, сохранившийся с довоенного времени. Я не хочу здесь говорить о том, почему венский университет, который до 1860-х годов был ничем не примечательным заведением, с начала 1870-х годов стал одним из лучших университетов мира, который дал жизнь множеству всемирно известных научных школ в области философии и психологии, права и экономической теории, антропологии и лингвистики (если считать только школы, родственные нашей сегодняшней теме). Я не уверен, что в состоянии объяснить это явление, а, пожалуй, не верю и в то, что такого рода явления могут быть вполне объяснены. Достаточно отметить, что период интеллектуального расцвета в венском университете точнехонько совпал с победой политического либерализма в этой части света, и ненадолго пережил господство либеральной мысли. Вполне возможно, что сразу после окончания Первой /мировой/ войны, несмотря на то, что ряд крупных фигур довоенного времени уже ушли, и, по крайней мере в первое время, факультету недоставало многих и многого, атмосфера интеллектуального творчества среди молодежи была даже более яркой, чем до войны. Возможно, это объясняется тем, что -- как и после Второй /мировой/ войны -- студенчество было более зрелым, а к тому же военный и первый послевоенный опыт породили острый интерес к социальным и политическим проблемам. Хотя некоторые из тех, кто постарше, стремились как можно быстрее кончить курс, у молодежи годы, потерянные на службу в армии, породили скорее необычное стремление полностью использовать возможности, к которым они так давно стремились. В результате сцепления разных обстоятельств многие вопросы и проблемы, которые так горячо обсуждались в Вене в то время, только позднее оказались в центре внимания в западном мире, так что в ходе моих скитаний я нередко переживал чувство "я уже здесь бывал". [Хайек имеет в виду свое пребывание в Лондоне в 1930-х и 1940-х гг., где он занимал пост профессора экономической теории и статистики в Лондонской школе экономики, в Чикаго, где он с 1950 по 1962 гг. был профессором общественных и гуманитарных наук в Чикагском университете, и во Фрейбурге, Западная Германия, где он был с 1962 года профессором (позднее -- почетным профессором) Фрейбургского университета. -- амер. изд.] Темы наших дискуссий в значительной степени были предопределены близостью коммунистической революции -- в Будапеште, до которого было рукой подать, несколько месяцев господствовало коммунистическое правительство, в котором важную роль играли интеллектуальные лидеры марксизма, позднее нашедшие прибежище в Вене, а кроме того -- неожиданный академический престиж марксизма, быстрое распространение концепции, которую теперь принято называть идеей "государства благосостояния", а прежде всего -- опыт инфляции, равной которой не мог припомнить ни один житель Европы. Но и ряд чисто интеллектуальных течений, заполонивших позднее западный мир, уже набрали в то время силу в Вене. Я упомяну только психоанализ и возникновение традиции логического позитивизма, которая господствовала во всех философских дискуссиях. Впрочем, мне следует сосредоточиться на развитии экономической теории, и может быть замечательнее всего, что при острейших практических трудностях университет смог сосредоточиться на чистейшей из чистых экономической теории. В этом явно чувствовалось влияние маржиналистской революции [имеется в виду почти одновременное "открытие" принципа предельной (маргинальной) полезности Карлом Менгером и Уильямом Стенли Джевонсом в 1871 году, и Леоном Вальрасом в 1874 году; см. гл. 1 и 2 данного издания -- амер. изд.], которая и сама произошла не задолго до того времени, о котором я теперь говорю. Из великих деятелей этой революции продолжал работать только Визер [учитель Хайека Фридрих фон Визер (1851--1926); см. главу 3 -- амер. изд.]. И Бем-Баверк [Евгений фон Бем-Баверк (1851--1914), шурин Визера, был министром финансов Австрии; см. главы1 и 2 -- амер. изд.] и Филиппович [Евгений Филиппович фон Филипсберг (1858--1917) -- амер. изд.], двое самых влиятельных учителей предвоенного периода (первый в области теории, а второй -- в политических проблемах) -- умерли в самом начале войны. Карл Менгер [Карл Менгер (1840--1921), основатель австрийской школы теоретической экономики; см. главу 2 -- амер. изд.] еще был жив, но был уже глубоким стариком, который вышел на пенсию лет за пятнадцать до этого и появлялся только в редких случаях. Для нас, молодых, он был скорее мифом, тем более что и книга его [Carl Menger, Grundsatze der Volkswirtschaftslehre (Vienna: W. Braumuller, 1871). Была переведена на английский James Dingwall and Bert F. Hoselitz, Principles of Economics (Glencoe, Ill.: The Free Press, 1950; reprinted New York and London: New York University Press, 1981 -- амер. изд.], исчезнувшая даже из библиотек. стала почти недоступной редкостью. Среди тех, с кем мы сталкивались, немногие имели непосредственный доступ к нему. Старшие были переполнены воспоминаниями о семинарах Бем-Баверка, которые в предвоенные годы собирали всех, интересовавшихся экономической теорией. Наши ровесницы, с другой стороны, были полны воспоминаниями о Максе Вебере [Макс Вебер (1864--1920), немецкий социолог и автор The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism (London: Allen & Unwin, 1930); впервые опубликовано в 1904--1905 гг. на немецком -- амер. изд.], который читал семестровый курс в Вене как раз перед окончанием войны, когда мужчины еще не вернулись в университет. Визер, последняя нить, связывавшая нас с великим прошлым, большинству из нас казался надменным и недосягаемым господином. Он в то время только вернулся в университет с поста министра торговли в одном из последних правительств империи. Он читал лекции, опираясь на свою изданную перед самой войной Social Economics [Friedrich von Wieser, Theorie der Gesellschaftlichen Wirtschaft (Tubingen: J.C.B. Mohr, 1914), на английском языке Social Economics (London: Allen & Unwin, 1927; reprinted New York: Augustus M. Kelley, 1967) -- амер. изд.], которую, кажется, знал на память, -- единственный систематический трактат по экономической теории, созданный Австрийской школой. [Имеются в виду первое и второе поколения Австрийской школы: Менгер, Бем-Баверк, Визер и их современники -- амер. изд.] Читал он очень просто, но весьма внушительно и эстетически привлекательно, в рассчете большей частью на изучающих право, для которых этот обзор должен был стать их единственным погружением в экономическую теорию. Тем, кто, собрав все мужество в кулак, отваживался после лекции приблизиться к величественной фигуре, удавалось обнаружить бездну дружелюбия и благожелательства, а также получить приглашение на его малый семинар или даже на домашний обед. В первое время у нас были еще два постоянных преподавателя экономики: марксист, занимавшийся историей экономики [это был Карл Грюнберг (1861--1940), который позднее сделался первым директором марксистского института социальных исследований во Франкфурте -- амер. изд.], и молодой, склонный к философствованию профессор Отмар Шпанн, который первоначально был принят студентами с энтузиазмом. Он достаточно интересно рассказывал о логике взаимосвязи между целями и средствами, но затем целиком перебрался в область философии, которая казалась большинству совершенно чуждой экономической теории. [Отмар Шпанн (1878--1950) был основателем "универсалистской" школы, которая противопоставляла "атомизированному" индвидуализму классической школы социальную "целостность". См. Edgar Salin, "Economics: Romantic and Universalist", Encyclopedia of the Social Sciences, vol. 5 (New York: Macmillan, 1957), pp. 385--387; and Earlene Craver, "The Emigration of the Austrian Economists", History of Political Economy, vol. 18, no. 1, 1986, pp. 1--32, esp. pp. 5--7 and 9--11. -- амер. изд.] Но его небольшой учебник по истории экономической мысли [Othmar Spann, Die Haupttheorien der Volkswirtschaftslehre (Leipzig: Quelle & Meyer, 1911); в 1949 году появилось уже 25-ое издание книги -- амер. изд.], который считали слепком Менгеровских лекций, для большинства из нас был первой книгой на эту тему. Хотя к этому времени уже были учреждены степени в области политических и экономических наук, большинство из нас все еще ориентировались на диплом юриста, для получения которого требовалось очень незначительное знакомство с экономической теорией, так что профессиональные экономические знания приходилось добывать либо самостоятельным чтением, либо из лекций тех, кто читал их в свободное время из любви к предмету. Важнейшим среди такого рода курсов был тот, который читался Людвигом фон Мизесом [о Мизесе (1881--1973) см. главу 4 -- амер. изд.], но лично я познакомился с ним довольно поздно, и расскажу о нем потом. Мне следует, однако, немного рассказать об особенностях организации университетов в Центральной Европе, особенно в Австрии. Специфику их организации обычно мало кто понимает, хотя она -- при всех своих недостатках -- сыграла важную роль в сплочении постоянных университетских профессоров и любителей, отдававших преподаванию свой досуг, что было столь характерно для атмосферы Вены. Число постоянных преподавателей университета (ординарных и экстраординарных) всегда было невелико; это положение люди получали, обычно, уже в сравнительно немолодом возрасте, как правило на 4 или 5 десятке. Но чтобы иметь право на такое назначение следовало сначала, обычно через несколько лет после защиты докторской степени, получить лицензию на преподавание в качестве приватдоцента, которым не полагалось никакого жалованья, кроме доли в той весьма незначительной плате, которую взимали со студентов за прослушивание определенных курсов. В естественных науках, где исследовательская работа возможна только в специальных институтах, приватдоценты обычно получали жалованье как ассистенты, что позволяло им целиком посвятить себя научной работе. Но во всех неэкспериментальных областях, каковы математика, право и экономика, история, филология и философия таких возможностей не было. До Первой мировой войны академическая среда пополнялась, как правило, выходцами из довольно состоятельных групп, которые разорились в ходе великой инфляции, так что единственный выход был в том, чтобы иметь какую-либо работу, а свободное время отдавать исследованиям и преподаванию. На юридическом факультете, который, как вы помните, включал и экономику, обычным выбором было место правительственного чиновника, либо, что было еще привлекательнее, место служащего в торговых или промышленных компаниях, либо юридическая практика; в области изящных искусств обычным было преподавание в средних школах -- пока не удавалось достичь желанного положения профессора, если это вообще удавалось -- приватдоцентов всегда было намного больше, чем профессоров. Видимо больше половины тех, кто стремился к академической карьере, так и оставались на всю жизнь внештатными преподавателями, которые учили всему, чего им хотелось, но не получали за это практически ничего. Постороннего наблюдателя, особенно иностранца, должен сбивать с толку тот факт, что спустя несколько лет приват-доцентов также стали именовать профессорами, но это никак не изменило их положения. В некоторых профессиях, как в медицине и в праве, престиж титула, действительно, мог иметь немалое значение, и получив право именовать себя "профессором" врач или адвокат получали возможность резко повысить свои гонорары. Только в этом смысле Зигмунд Фрейд, например, был профессором Венского университета. Это не значит, конечно, что некоторые из этих людей не обладали столь же большим влиянием, как и действительные профессора. Еженедельные два или три часа лекций или семинаров позволяли одаренному педагогу оказывать большее влияние, чем имели его штатные преподаватели -- хотя монополия последних на прием аттестационных экзаменов серьезно ограничивала влияние совместителей. Во всяком случае эта система была благотворна для юристов и экономистов не только тем, что все университетские профессора приобретали изрядный опыт практической работы, но и тем, что поддерживала тесные связи между академической средой и практиками. Многие из тех, кто никогда не сумел добраться до степени приват-доцента, помнили о возможности такой карьеры и посвящали некоторое время исследованиям. А это помогало сохранить традицию Privatgelehrte, частного ученого, которая была важна в XIX веке -- может быть в Австрии она не была так развита, как в Англии, но все-таки она сыграла большую роль. В нашей области можно привести интересный пример из 1880-х годов с авторами одной из лучших работ по математической экономике -- Теория цен [Rudolf Auspitz and Richard Lieben, Untersuchungen uber die Theorie des Preises (Leipzig: Duncker & Humblot,1889) -- амер. изд.] -- Рудольфа Ауспитца и Ричарда Лейбена, из которых первый был фабрикантом сахара, а второй -- банкиром. Несколько подобных фигур было и после Первой /мировой/ войны, и по крайней мере один из них -- финансист Карл Шлезингер, написавший интересное исследование о деньгах [Karl Schlesinger, Theorie der Geld- und Kreditwirtschaft (Munich: Duncker & Humblot, 1914). Частичный перевод появился под названием "Basic Principles of the Money Economy", in International Economic Papers, Vol. 9, 1959, pp. 20--38 -- амер. изд.], и изобретший термин "олигополия" -- принимал участие в наших дискуссиях. Несколько крупных чиновников и промышленников, приобретших ранее имя в экономической науке, в эти взбаламученные послевоенные годы были слишком заняты, и могли только урывками погружаться в науку. Но эти непрофессионалы, посторонние для академических кругов, всегда составляли большинство на заседаниях небольшого неформального венского клуба Nationalokonomische Gesellschaft [Национальная экономическая ассоциация или Венское экономическое общество. О Gesellschaft см. Craver, op. cit. pp. 17--18 -- амер. изд.], который с трудом пережил войну и возродился в мирное время как главная арена для дискуссий по насущным экономическим проблемам. Хотя он был единственным местом, где 5--6 раз в году могли встречаться и обсуждать проблемы молодые и старые, академические ученые и практики, для нас, молодых, были гораздо более притягательными другие возможности собираться подискутировать вне университета. На протяжении большей части периода между двумя войнами важнейшим центром было то, что известно как Мизесовский Privatseminar, который, в сущности, стоял совершенно вне университетской жизни. Каждые две недели по вечерам в Торговой палате в офисе Мизеса собирались люди, и эти встречи неизменно завершались уже ночью в какой-либо кофейне. Видимо, эти частные семинары начались в 1922 году и закончились с эмиграцией Мизеса в 1934 году -- не могу сказать точно, потому что я не был в Вене ни при начале, ни при конце семинара. [На самом деле Privatseminar начался в 1920 г. и закончился в 1934 г. См. свидетельство самого Мизеса в его Notes and Recollections, trans. by Hans F. Sennholz (South Holland, Ill.: Libertarian Press, 1978), pp. 97--100 -- амер. изд.] Но с 1924 по 1931 год, благодаря тому, что Мизес нашел мне и Хаберлеру [Готтфрид фон Хаберлер (1900), позднее стал профессором экономики в Гарвардском университете, а в настоящее время является постоянным сотрудником Американского предпринимательского института -- амер. изд.] работу в этом же здании, и Хаберлер в должности помощника библиотекаря продолжил начатую Мизесом работу по превращению библиотеки Торговой палаты в лучшую экономическую библиотеку Вены, это здание Торговой палаты и проводившиеся там семинары были по меньшей степени столь же важным центром экономических дискуссий, как и сам Венский университет. Три или четыре обстоятельства сообщали особенный интерес этим дискуссиям в кружке Мизеса. Мизес, естественно, не меньше любого другого интересовался основными проблемами анализа в терминах предельной полезности, вокруг чего вращались почти все дискуссии и в университете. Но такие вопросы, как состыковка анализа в терминах предельной полезности с теорией вменения полезности, что, кстати говоря, приковывало мой интерес в начале 1920-х годов, или другие изощренные проблемы маржиналистского анализа, вроде разбираемых Розенштейном-Роданом в его статье о Grenznutzen (предельной полезности) в Handworterbuch der Staatswissenschaften [Paul N. Rosenstein-Rodan, "Grenznutzen", Handworterbuch der Staatswissenschaften, vol. 4 (fourth edition, Jena: Gustav Fischer, 1927) -- амер. изд.], перестали быть столь важными, как это было в университете во времена Визера или его преемника Ганса Майера [Hanc Mayer (1879--1955) -- амер. изд.]. Во-первых, Мизес уже в 1912 году опубликовал свою Теорию денег [Ludwig von Mises, Theorie des Geldes und der Umlaufsmittel (Munich and Leipzig: Duncker & Humblot, 1912), trans. by H.E. Batson as The Theory of Money and Credit (London: Jonathan Cape,1934; reprinted. Indianopolis, Ind.: Liberty Classics, 1981) -- амер. изд.], и я едва ли преувеличу, сказав, что в период великой инфляции он был единственным человеком в Вене, а может быть и во всем немецко-говорящем мире, кто действительно понимал, что происходит. В этой книге он также ввел и развил некоторые идеи Викселя [имеется в виду теория "естественной" величины процента Кнута Викселя (1851--1926) -- амер. изд.], чем и заложил основу для теории кризисов и депрессий. Позднее, сразу же после конца войны, он опубликовал мало известную, но чрезвычайно интересную книгу о пограничных проблемах экономики, политики и социологии [Ludwig von Mises, Nation, Staat und Wirtschaft: Beitrage zur Politik und Geschichte der Zeit (Vienna: Manz'sche Verlags- und Universitatsbuchhandlung, 1919), trans. and ed. by Leland B. Yeager as Nation, State and Economy:Contributions to the Politics and History of Our Time (New York and London: New York University Press, 1983) -- амер. изд.], и уже готовил к изданию выдающийся трактат Социализм [Ludwig von Mises, Die Gemeinwirtschaft: Untersuchungen uber den Sozialismus (Jena: Gustav Fisher, 1922), trans. by J. Kahane as Socialism: An Economic and Sociological Analysis (London: Jonathan Cape, 1936; reprinted, Indianapolis, Ind.: Liberty Classics, 1981) -- амер. изд.], где была поднята проблема возможности рациональных экономических вычислений при отсутствии рынков, что и стало одной из основных тем тогдашних дискуссий. [Другие участники семинара Мизеса вспоминают, однако, что проблема рациональности экономических вычислений при социализме обсуждалась мало, поскольку "Мизес справедливо рассудил, что здесь некого убеждать". См. Craver, op. cit., p. 15.] Он был почти единственным среди людей своего поколения, кто был готов до конца защищать принципы свободного рынка (в предыдущем поколении было несколько людей того же сорта, вроде Густава Касселя [Густав Кассель (1866--1944) многие годы преподавал в Стокгольмском университете, где среди его студентов были будущие нобелевские лауреаты по экономике Бертил Охлин и Гуннар Мюрдаль (с которым Хайек разделил приз в 1974 году). Важнейшие из его теоретических работ "Grundrib einer elementaren Preislehre", Zeitschrift fur die gesamte Staatswissenschaften, vol. 55, 1899; The Nature and Necessity of Interest (London: Macmillan, 1903); и Theoretische Sozialokonomie [1918], trans. as Theory of Social Economy (London: T.F. Unwin, 1923; revised edition, London: E. Benn, 1932). -- амер. изд.]). И даже в то время страстный интерес к тому, что мы теперь называем принципами либертаризма, соединялся у него с интересом к методологическим и философским основаниям экономической теории, что стало столь характерным для его поздних работ. Именно последнее обстоятельство так привлекало к семинарам Мизеса тех, кто стоял на других политических позициях и не интересовался техническими аспектами экономической теории. Особый характер этим дискуссиям сообщало присутствие таких людей как Феликс Кауфман [Феликс Кауфман (1895--1949), ученик философа Ганса Келзена, преподавал в Венском университете и в Новой школе социальных исследований. Он выпустил Methodology of the Social Sciences (London and New York: Oxford University Press, 1944). Оценка научных достижений Альфреда Шульца см. в Social Research, vol. 17, March 1950, pp. 1--7. -- амер. изд.], являвшийся по преимуществу философом, или Альфред Шульце [Alfred Schultz (1899--1959) в 1939 году перебрался из Вены в Нью-Йорк, где он вместе с Кауфманом преподавал в Новой школе. Наиболее известна его работа Der Sinnhafte Aufbau der sozialen Welt (Vienna: J. Springer, 1932), trans. as The Phenomenology of the Social World (Evanston, Ill.: Northwestern University Press, 1967). -- амер. изд.], социолог, и ряд других, о которых я еще буду говорить. Прежде, чем рассказывать о группе, которая участвовала во всех этих дискуссиях, я хочу сказать несколько слов об источнике этого непреклонного либерализма, который делал Мизеса совершенно уникальным и даже одиноким -- по крайней мере в германоязычном мире. Безусловно, Мизес не был просто реликтом прежнего времени, как это может показаться молодым, потому что между ним и последними классическими либералами пролегло целое поколение. И хорошо известно, что когда он начинал исследования, то был столь же привержен идее социальных реформ, как любой другой юноша его поколения. Карл Менгер, который еще преподавал, когда Мизес приступил к занятиям, был именно что классическим либералом (хотя я не думаю, что Мизес посещал его лекции [Мизес подтверждает, что он ничего не знал о Менгере, пока не прочел в 1903 году, через три года после поступления в Венский университет, его Grundsatze, а лично с Менгером он столкнулся спустя много лет. Mises, Notes and Recollections, op.cit. p. 33. -- амер. изд.]). Но хотя четвертая из знаменитых Менгеровских книг о методе [Karl Menger, Untersuchungen uber der Sozialwissenschaften und der Politischen Oekonomie insbesondere (Leipzig: Duncker & Humblot, 1883), trans. as Problems of Economics and Sociology (Urbana, Ill.: University of Illinois Press, 1963), reprinted with the title Investigations into the Method of the Social Sciences with Special Reference to Economics, (New York and London: New York University Press, 1985). На самом деле Хайек имеет в виду книгу третью. Хатчинсон отмечает, что именно ради этой части был предпринят перевод на английский всей Untersuchungen. См. T.W. Hutchinson, "Some Themes from Investigations into Method", in J.R. Hicks and W.Weber, eds. Carl Menger and the Austrian School of Economics (Oxford: Clarendon Press,1973), pp. 15--37, revised and republished as "Carl Menger on Philosophy and Method" in Hutchinson, The Politics and Philosophy of Economics: Marxians, Keynesians and Austrians (New York and London: New York University Press, 1981), pp. 176--202, esp. p. 183. -- амер. изд.] содержит наметки того, что я прежде назвал теорией спонтанного роста, созидающей основы для политики свободы, он никогда не был догматическим или агрессивным либералом [о политических взглядах Менгера см. Erich Streissler, "Carl Menger on Economic Policy: The Lectures to Crown Prince Rudolph", in Bruce J. Caldwell, ed. Carl Menger and his Legasy in Economics, annual supplement to History of Political Economy, vol. 22 (Durham, N.C., and London: Duke University Press,1990), pp. 107--130 -- амер. изд.]. В следующем поколении Визер, Бем-Баверк и Филиппович безусловно назвали бы себя либералами, и мне случилось удостовериться, что по крайней мере у первых двух общеполитические взгляды, как и у многих континентальных либералов их поколения, были в сущности теми же, какие выразил в своих эссе Т.Б. Макколей [Thomas Babbington Macaulay (1800--1859), позднее лорд Маккалей, английский историк и критик. Здесь речь идет об его эссе в Edinburgh Review, может быть, в первую очередь об опубликованном в январе 1830 года эссе "Southey's Colloquies on Society", которое содержит следующий часто цитируемый пассаж: "Лучшее, что могут сделать наши правители для совершенствования народа, это строго ограничиться своими законными обязанностями и предоставить капиталу самому находить наивыгоднейшее применение, товарам достойную цену, предприимчивости и проницательности -- собственное вознаграждение, дать ленивости и неразумию самим искать собственное естественное наказание, а на себя взять поддержание мира, защиту собственности, облегчение доступа к правосудию, соблюдение строгой экономии во всех частях государства. Пусть правительство выполнит это: народ, конечно же, сделает все остальное." См. Macaulay, Critical and Historical Essays (second edition, London: Longman, Brown, Green and Longmans, 1843), vol. 1, pp. 217--269, esp. p. 269. -- амер. изд.], которого оба они внимательно изучали. Но в случае Визера и, особенно, Филипповича этот либерализм включал немало аргументов в пользу контроля, по крайней мере для решения проблем рынка труда и социальной политики: Филиппович, в сущности, был скорее фабианцем, чем классическим либералом. Пожалуй, Бем-Баверк был исключением и остался до конца подлинным либералом, и его последнее эссе "Control and Economic Law" [Eugen von Bohm-Bawerk, "Macht oder okonomisches Gesetz?", Zeitschrift fur Volkswirtschaft, Sozialpolitic and Verwaltung, vol. 23, 1914, pp. 205--271, in Bohm-Bawerk's Gesammelte Schriften, vol. (Vienna: Holder-Pichler-Tempsky, 1924); trans. by John Richard Mez as "Control or Economic Law?", in Shorter Classics of Bohm-Bawerk (South Holland, Ill.: Libertarian Press, 1962), pp. 139--199 -- амер. изд.] можно даже рассматривать как начало возрождения либерализма. Но Мизесу, который совершенно выломился из рядов поколения и невольно оказался изолированным в качестве непреклонного либерала, пришлось собирать материал для возводимого им здания нового либерального учения в английской литературе 19 века, поскольку современная ему германская литература не давала возможности познакомиться с принципами истинного либерализма. Но к тому времени, о котором я сейчас говорю, он уже нашел в Лондоне родственных себе Эдвина Кеннена [Edwin Cannan (1861--1935) был профессором Лондонской школы теоретической экономики и политических наук с 1907 по 1925 год; о Кеннане см. некролог Хайека "Edwin Cannan" in Zeitschrift fur Nationalokonomie, vol. 6, 1935, pp. 246--250. -- амер. изд.] и Теодора Грегори [Theodor Emanuel Gugenheim Gregory (1890--1970) был лектором и профессором Лондонской школы теоретической экономики с 1913 по 1937 год -- амер. изд.], и с начала 1920-х годов установились связи между Австрийской и Лондонской группами либералов. Мизесовский либерализм не только вовлек его в постоянную полемику с сильной группой венских марксистов -- среди лидеров которых некоторые были его школьными приятелями, и которые через Отто Нейрата [Otto Neurath (1882--1945), марксистский философ и социолог, принадлежал к "Венскому кружку", куда входили также Moritz Schlick и Rudolf Carnap; Нейрата помнят, главным образом, как изобретателя изотипов -- пиктографических символов, используемых в процессе обучения, и как разработчика плана International Encyclopedia of Unified Science -- амер. изд.] оказывали сильное влияние на формировавшуюся тогда в "Венском круге" группу философов-неопозитивистов; его либерализм был невыносим и для большой группы полу-либералов, куда входили большинство тогдашних молодых интеллектуалов. А строго говоря, все мы, кто не был о ту пору марксистом, принадлежали к этой группе, и только постепенно и очень медленно некоторые встали на точку зрения Мизеса. Даже в рамках Privatseminar, как я подозреваю, большинство в душе оставались полу-социалистами, а еще больше было тех, кто покидал семинар из протеста против постоянной обращенности дискуссий на принципы либерализма -- хотя именно систематическое вопрошание -- что же случится, если государство воздержится от вмешательства? -- было одним из главных источников силы этих дискуссий. Прежде, чем рассказывать дальше о среде, в которой формировались взгляды моего поколения, я должен уделить несколько слов тем, кто занимал промежуточное положение между нами и поколением Мизеса и Шумпетера [Joseph A. Schumpeter (1883--1950), профессор университетов Граца и Бонна, а позднее -- Гарварда, автор книг Capitalism, Socialism and Democracy (London: Allen & Unwin,1942); History of Economic Analysis (New York: Oxford University Press, 1954); о Шумпетере см. главу 5 -- амер. изд.]: трем мужчинам, работы которых заслуживают большей известности, но которые умерли сравнительно рано. Ни один из них никогда не входил в штат университетских профессоров, но их вклад в развитие теоретической экономики был значительным. Во-первых, следует упомянуть Ричарда Стригля [Strigl (1891--1942), см. главу 6 -- амер. изд.], которого мы все рассматривали как достойного и законного претендента на пост профессора Венского университета, и который, если бы он жил дольше, смог бы наилучшим образом продолжить традицию. Его исследование теории заработной платы [Richard von Strigl, Angewandte Lohntheorie: Untersuchungen uber die wirtschaftlichen Grundlagen der Sozialpolitik (Leipzig anfd Vienna: Franz Deuticke,1926); сделанный Хайеком обзор этой книги см. в главе 6, Приложение -- амер. изд.] принадлежит к числу наилучших в этой области, а кроме этого он сделал существенный вклад в теорию капитала. Хотя он долго был приват-доцентом и получил, наконец, титул профессора, его постоянным местом работы была Промышленная комиссия, которая управляла работой биржи труда и другими аналогичными организациями. Был еще Эвальд Шамс [Schams (1899-1945), см. главу 6 -- амер. изд.], единственный в нашей группе, который был студентом Шумпетера в университете Граца(? Graz), и похоже, что он один хорошо знал работы Вальраса и Парето [Leon Walras (1834--1910) и Vilfredo Pareto (1848--1923) были пионерами развития математической экономики в Лозаннском университете, Швейцария. -- амер. изд.]. Его эссе о методах и логике экономической теории это истинные жемчужины, демонстрирующие опрятность и точность, которые были присущи этому страстному коллекционеру бабочек, который -- помимо этого -- был юридическим советником в одном из отделов Федерального казначейства. Третьим в этой группе был блистательный Лео Шёнфельд (позднее принявший имя Лео Илли [Leo Illy (Leo Schonfeld) (1888--1952) -- амер. изд.]), редко появлявшийся из-за его перегруженности обязанностями бухгалтера, но при этом сумевший издать последний большой трактат на традиционно главную для Австрийской школы тему -- о теории субъективной ценности [Leo Illy (Leo Schonfeld), Das Gesetz des Grenznutzens (Vienna: Springer, 1948) -- амер. изд.]. Разнообразие занятий людей моего поколения, прежде чем все они стали профессорами американских университетов, еще поразительней. Феликс Кауфман, философ, теоретик права, логик и математик, возглавлял Венское отделение большой нефтяной компании. Альфред Шульц, социолог, был секретарем ассоциации малых банков. Фриц Махлуп [Machlup (1902--1983), позднее преподавал в университетах Буффало и Принстона -- амер. изд.] был производителем картона; Фридрих Энгел-Яноши, историк, был фабрикантом паркета; Д.Г. Фюрц, позднее занявший место в Федеральной резервной системе, и Вальтер Фрёйлих, позднее осевший в Marquette, были практикующими юристами. При нормальном ходе событий ни один из них никогда бы не стал профессором университета, да большинство до эмиграции не имело даже опыта преподавания. Но при этом участие каждого из них было не менее важным для формирования общих позиций, чем участие таких относительно больших профессионалов, как я, который оказался достаточно удачливым и после 4 лет государственной службы стал директором экономического исследовательского института [Osterreichische Konjunkturforschungsinstitut или Австрийский институт исследований делового цикла, был создан Мизесом в 1926 году как независимый центр эмпирических исследований. По настоянию друга Мизеса Jon Van Sickle фонд Рокфеллера в 1930 году предоставил этому институту существенные средства, которые и помогли ему выжить. См. Craver, op. cit., pp. 19--20. -- амер. изд.], или Оскар Моргенштерн [Morgenstern (1902--1977) сменил Хайека на посту директора Института, и оставался в Вене дольше, чем кто-либо другой из членов этой группы. После Аншлюса Австрии в 1938 году он принял место профессора в Принстоне, где и оставался до 1970 года. Его совместная работа с Д. фон Нейманом привела к написанию Theory of Games and Economic Behavior (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1944). -- амер. изд.], который вскоре после этого стал моим сотрудником, а позднее унаследовал пост директора, или Хаберлер, о котором я уже упоминал, или Розенштейн-Родан [Paul N. Rosenstein-Rodan (1902--1985), позднее преподавал в Университетском колледже, Лондон, и в Массачусетском технологическом институте -- амер. изд.], у которого было место ассистента в университете, и который вместе с Моргенштерном издавал Zeitschrift fur Nationalokonomie. Легко представить, что дискуссии в этом кружке редко замыкались строго экономическими вопросами. Через Кауфмана мы познакомились с правовым позитивизмом Кельзеновского Kreis; столь же важен был логический позитивизм Шлика и его кружка, и именно он преподал нам начатки современной философии науки и символической логики. Через Шульца мы все познакомились с феноменологией Макса Вебера и Гуссерля (которую я так никогда и не смог понять, несмотря на уникальный преподавательский дар Кауфмана, который в этом деле помогал Шульцу). Относительная замкнутость нашей группы в немалой степени объясняется обстоятельствами послевоенной жизни, которые принуждали к замкнутости и опоре исключительно на собственные ресурсы. Но помимо особенностей времени, когда даже доступ к иностранной литературе стал труден, а путешествия были почти неосуществимы, действовали другие факторы. Сегодня, видимо, трудно даже вообразить себе, сколь скудными были личные контакты или обмен мыслями между учеными разных стран всего лишь пятьдесят или сорок лет тому назад. Я убежден, что, если не считать отрывочного обмена письмами, почти никто из крупных экономистов в период перед Первой /мировой/ войной не встречался друг с другом. Непосредственно перед войной были робкие попытки преодолеть эту изолированность. Был организован впервые обмен профессорами между американскими и европейскими университетами; не лишен значения тот факт, что одним из первых, если не самым первым австрийцем, который участвовал в этой программе обмена, был Шумпетер, который в 1913 году ездил в Гарвард. Я думаю, что именно благодаря этому мы в Вене в первые послевоенные годы лучше знали труды американских теоретиков Джона Бейтса Кларка [John Bates Clark (1847--1938) профессор Колумбийского университета и автор маржиналистской теории распределения. См. первое Приложение ниже -- амер. изд.], Томаса Никсона Карвера [Thomas Nixon Carver (1865--1961) профессор политической экономии в Гарвардском университете -- амер. изд.], Ирвинга Фишера [Irving Fisher (1867--1947) экономист в Йельском университете и автор плодотворных работ по теории процента и покупательной способности денег -- амер. изд.], Франка Феттера [Frank Albert Fetter (1863--1949) преподавал в Корнельском и Принстонском университетах; иногда его путают с его сыном, историком экономики Frank Witson Fetter. О влиянии Франка А.Феттера на австрийских экономистов см. Введение к его Capital, Interest and Rent (Kanzas City, Mo.: Sheed, Andrews & Mcmeel, 1977), pp. 1--24. -- амер. изд.] и Герберта Джозефа Давенпорта [Herbert Joseph Davenport (1861--1931) был профессором университетов Чикаго, Миссури и Корнуэлла], чем работы любых других иностранных экономистов, за исключением, может быть, шведов. Довоенный визит в Вену Викселя вспоминали как большое событие, а сразу после войны Густав Кассель был самым знаменитым экономистом, который читал лекции и публиковал статьи во всех европейских странах -- столь же переоцененный тогда, как недооцениваемый ныне. Но хотя мы были рады тому, что его упрощенная версия теории Вальраса вызвала в Германии оживление интереса к экономической теории, для нас он представлял небольшой интерес. Но вернемся на миг к довоенной ситуации. Насколько исключительно редкими были случаи общения между экономистами разных стран, особенно разных континентов, видно из оставленного Визером воспоминания о таком редком событии: о встрече, которую организовал в Швейцарии незадолго перед войной фонд Корнеги для обсуждения запланированной серии публикаций. И я не могу здесь обойти случайную встречу Альфреда Маршалла с некоторыми австрийскими коллегами, о которой рассказывает в своих воспоминаниях г-жа Маршалл [Mary Paley Marshall, What I Remember? (Cambridge: Cambridge University Press, 1947); Alfred Marshall (1842--1924) был профессором политической экономии в Кембриджском университете.-- амер. изд.], и о которой я расскажу здесь так, как мне об этом рассказывал Визер -- хотя некоторые, может быть, уже слышали этот мой пересказ. Семьи Маршаллов и Визеров некоторое время проводили летние отпуска в одной и той же деревушке в долине Dolomites, которая тогда принадлежала Австрии. Хотя они довольно скоро выяснили, кем являются их случайные соседи, но оба были довольно робкими людьми, и не весьма разговорчивыми, а потому и не предпринимали попыток познакомиться. Однажды Бем-Баверк, в компании с еще одним представителем австрийской школы, приехал навестить своего шурина Визера, и, будучи страстным и блистательным говоруном (настолько, что порой даже обижался на нежелание своего шурина вступать в обсуждение экономических проблем), воспользовался возможностью представиться Маршаллу, с которым у него прежде была переписка. Г-жа Маршалл устроила совместный чай, о котором она и вспоминает, и который даже запечатлен на фотографии. Все было очень приятно и дружественно. Но на следующий год и Визер и Маршалл независимо друг от друга изменили место летнего отдыха, чтобы иметь возможность работать без помех, не встречаясь с другим экономистом. Поскольку речь зашла о знаменитых мастерах поговорить, вы можете заинтересоваться, почему еще ни слова не сказано о Шумпетере, который был самым блистательным собеседником среди всех известных мне экономистов, за исключением одного только Кейнса, с которым у него было много общего, в том числе проказливый зуд pour epater le bourgeois, а также определенная претензия на всезнайство и склонность блефовать, выходя за пределы своей исключительной эрудиции.[Говорят, что Шумпетер "дал обет стать лучшим экономистом, наездником и любовником Вены, а позднее сетовал, что ему так и не удалось достичь совершенства в верховой езде". George J. Stigler, Memoirs of an Unregulated Economist (New York: Basic Books, 1988), p.100. -- амер. изд.] Что касается Шумпетера, дело в том, что прожив после войны несколько лет в Вене, он практически не завел контактов с другими экономистами, и почти не встречался даже с теми, с кем работал в семинаре Бем-Баверка. Конечно же, каждый из нас знал две его довоенные книги и его эссе о деньгах [Joseph A. Shumpeter, Das Wesen und der Hauptinhalt der theoretischen Nationalokonomie (Leipzig: Duncker & Humblot, 1908); Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung (Leipzig: Duncker & Humblot, 1912), trans. by Redvers Opie as The Theory of Economic Development (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1934, reprinted New York: Oxford University Press, 1961); and "Das Sozialprodukt und die Rechenphennige", Archiv fur Sozialwissenschaft und Sozialpolitik, vol. 44, 1917 -- амер. изд.]. Но мы почти не встречались с ним, и некоторые его высказывания о текущих делах составили ему среди экономистов репутацию enfant terrible. Ему очень не повезло, что в то краткое время, когда он в самый разгар инфляции [с 15 марта по 17 октября 1919 -- амер. изд.] занимал пост министра финансов, ему пришлось подписать декрет, в соответствии с которым долги, сделанные в хороших полноценных кронах могли быть законно выплачены равным количеством обесцененных крон, то есть "Krone ist Krone" как говорили тогда, так что в результате у среднего австрийца моего поколения лицо багровеет при одном упоминании имени Шумпетера. Потом он стал президентом одного из небольших Венских банков, который сильно процветал в период инфляции, но быстро разорился после стабилизации экономики, а потом Шумпетер вернулся к профессорской жизни в Бонне, в Германии. Я должен добавить, что хотя им многие восхищались, и, при этом, недолюбливали люди его поколения и старше, все, кто знаком с подробностями его отношения к пострадавшим от банкротства вкладчикам банка, с большим уважением отзываются о его поведении в этой ситуации. Я только однажды встретился с ним в это время, и поскольку причиной нашей встречи была программа возобновления и быстрого расширения международных связей, я расскажу об этом. Чуть больше сорока лет назад я решил, что поездка в США важна для того, кто намерен стать экономистом, и как-то умудрился наскрести денег на это путешествие и заручился полу обещанием работы в случае, если я попаду-таки в Соединенные Штаты. Визер попросил Шумпетера дать мне рекомендательные письма его друзьям в Штатах. Так вот я и оказался в его величественном кабинете -- кабинеты президентов банков делаются тем грандиознее, чем дальше вы заезжаете на Восток, и контора Шумпетера вполне была достойна того, чтобы располагаться в Бухаресте, а не в Вене -- и он снабдил меня пакетом максимально любезных рекомендательных писем ко всем крупным американским экономистам, настоящими посольскими верительными грамотами, настолько большого формата, что мне пришлось завести особую папку, чтобы довезти их до назначения не измяв. И эти письма оказались настоящими "волшебными ключами"; может потому, что я был в Штатах после войны первым экономистом из стран Центральной Европы, но меня принимали, и явно сверх всяких моих заслуг, такие экономисты, как Джон Бейтс Кларс, Селигмен [E.R.A. Seligman (1861--1939), профессор Колумбийского университета с 1885 по 1931 год -- амер. изд.], Сигер[Henry Rogers Seager (1870--1930), профессор Колумбийского университета -- амер. изд.], Митчелл [Wesley Clair Mitchell (1874--1948), профессор Колумбийского университета и директор Новой школы социальных исследований; о Митчелле см. эту главу, Приложение два -- амер. изд.], и Г.Ф. Уиллис [Henry Parker Willis (1874--1937) был тогда консультантом Управления Федеральной резервной системы -- амер. изд.] в Нью-Йорке, Т. Карвер в Гарварде (из-за краткости визита я не сумел встретиться с Тауссигом [Frank William Taussig (1859--1940), профессор Гарвардского университета с 1885 по 1935 год. -- амер. изд.]), Ирвинг Фишер в Йельском университете, и Якоб Голландер в университете Джона Гопкинса [Jakob Henry Hollander (1871--1940) открыл и опубликовал Letters, и Notes on Malthus Д. Рикардо -- амер. изд.]. Благодаря этим рекомендательным письмам мне позволили выступить с завершающим докладом на последнем семинаре Д.Б. Кларка -- не о теоретических проблемах, но об экономических условиях в Центральной Европе, и наконец, когда мои надежды на получение работы не оправдались и мои небольшие средства иссякли, мне не пришлось отправиться мыть посуду в ресторане на Шестой Авеню, хотя я уже договорился о выходе на работу, а Иеремия У. Дженкс из Нью-Йоркского университета (точнее, из института Александра Гамильтона), нашел мне место ассистента, что позволило мне целиком посвятить себя интеллектуальным занятиям. Годом позже была предоставлена первая стипендия фонда Рокфеллера -- первая, по крайней мере, для бывших врагов по войне -- и все возрастающий поток европейских студентов хлынул в США, так что со временем такие контакты стали обычным делом. Я должен признаться, что при моей увлеченности чисто теоретическими вопросами первое впечатление об экономической науке США оказалось разочаровывающим. Я быстро обнаружил, что великие имена, бывшие для меня родными, воспринимались соотечественниками как старомодные, что работа в указанном ими направлении была прекращена, и что единственное имя, которым клялись тогда молодые люди, было имя Уэсли Клера Митчелла, единственное, которого я не знал до тех пор, пока не получил рекомендательных писем от Шумпетера. Главными темами дискуссий были деловой цикл и институционализм. Именно в этот год был опубликован сборник под редакцией Рексфорда Гая Тагвелла The Trend of Economics [R.G. Tugwell, ed., The Trend of Economics (New York: Alfred Knopf, 1924; не исключено, что название перепечатываемой в 3 т. Собр. соч. работы Хайека "The Trend of Economic Thinking" является аллюзией на антологию Тагвелла -- амер. изд.], претендовавший на роль программы институциональной школы. Первое, к чему принуждали заезжего экономиста был визит в Новую школу социальных исследований, где надо было слушать, как Торстейн Веблен саркастически и почти неслышно бормочет перед группой восторженных пожилых дам -- поразительно досадный опыт [Thorstein Veblen (1857--1929), автор The Theory of the Leisure Class (New York: Macmillan, 1899) -- амер. изд.]. Похоже, что наиболее полезной и основательной из тогдашних дискуссий было обсуждение политики центрального банка, которое вращалось вокруг важного Отчета за 1923 год Управления федерального резерва. Главным словом тогдашних дискуссий была "стабилизация". Для меня так и осталось загадкой, каким образом стабилизация уровня цен или любого другого поддающегося измерению параметра может устранить воздействие тех разрушающих равновесие сил, которые коренятся в деньгах. В то время я написал единственную статью для демонстрации того, что нельзя одновременно стабилизировать покупательную способность денег внутри страны и за рубежом. Я так никогда и не опубликовал этой статьи, потому что прежде, чем я смог изложить ее на приличном английском языке чтобы было не стыдно перед редактором, Кейнс опубликовал свой Tract on Monetary Reform [John Maynard Keynes, A Tract on Monetary Reform (London: Macmillan, 1923), reprinted as vol. 4 of The Collected Works of John Maynard Keynes (London: Macmillan and St. Martin's Press, for the Royal Economic Society, 1971) -- амер. изд.], в котором излагалась та же точка зрения. Мне кажется, что тогда это поразило многих экономистов как совершенно новый подход, хотя может показаться удивительным, сколь поздно до общего понимания доходят такие сравнительно простые вещи. В то время все были зачарованы попытками экономических прогнозов, в особенности работами над созданием экономического барометра Гарвардской службы экономики, как бы сомнительно все это не выглядело в ретроспективе, и знакомство с этими работами и с техникой обработки динамических рядов экономических показателей было, как ни стыдно в этом признаваться, важнейшей -- для нашей профессиональной карьеры -- практической частью добычи, с который мы возвращались из Соединенных Штатов. Но было и существенное преимущество в том, что нам пришлось познакомиться с современной техникой экономической статистики, которая тогда была еще совершенно неизвестна в Европе. Не приходится сомневаться, что именно этот опыт посещения Америки подтолкнул меня и многих других к исследованию проблем взаимоотношений между денежной теорией и деловым циклом. Исходным пунктом анализа служили ныне, пожалуй, забытые, но тогда усиленно обсуждавшиеся теории "недопотребления" Фостера и Кетчингса [William Trufant Foster and Waddill Catchings, Profits, Publications of the Pollak Foundation for Economic Research, no. 8 (Boston: Houghton Mifflin, 1925); idem Business Without A Buyer, no. 10 той же серии (Boston: Houghton Mifflin, 1927; second edition, 1928); and idem The Road to Plenty, no. 11 серии Поллака (Boston: Houghton Mifflin, 1928). Теории недопотребления объясняют колебания деловой активности изменениями соотношения между объемом потребительского спроса и объемом производства (идея похожая на кейнсову концепцию недостаточного совокупного спроса, хотя и не вполне совпадающая с ней). Название книги Хайека The Road to Serfdom (Chicago: University of Chicago Press, and London: Routledge & Kegan Paul, 1944) может быть является аллюзией на название этой работы. О Фостере и Катчингсе Хайек писал в статье "Gibt es einen "Widersinn des Sparens?" Eine Kritik der Krisentheorie von W.T. Foster und W. Catchings mit einigen Remerkungen zur Lehre von der Beziehungen zwoschen Geld und Kapital", Zeitschrift fur Nationalokonomie, vol. 1, 1929, pp. 387--429, translated by Nicholas Kaldor and Georg Tugendhat as "The Paradox of Saving" in Economica, vol. 11, 1931, pp. 125--169, reprinted in Profits, Interest and Investment (London: Routledge, 1939; reprinted, Clifton, N.J.: Augustus M. Kelley, 1969), pp. 199--263 -- амер. изд.]. Но я счел эти работы, равно как и критические отклики на них, которые были написаны как бы на приз на самую злобную критику, столь же неудовлетворительными, как и результаты эмпирических работ Митчелла, поскольку они поднимали больше вопросов, чем давали ответов. Все это скорее подталкивало меня назад к Викселю и Мизесу, и побудило меня к попытке развить на заложенном ими фундаменте вполне эксплицитный анализ последовательных стадий делового цикла, в который мы все тогда еще верили. Этой работой я занимался большую часть тех семи лет, которые я провел в Вене после возвращения из Америки. Когда я счел, что решение уже у меня в руках, я набрался смелости опубликовать краткий очерк под названием Prices and Production [F.A. Hayek, Prices and Production (London: Routledge & Sons, 1931; second revised edition, London: Routledge & Kegan Paul, 1935 -- амер. изд.]. Но вскоре я осознал, что теория капитала, на которую я опирался, представляет собой чрезмерно упрощенную конструкцию для задуманной мной грандиозной надстройки. В результате большую часть следующего десятилетия я посвятил развитию более адекватной теории капитала. Боюсь, что мне до сих пор эта часть экономической теории представляется наименее разработанной. Впрочем, я уже исчерпал время, отведенное на эту лекцию. О второй половине 20-х годов особо говорить не приходится. Может быть из-за того, что я был главой исследовательского института, занимавшегося изучением делового цикла, мне кажется, что в центре общего внимания был бум в США и гадания о том, сколько же он продлится. Репарационные платежи и проблема трансфертов были другой популярной темой для теоретиков, но я никогда особо не интересовался теорией международной торговли, и книга Хаберлера [Gottfried von Haberler, Der Internationale Handel: Theorie der weltwirtschaftlichen Zusammenhange sowie Darstellung und Analyse der Aubenhandelspolitik (Berlin: J. Springer, 1933), translated as The Theory of International Trade (London: W. Dodge, 1936; New York: Macmillan, 1937 -- амер. изд.] вполне достойно подытоживает тогдашние дискуссии. Скорее всего, общие усилия теоретиков были направлены к интеграции различных школ. Мы в Вене были поглощены простым усвоением потока новых идей, которые шли отовсюду, в основном из Англии -- например, Хоутри [Ralph George Hawtrey (1879--1975) служил экономистом в Британском казначействе, автор Currency and Credit (London: Longmans, 1919), and Trade and Credit (London: Longmans, 1928) -- амер. изд.], один из самых интересных авторов -- хотя все в большем объеме из Соединенных Штатов. Приложение: Джон Бейтс Кларк (1847--1938) Когда Джон Бейтс Кларк умер 23 марта 1938 года в возрасте 91 года, он уже стал для молодых экономистов по эту сторону Атлантики [т.е. в Британии -- амер. изд.] почти легендарной фигурой, а некоторым он представлялся чем-то вроде современного Бастиа [Frederic Bastiat (1801--1850). Французский экономист и эссеист. О Бастиа см. главу 15 в The Trend of Economic Thinking, vol. 3 The Collected Works of F.A.Hayek. -- амер. изд.] -- последний сторонник идеи естественной гармонии экономических сил. Здесь не место защищать его от этого ложного понимания. А о его великом достижении в области экономической теории, о развитии анализа с позиций предельной производительности, которое обеспечивает ему место в ряду основателей современной экономической теории -- об этом будут говорить будущие историки экономической мысли. Но мы все должны быть признательны светлой памяти Джона Бейтса Кларка -- человека, одного из самых мудрых и добрых учителей своего поколения, что может подтвердить каждый, кто хорошо его знал в последние годы его учительства. Многие в долгу перед ним за благородное и дружелюбное руководство, с которым он направлял их первые шаги в науке. А для тех, кто никогда не сталкивался с ним, этот краткий очерк его жизни и деятельности даст живое представление об одной из действительно великих фигур нашей профессии. Может быть здесь уместно сделать небольшой вклад в биографию Д.Б. Кларка, опубликовав следующее письмо, которое оказалось в моей собственности. Оно было написано вскоре после публикации книги покойного Роберта Цекуркандля, Theorie des Preises mit besonderer Berucksichtigung der Lehre (Leipzig: Stein, 1889), и к нему был приложен номер журнала New Englander, no. 161, July 1881, со статьей Д.Б. Кларка "The Philosophy of Value": Колледж Смита, Нортгемптон, Массачусетс, 14 января 1890. Дорогой сэр, В данное время я получаю пользу и
удовольствие от чтение вашей замечательной
книги о Теории ценности. Я беру смелость
послать Вам мою прежнюю публикацию о ценностях.
Во время ее публикации в 1881 году я был молодым
учителем в одном из наших западных колледжей; и я
действительно был уверен, что я первым открыл
принцип, сформулированный в этой статье. Анализ
был написан за долгое время до публикации. Г-ну д-ру Роберту Цукеркандлю P.S. -- Особенное удовольствие доставляет мне возможность воздать должное выдающимся мыслителям, главным образом австрийцам, которые в этой области опередили меня и дальше продвинулись в развитии анализа. Можно добавить, что не смотря на хорошо известные споры по поводу теории капитала, личные отношения между Д.Б. Кларком и австрийской школой, установившиеся как раз перед войной, были самыми сердечными, и что по крайней мере некоторые представители второго или третьего поколения австрийской школы обязаны Д.Б. Кларку почти в столь же большой степени, что и своим учителям. Приложение: Весли Клер Митчелл (1874--1948) Со смертью Весли Клер Митчелла в возрасте 74 лет американская экономическая наука утратила одного из наиболее выдающихся, и, пожалуй, наиболее характерного для нее ученого. Помимо того важного вклада, который он внес в решение отдельных проблем, он, может быть больше, чем любой другой экономист своего поколения, участвовал в формировании общего подхода к предмету, который в последние 30 лет [Хайек пишет в 1948 году -- амер. изд.] был характерен для ученых в США. Митчелл получил ортодоксальное классическое образование в Чикаго, под руководством Д.Л.Лауфлина, но вскоре подпал под влияние Торстена Веблена и Джона Дьюи. Хотя он внимательно следил за новыми веяниями в развитии современной экономической теории, и его лекции, большей частью, были посвящены рассмотрению этого развития, сам он невысоко оценивал полезность этой теории, и его усилия были направлены на развитие другого подхода, который представлялся ему более соответствующим духу эмпирической науки, и свои идеи он черпал, преимущественно, у Веблена, Дьюи и ученых Германской исторической школы. Его усилиям больше, чем чему-либо другому обязана своим формированием и возвышением "институциональная" школа экономической теории, оплотом которой в 1920-х годах стал Колумбийский университет, где Митчелл преподавал с 1914 года, и которая в 1930-х годах сильно влияла на экономическую политику президента Рузвельта. Исследования Митчелла были почти исключительно сосредоточены в области, лежащей на границе между экономической теорией и статистикой. После двух исследований по проблемам денежного обращения в "гринбековский" период, опубликованным в 1903 и 1908 годах, он обратился к исследованиям колебаний деловой активности, и в 1913 году опубликовал фундаментальную работу о Деловых циклах [Wesley Clair Mitchell, Business Cycles (Berkeley,Calif.: University of California Press, 1913) -- амер. изд.], которая быстро обрела статус классической работы, и повлияла на развитие в этой области в следующие 20 лет больше, чем любая другая работа. Эта тема осталась главной для Митчелла, и ей он посвятил большую часть всех своих последующих работ. Его последующий вклад в эту область представлен как его собственными публикациями, так и работами его учеников и сотрудников, которых он направлял и поддерживал, и деятельностью созданной им исследовательской организации. Расположившееся в Нью-Йорке Национальное бюро экономических исследований, которое он основал после Первой /мировой/ войны, является, по-видимому, наилучшим среди заведений такого рода. Митчелл не только в течении 25 лет руководил всей деятельностью этой организации, но и лично направлял серию специальных исследований делового цикла, которые должны были развить и уточнить сделанное им прежде. Первый том этой большой работы появился в серии публикаций бюро в 1927 году под названием Business Cycles: The Problem and its Setting [Wesley Clair Mitchell, Business Cycles: The Problem and its Setting (New York: National Bureau of Economic Research, 1927) -- амер. изд.]. Второй том, под названием Measuring Business Cycles [Arthur F. Burns and Wesley Clair Mitchell, Measuring Business Cycles (New York: National Bureau of Economic Research, 1946) -- амер. изд.], написанный в соавторстве с д-ром А.Ф. Бернсом, который позднее сменил его на посту директора Бюро [Arthur Frank Burns (1904--1987), позднее председатель Управления Федерального Резерва, 1970--1978 гг. -- амер. изд.], появился только в 1946 году. Следующий том, который должен был подытожить четвертьвековое развитие в этой области, был, как говорят, практически завершен незадолго до смерти Митчелла. [Опубликовано посмертно под названием What Happens During Business Cycles: A Progress Report (New York: National Bureau of Economic Research, 1951) -- амер. изд.] Но интересы и деятельность Митчелла были гораздо многообразнее, чем можно представить по этому краткому очерку. В течении долгих лет он много времени посвящал выполнению общественного долга. И хотя, скорее всего, его запомнят как автора научных открытий, философский подход к миру сказывался в нем столь же сильно, как и профессиональный взгляд на вещи. Вопрос о роли и значении общественных наук, об их функции в общественной жизни был для него столь же важным, как и проблемы той области, в которой он работал профессионально, постоянно исследуя возможности новых подходов. Сборник его эссе, опубликованный в 1937 году под названием The Backward Art of Spending Money [Wesley Clair Mitchell, The Backward Art of Spending Money, and Other Essays (New York: McGraw Hill, 1937) -- амер. изд.], дает, пожалуй, наилучшее представление о широте его интересов и о природе его методологических представлений. Равным образом сборник эссе, посвященный его памяти учениками и сотрудниками два года назад [Economic Essays in Honor of Wesley Clair Mitchell (New York: Columbia University Press, 1935) -- амер. изд.], свидетельствует, некоторым образом, о влиянии его идей. Даже для того, кто совсем поверхностно знал Митчелла, не трудно понять, как это влияние должно было усиливаться обаянием его личности, и поразительным примером безусловной преданности выбранному научному идеалу. Глава первая. Австрийская школа теоритической экономикиОпубликовано как "Economic Thought: The Austrian School" в International Encyclopedia of the Social Sciences (London: Macmillan; New York: The Free Press, 1968), vol. 4, pp. 458--462. Несколько иная версия статьи была опубликована в 1965 году как "Weiner Schule" in Handworterbuch der Sozialwissenschaften, vol. 12 (Stuttgart: Gustav Fisher; Tubingen: J.C.B. Mohr (Paul Siebeck); Gottingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1965). В версии, опубликованной здесь, восстановлены несколько параграфов и фраз, опущенных при последующих публикациях. Примерно в 1982 году Хайек начал писать статью об австрийской школе для The New Palgrave: A Dictionary of Economics, ed. John Eatwell, Murray Milgate and Peter Newman (London: Macmillan, 1987), но эта статья так и не была закончена. Набросок статьи был использован проф. Израилем М.Кирцнером из Нью-Йоркского университета как источник для собственного эссе, которое появилось в свет под заглавием "Austrian School of Economics" в New Palgrave, vol. 1, pp. 145--150. Черновик статьи Хайека для нового словаря большей частью повторяет материалы глав, расположенных в части I этого тома, но один раздел, в котором описывается период, прошедший после написания этой главы, включен здесь как Приложение. Также несколько параграфов и фраз из наброска для New Palgrave, содержащие новую информацию или точку зрения, добавлены как примечания к тексту этой главы и главы 4. -- амер. изд. Теория ценностей до 1871 года "Маржиналистская революция" 1870-х годов по общему признанию является важным шагом в развитии экономической теории. Тем, кто начал учебу прямо с достигнутых ею результатов, трудно понять, почему столь очевидные и простые идеи, на которые и прежде натыкались многие мыслители, смогли оказать столь глубокое воздействие, когда В.С. Джевонс, Карл Менгер и Леон Вальрас независимо друг от друга и почти одновременно [Менгер и Джевонс в 1871 году, а Вальрас в 1874 году. <Вильям Стенли Джевонс (1835--1882), профессор логики и философии в Оуэнс колледже, в Манчестере, автор The Theory of Political Economy (London and New York: Macmillan, 1871). Леон Вальрас (1834--1910) профессор в Академии (позднее университет) в Лозанне, Швейцария, в 1870--1892 годах, создатель современной общей теории равновесия. Последние исследования по истории маржиналистской революции склонны подчеркивать не сходство, но различие в подходах Менгера, Джевонса и Вальраса. В особенности это выражено у Erich Streissler, "To What Extent Was the Austrian School Marginalist?", History of Political Economy, vol. 4, Fall 1972, pp. 426--441, and William Jaffe, "Menger, Jevons and Walras De-homogenized", Economic inquiry, vol. 14, December 1976, pp. 511--524. -- амер. изд.>] заново открыли их, и еще сложнее понять, как основанная Менгером традиция смогла столь глубоко повлиять на экономическую теорию на протяжении жизни всего двух поколений. Чтобы объяснить это, нужно установить различие, которое обычно выражают -- и неадекватно -- как различие между "объективной" и "субъективной" теориями ценности. Поскольку очевидно, что ценность есть свойство некоторых вещей или услуг, казалось естественным искать источник ее в некотором свойстве или свойствах определенного объекта. В физических науках такой подход оказался вполне успешным, а поэтому казалось также разумным предположение, что объекты одинаковой ценности должны иметь и другие общие "внутренние" свойства. Конечно, зачастую было ясно, что решающим фактором может быть нечто, коренящееся не в объекте самом по себе, но в отношении человека к этому объекту. Со времен средневековых схоластов (и даже со времен Аристотеля) опять и опять отмечали, что объект, чтобы обладать ценностью, должен быть полезным и редким. [О вкладе поздних схоластиков, особенно ученых XVI и XVII веков, принадлежавших к школе Саламанки, Испания, и их места как предшественников австрийской школы, см. отличное исследование, опубликованное под неудачным заглавием Cristians for Freedom: Late-Scholastic Economics (Alejandro Chafuen, San Francisco: Ignatius Press, 1986). Также см. Raymond de Roover, Business, Banking and Economic Thought in Late Medieval and Early Modern Europe (Chicago: University of Chicago Press, 1974). -- амер. изд.] Но эту идею редко разрабатывали систематически (хотя надо сделать исключение для величайшего из предшественников современной теории Фердинандо Галиани в его Della moneta 1750 года [Ferdinando Galiani, Della moneta (Naples: G. Raimondi, 1750); переведено Peter R. Toscano как On Money (Ann Arbor, Mich.: Published for the Department of Economics, University of Chicago, by University Microfilms International, 1977). -- амер. изд.]), и никогда не доводили рассуждение до осознания того, что имеет значение не просто отношение человека к какой-то вещи или классу вещей, но положение этой вещи в целостной структуре средств-целей -- в целостной схеме, с помощью которой люди определяют, как распределять доступные им ресурсы между различными целями. То истолкование ценности, которое сделало работы Менгера и его учеников столь непосредственно действенными, возникло в результате терпеливого анализа природы экономического выбора при всех возможных видах взаимоотношений между различными средствами и различными целями. Хотя Джевонс и Вальрас предложили для решения старых парадоксов ценностных отношений не менее верные решения, для большинства современных им экономистов эти решения оказались недоступными из-за математизированного способа изложения. Более того, эти авторы сами воспринимали решение парадокса полезности как простой предварительный шаг, который нужно быстро оставить позади, чтобы перейти к главному, к объяснению того, как выявляется ценность в отношениях обмена. Австрийцы, напротив, сделали своей центральной темой полный анализ условий оценки, вне зависимости от возможности обмена, так что позднее им пришлось защищаться от обвинений, что для них предельная полезность являлась непосредственным объяснением цены. Конечно же, объясняющая это субъективная ценность есть только первый шаг ко второй стадии, к теории цен. На континенте подход через полезность -- cum -- редкость является значимой традицией со времен Галиани, и существенные результаты были получены в таких работах как E.B. de Condillac, Le commerce et le gouvernement, 1776 [Etienne Bonnot de Condillac, Le commerce et le gouvernement, ouvrage elementaire, par l'abbe de Condillac (Amsterdam: n.p., 1776)], Louis Say, Considerations sur l'industrie, 1822 [Louis August Say, Considerations sur l'industrie et la legislation (Paris: J.P. Aillaud, 1822) <Луис Август Сей (1774--1840), брат Жан-Батиста Сея, торговал сахаром. -- амер. изд.>], Auguste Walras, De la nature de la richesse, 1831 [Auguste Walras, De la nature de la richesse (Paris: Furne, 1832) <Антуан Август Вальрас (1801--1866), отец Леона Вальраса, был профессором философии в Королевском колледже Лилля и Каены. -- амер. изд.>], Jules Dupuit, De la mesure de l'utilite des travaux publics, 1844 [Jules Dupuit, De la mesure de l'utilite des travaux publics (Paris: Imprimerie de Poupart-Davyl, 1844) <Переведено и опубликовано в сборнике Kenneth Arrow and Tibor Scitovsky, eds, Readings in Welfare Economics (Homewood, Ill.: R.D. Irwin, for the American Economic Association, 1969). О Дюпюи (1804--1866) см. главу 6 в The Trend of Economic Thinking, in vol. 3 Collected Works of F.A. Hayek. -- амер. изд.>], и, наконец, в замечательной, но в свое время совершенно не замеченной работе H.H. Gossen, Entwicklung der Gesetze des menschlichen Verkehrs, 1854 [Hermann Heinrich Gossen, Entwicklung der Gesetze des menschlichen Verkehrs, новое издание (Berlin: R.L.Praeger,1889) <Переведено Rudolph C. Blitz как The Laws of Human Relations and the Rules of Human Action Derived Therefrom, со вводной статьей Nicholas Georgescu-Roegen (Cambridge, Mass.: MIT Press, 1983). Хайек рассматривает работу Госсена в главе 15 The Trend of Economic Thinking, op. cit. В неоконченном эссе для словаря New Palgrave, Хайек дополняет этот список именами F.B.W. Hermann, Staatswirtschaftliche Untersuchungen (Munich: A. Weber, 1832) и Hans von Mangoldt, Grundris der Volkswirtschaftlehre (Stuttgart: J. Maier, 1863), добавляя, что "в Германии, так же как и во Франции, рикардианская трудовая теория ценности никогда не господствовала столь полно", как в Британии. -- амер. изд.>]. С другой стороны, в Англии гораздо более развитая система классической политической экономии оказалась соединенной с "объективной" теорией ценности, и традиция анализа с точки зрения полезности сохранилась только в форме подавленного протеста, который нашел выражение в 1834 году в опубликованной W.F. LLoyd, The Notion of Value [William Forster LLoyd, A Lecture on the Notion of Value (London: Roake and Varty; Oxford: J.H. Parker, 1834)]. Но все совершенно завязло, когда в 1848 году Д.С. Милль в своих Principles of Political Economy не только воспроизвел классический подход, но и спокойно объявил: "К счастью, в законах ценности не осталось ничего неясного, что нуждалось бы в прояснении; теория субъекта завершена" [John Stuart Mill, Principles of Political Economy, with Some of Their Applications to Social Philosophy (Boston: Little & Brown, 1848), book 3, chapter 1, section 1]. Менгер и основание школы В то время как Джевонс (опередивший Менгера со своим предварительным наброском теории ценности, основанной на "конечной полезности", на 9 лет [имеется в виду работа Джевонса "Brief Account of a General Mathematical Theory of Political Economy", которая была зачитана перед Британской Ассоциацией, секция F, в Кембридже, в октябре 1862 года, опубликована в Journal of the Statistical Society of London, vol. 29, 1866, pp. 282--287, и повторно издана как Приложение к последующему изданию Theory of Political Economy -- амер. изд.]) создавал свою концепцию в прямой оппозиции к господствующей доктрине, и Менгер и Вальрас имели возможность созидать свое учение, опираясь на богатую литературную традицию, благоприятную для подхода с позиций полезности. Но в Вене, где работал Менгер, не существовало большого интереса к экономической теории. В то время в Венском университете экономику преподавали немцы, ориентированные главным образом на социологию. [Но в незавершенной статье для New Palgrave Хайек цитирует неопубликованную диссертацию, защищенную в Оксфорде в 1982 году Klaus H. Hennings, из которой следует, что может быть именно один из немецких профессоров Albert E.F. Schaffle (1831--1903) подтолкнул Бем-Баверка и Визера, в их бытность студентами, к изучению идей Менгера. -- амер. изд.] Таким образом, быстрое развитие отдельной австрийской школы было результатом исключительно усилий Менгера -- хотя это и совпало с ростом научного уровня Венского университета в ряде других областей, что превратило его на следующие 50 или 60 лет во влиятельный интеллектуальный центр. [В своем наброске для New Palgrave Хайек пишет: "Поскольку поразительное число "Венских" или "Австрийских" школ получили международную известность в начале этого века, следует указать, что в общем-то эти школы имели мало общего, а в некоторых случаях их развитие сопровождалось острыми взаимными конфликтами. Именно такими были взаимоотношения между австрийской экономической школой и школами логического и правового позитивизма. Экономическая и психоаналитическая школы никак не соприкасались, а австрийские экономисты и австромарксисты, естественно, постоянно враждовали." -- амер. изд.] Карл Менгер был чиновником канцелярии премьер-министра в Вене, когда в возрасте 31 года он опубликовал свою первую и основную работу Principles of Economics. [Carl Menger, Grundsatze der Volkvirtschaftlehre, op. cit. На титульном листе был подзаголовок "Erster, Allgemeiner Teil" ("Первая часть. Введение"). Книга вскоре была распродана и стала труднодоступной.] Это была первая часть задуманного трактата, который так никогда и не появился. В работе рассматривались общие условия, создающие экономическую деятельность, ценность, обмен, цены и деньги. Работа оказалась столь влиятельной потому, что предложенное в ней объяснение ценности возникало в результате анализа условий, определяющих распределение редких благ среди конкурирующих пользователей, а также того, как различные блага конкурируют или соединяются ради удовлетворения различных нужд -- короче говоря, из объяснения того, что я выше обозначил как "структура средств-целей". Это тот самый анализ, который и должен предшествовать теории ценностей. Фридриху фон Визеру довелось систематически развить этот подход в vorwerttheoretische части экономической теории, что и сделало австрийский вариант анализа с позиций предельной полезности столь хорошей базой дальнейшего развития. Из этого анализа развилась большая часть того, что сегодня известно как логика выбора, или "экономических вычислений" ("economic calculus"). Изложение Менгера характеризуется, вообще-то, скорее обилием кропотливых деталей и неутомимым стремлением к подчеркиванию существенных моментов, чем элегантностью или использованием графики для иллюстрации выводов. Изложение хотя неизменно ясное, но утомительное, и сомнительно, смогло бы это учение когда-либо привлечь широкое внимание именно в таком изложении. Однако ему повезло в том, что он нашел жадных и одареных читателей в лице двух молодых людей, которые окончили Венский университет незадолго до того, как Менгер стал профессором. Они решили посвятить свою жизнь совершенствованию этого учения. Идеи Менгера получили развитие и распространение большей частью благодаря трудам Евгения фон Бем-Баверка и Фридриха фон Визера, двух однокашников, породнившихся впоследствии. [Менгер стал auserordentlicher Professor в Венском университете в 1873 году и Ordinarius в 1879 году. Бем-Баверк и Визер, бывшие примерно на 11 лет моложе его, начали с ним работать в Вене в начале 1880-х годов. <Бем-Баверк занимал кафедру профессора в Иннсбруке и трижды занимал пост министра финансов прежде чем он принял пост профессора в Вене, где вел свой знаменитый семинар по экономической теории. Наиболее известны следующие работы: Kapital und Kapitalzins (1884--1912), переведенный George D. Huncke and Hans F. Sennholz как Capital and Interest, 3 vols (South Holland, Ill.: Libertarian Press, 1959), и "Zum Abschlus des Marxschen Systems" в Staatswissenschaftliche Arbeiten, Festgaben fur Karl Knies (Berlin: Haering, 1896), переведенная как Karl Marx and the Close of His System (London: Fisher Unwin, 1898), и повторно издана в сборнике Paul Sweezy, ed., Karl Marx and the Close of His System and Bohm-Bawerk's Criticism of Marx (New York: Augustus M. Kelley, 1949). О Визере (1851--1926), который унаследовал кресло Менгера после выхода того на пенсию в 1903 году, см. главу 3 этого тома. -- амер. изд.>] Постепенно, уже в 1880-х годах, после появления их основных работ, к ним присоединились другие преподаватели и экономисты. Особенного внимания заслуживают Emil Sax (1845--1927), Robert Zuckerhandl (1856--1926), Johann von Komorzynski (1843--1912), Viktor Mataja (1857--1933) и Robert Meyer (1855--1914). Немного позже к ним примкнули Hermann von Schullern zu Schrattenhofen (1861-1931) и Richard Schuller (1871-1972). В 1889 году, в котором сконцентрировалось громадное количество важнейших публикаций этой группы, появился также важный теоретический трактат, написанный двумя венскими бизнесменами, Рудольфом Ауспитцем и Ричардом Либеном Untersuchungen uber die Theorie des Preises [Rudolf Auspitz and Richard Lieben, Untersuchungen uber die Theorie des Preises (Leipzig: Duncker & Humblot, 1889)]. Но в список работ австрийской школы эту можно включить только условно. Она наметила движение по параллельной, но совершенно независимой линии, и результатом чрезмерной математизированности изложения стало то, что значимость текста, чрезмерно трудного для восприятия современных экономистов, была оценена много позже. Для распространения учения школы очень важным оказалось то, что другой венский профессор Евгений фон Филиппович фон Филиппсберг (1858--1917), который сам не был деятельным теоретиком, включил изложение доктрины предельной полезности в очено популярный учебник Grundris der politischen Okonomie. [Eugen von Philippovich von Philippsberg, Grundris der politischen Okonomie (Freiburg: J.C.B. Mohr, 1893). Филиппсберг был ordinarius в Венском университете с 1893 по 1917 год. <См. статью Хайека о Филиппсберге в International Encyclopedia of the Social Sciences, op. cit., vol. 11, p. 116. -- амер. изд.>] Более двадцати лет после публикации этот учебник оставался самым популярным в Германии, и был чуть ли не единственным средством познакомиться с доктриной предельной полезности. [В Германии в XIX веке учебники были особенно важны, потому что университетские профессора предпочитали публиковать свои идеи именно так, а не в форме монографий, что было обычной практикой в Британии. См. Erich Streissler, "The Influence of German Economics on the Work of Menger and Marshall", в Carl Menger and his Legasy in Economics, op. cit., pp. 31--68, esp. p. 32. -- амер. изд.] В других странах, особенно в Англии, в Соединенных Штатах, в Италии, Нидерландах и в Скандинавских странах основные экономические публикации австрийской школы сделались известными раньше, частично с помощью переводов на английский язык. [В наброске для New Palgrave Хайек перечисляет имена тех, кто многим обязан влиянию австрийской теории ценности: James Bonar и William Smart в Англии; Irving Fisher, Frank A. Fetter, T.N. Carver и Herbert J. Davenport в США, Maffeo Pantaleoni в Италии; Charles Rist во Франции; N.G. Pierson в Голландии; Knut Wiksell в Швеции. -- амер. изд.] Может быть важнейшим среди иностранных сторонников был современник Бем-Баверка и Визера швед Кнут Виксель. Хотя сам он многое заимствовал у Вальраса, Виксель смог написать в 1921 году, что "со времен Principles Рикардо не было другой книги -- не исключая блистательного, но отчасти нестрогого сочинения Джевонса и чрезмерно трудной, к сожалению, работы Вальраса -- которая бы оказала столь же большое влияние на развитие экономической теории, как Grundsatze Менгера". [Wicksell (1851--1926) известен как пионер в развитии теории капитала и процента, а также в разработке денежной теории делового цикла. Считают, что он ввел столь важное для австрийского учения о колебании предпринимательской активности различение между "естественными" и "банковскими" ставками процента. В данном случае цитируется эссе Викселля "Carl Menger" в Ekonomisk Tidskrift, 1921, pp. 113--124, в Selected Papers on Economic Theory, ed. Erik Lindahl (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1958), p. 191. -- амер. изд.] Вклад Бём-Баверка и Визера Для теоретического развития идей Менгера важнейшими событиями были истолкование Визером издержек как пожертвованной полезности (или, как ее позднее обозначили, концепция "альтернативных издержек") и теория определения ценности факторов производства через "вменение" (Zurechnung). (Последний термин, так же как и термин Grenznutzen -- "предельная полезность" -- был введен Визером). Вклад Бем-Баверка в собственно теорию ценности заключается, главным образом, в живости изложения и большой одаренности полемиста. Важнейшим из его оригинальных изобретений была теория капитала и процента, которая была принята далеко не всеми членами школы. [Говорят, что Менгер называл теорию капитала Бем-Баверка "величайшей ошибкой" (цитируется у Шумпетера в History of Economic Analysis (New York: Oxford University Press, 1954), p. 847, note 8). О несогласии Менгера с Бем-Баверком см. A.M. Endres, "The Origins of Bohm-Bawerk's "Gratest Error": Theoretical Points of Separation from Menger", Journal of Institutional and Theoretical Economics, vol. 143, 1987, pp. 291--309, и Roger W. Garrison, "Austrian Capital Theory: The Early Controversies", в Carl Menger and his Legasy in Economics, op. cit., pp. 133--154. -- амер. изд.] В целом можно сказать, что в рамках школы так никогда и не возникло строго ортодоксальной теории, но каждый по своему развивал идеи Менгера. Это в особенности относится к Бем-Баверку и Визеру, которые представляли во многом различные типы интеллектуальности [о двух типах интеллектуальности см. эссе Хайека "Two Types of Mind", chapter 3 of The Trend of Economic Thinking, vol. 3 of The Collected Works of F.A. Hayek -- амер. изд.], и положили начало двум ясно различимым традициям. Бем-Баверка отличали логическая последовательность мышления, мастерство полемиста и, одновременно, большой практический опыт (он трижды был австрийским министром финансов). Ему доставало способности соотнести свою работу со всей совокупностью экономической традиции, и он всегда был готов учитывать взгляды других. Поэтому во многих отношениях он оставался ближе к учению Менгера, чем Визер, который после первоначального периода ученичества развивался во многом самостоятельно. В результате его работы очень индивидуальны, и хотя в некоторых случаях (как, например, в анализе значения различных типов монополии) он наметил последующее развитие, в других, как в случае с его идеей о возможности вычислять и сравнивать межличностные индексы полезности, его идеи были позднее отброшены. Его работа Social Economics [Friedrich von Wieser, Theorie der gesellschaftliche Wirtschaft, in Grundris der Sozialokonimik (Tubingen: J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), 1914), перевод A. Ford Hinrichs: Social Economics (New York: Greenberg, 1927)], которая является единственным полным и систематическим изложением ранних идей школы Менгера, не может, в силу этого, рассматриваться как каноническая, хотя и представляет несомненный личный вклад Визера. Споры с исторической школой Карл Менгер был очень толковым учителем, и через своих многочисленных учеников, а также благодаря собственному участию в дискуссиях по поводу экономической и финансовой политики он оказывал существенное воздействие на общественную жизнь Австрии. Если его вклад в развитие чистой теории после публикации первой работы оказался незначительным, то главным образом из-за погруженности в Methodenstreit, в спор о методологии с лидером молодой немецкой исторической школы Густавом Шмоллером. [Gustav von Schmoller (1838--1917) профессор университетов в Галле, Страсбурге и Берлине, лидер молодой немецкой исторической школы или Kathedersozialisten (кафедральные социалисты). О Methodenstreit см. Людвиг фон Мизес, The Historical Setting of the Austrian School of Economics (Auburn, Ala.: Ludwig von Mises Institute, 1984), и Samuel Bostaph, "The Methodological Debate Between Carl Menger and the German Historicists", Atlantic Economic Journal, vol. 6, September 1978, pp. 3--16. -- амер. изд.] Книга Менгера прошла в Германии малозамеченной главным образом потому, что господствовавшая историческая школа почти устранила экономическую теорию из учебных программ университетов Германии. Это делает понятным, почему для Менгера было столь важным доказать необходимость теоретических исследований. На это и была нацелена его работа Problems of Economics and Sociology [Karl Menger, Untersuchungen uber die Method der Sozialwissenschaften und der politischen Oekonomie insbesondere, op. cit. <теперь переводится как Investigations into the Method of the Social Sciences, with Special Reference to Economics-- амер. изд.>], которая в некоторых отношениях стала столь же важной для развития австрийской школы, как и его ранняя Grundsatze, хотя даже собственная школа не принимала целиком его методологические взгляды. Но систематическая разработка того, что Шумпетер позднее назвал "методологическим индивидуализмом" [Joseph A. Schumpeter, Das Wesen und der Hauptinhalt theoretischen Nationalokonomie (Leipzig: Duncker & Humblot, 1908) <Отрывок из этой работы был опубликован на английском как памфлет под названием Methodological Individualism (Brussels: Institutum Europaeum, 1980). Предисловие Хайека к этому памфлету воспроизводится в данном томе, глава 5. Методологический индивидуализм, превратившийся в догмат современной неоклассической экономической теории и австрийской школы, представляет собой просто напросто убеждение, что все общественно-научные объяснения должны основываться на планах и решениях отдельного человека. "Методологический индивидуализм представляет собой подход, который позволяет рассматривать как объяснение любых социальных явлений только решения отдельного человека ... Он не допускает объяснений, в которых источниками принимаемых решений оказываются институты, погода или даже историческая судьба." Lawrence A. Boland, The Foundations of Economic Method (London: Heinemann, 1973), pp. 185--212, и Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics (third revised edition, Chicago: Henry Regnery, 1966), pp. 41--43. -- амер. изд.>], и анализ эволюции общественных институтов (с возрождением идей Бернарда Мандевилля [см. эссе Хайека "Dr. Bernard Mandeville", chapter 6 of The Trend of Economic Thinking, op. cit. -- амер. изд.] и Дэвида Юма) оказали глубокое воздействие на всех членов школы, а позднее и на гораздо более широкие круги. По сравнению с этим стычки с Шмоллером оказались существенно менее важными, хотя в то время они порождали страстный обмен мнениями, в котором участвовали ученики с обеих сторон. Этот спор породил такой раскол между двумя группами, что университеты Германии оказались заполоненными почти исключительно членами исторической школы, а университеты Австрии -- членами школы Менгера. Третье и четвертое поколения В 1903 году Менгер преждевременно устранился от преподавания, а поэтому его прямое влияние на формирование третьего поколения австрийской школы, которое пришлось на последнее предвоенное /Первой мировой/ десятилетие оказалось незначительным. Эти годы, когда в Вене преподавали Бем-Баверк, Визер и Филиппович, оказались для школы периодом наивысшей славы. Особенно замечательным был семинар Бем-Баверка, который стал центром теоретических дискуссий и откуда вышли ведущие представители третьего поколения. Среди них особенно следует отметить Людвига фон Мизеса (1881--1973), который продолжил традицию Бем-Баверка, и Ганса Майера (1879--1955) [в неоконченной статье для New Palgrave Хайек пишет, что Майер "был безусловно весьма одаренным, но эмоционально болезненным человеком, который изрядную часть своей энергии расходовал на долгие баталии со своим коллегой Отмаром Шпаном. Помимо монументальной работы о состоянии современной экономической теории, которую он издал в четырех томах под названием Die Wirtschaftstheorie der Gegenwart (Vienna: J. Springer, 1927--1932), он оставил только ряд очень глубокомысленных эссе, содержание которых, пожалуй, еще не раскрыто до конца." О Майере и Шпанне см. Craver, op. cit., pp. 5--13 -- амер. изд.], который продолжил традицию Визера. (Franz X. Weiss (1885--?) строже придерживался традиции Бем-Баверка.) Йозеф Шумпетер (1883--1950), хотя многим обязанный Бем-Баверку, воспринял столь много разных влияний (особенно Лозанской школы [имеются в виду экономисты из Лозаннского университета Вальрас и Парето; о Лозаннской школе см. Claude Menard, "The Lausanne Tradition: Walras and Pareto", в Klaus Hennings and Warren Samuels, eds., Neoclassical Economic Theory, 1870 to 1930 (Boston, Dordrecht and London: Kluwer, 1990), pp. 95--136 -- амер. изд.]), что его нельзя вполне считать членом этой группы. То же может быть сказано про Alfred Amonn (1883--1962), который был близок к английской классической традиции. Несколько моложе, но вполне активными в Вене были Ричард фон Стригл (1891--1942), Эвальд Шамс (1889--1955) и Leo Illy (1888--1952), первоначальным именем которого было Leo Schonfeld. [К этим именам, может быть, следует добавить одного из первых представителей школы в Германии (после H. Oswalt), а именно Wilhelm Vleugels (1893--1942). <Среди других хорошо известных участников семинара Бом-Баверка были марксистские теоретики Отто Бауэр (1881--1938) и Рудольф Гильфердинг (1877--1941). Со временем Гильфердинг написал знаменитый ответ на работу Бом-Баверка Karl Marx and the Close of his System, а именно "Bohm-Bawerk's Marx-Kritik", в vol. 1 of the series Marx-Studien (Vienna: I. Brand, 1904), translated by Eden and Gedar Paul as Bohm-Bawerk's Criticism of Marx (Glasgow: Socialist Labour Press, n.d.) and reprinted in Paul Sweesy, ed., Karl Marx and the Close of his System and Bohm-Bawerk's Criticism of Marx, op. cit. О Бауере и Гильфердинге см. Emil Kauder, "Austro-Marxism vs. Austro-Marginalism", History of Political Economy, vol. 2, no. 2, 1970, pp. 398--418, и Mark E. Blum, The Austro-Marxists (Lexington, Ky.: University Press of Kentucky, 1985). -- амер. изд.>] Венская школа еще раз проявила свою плодотворность в 1920-х годах, когда Ганс Майер и Людвиг фон Мизес (а в течении некоторого времени и Фридрих фон Визер) учительствовали в Вене. В это время появилось четвертое поколение, в рядах которого оказалось необычно большое число молодых теоретиков, приобретших впоследствии широкую известность. Среди них были Готфрид Хаберлер (1896--?), Фриц Махлуп (1902--1983), Александ Мар (1896--?), Оскар Моргенштерн (1902--1977), Пауль Н. Розенштейн-Родан (1902--1985), и автор этой статьи. Большинство проявили себя позднее в Соединенных Штатах. Но если по стилю своего мышления и по направленности интересов это четвертое поколение все еще отчетливо проявляет свою принадлежность к Венской традиции, этих людей уже нельзя рассматривать как отдельную школу, в смысле принадлежности к определенной доктрине. Величайшим успехом школы является ситуация, когда она перестает существовать, потому что ее основные идеалы становятся частью общего господствующего учения. На долю Венской школы выпал как раз такой успех. Ее развитие привело к слиянию потока мысли, начало которому положил Менгер, с течениями, начало которым положили Джевонс (через Филиппа Г. Викстеда [Philip Henry Wicksteed (1844--1927) -- унитарианский проповедник, писатель и лектор в Англии, автор The Common Sense of Political Economy (London: Macmillan, 1910; second edition, edited by Lionel Robbins, London: Routledge & Kegan Paul, 1933) -- амер. изд.]), Леон Вальрас (через Вилфреда Парето [Vilfredo Pareto (1848--1923) вслед за Вальрасом занимал кафедру политической экономии в Лозанском университете, Швейцария -- амер. изд.]), и, в особенности, с главными идеями Альфреда Маршалла [Alfred Marshall (1842--1924) профессор политической экономии в Кембриджском университете, основатель "Кембриджской школы", включавшей его самого, А.С. Пигу и Джона Мейнарда Кейнса; учебник Маршалла Principles of Economics между 1890 и 1920 годами выдержал 8 изданий -- амер. изд.]. Но если целостная структура современной теории, как ее преподают сегодня в большинстве центров западного мира, в наибольшей степени отражает влияние традиции, восходящей к работам Маршалла, и при этом даже ее краеугольная опора -- теория цен и ценности -- в последние десятилетия претерпела изменения, которые сильно изменили ее форму, то сами эти изменения представляли собой последовательное продолжение фундаментальных принципов, заложенных Венской школой. Приложение: В Британии и Соединенных Штатах Лишь автор этой статьи, самый старший в четвертом поколении, которое сформировалось в Privatseminar Мизеса, сыгравшем для них такую же роль, что и Бем-Баверк для третьего поколения, был действительным учеником и участником последнего семинара Визера. Готфрид фон Хаберлер, Фриц Махлуп, Оскар Моргенштерн и Пауль Н. Розенштейн-Родан, бывшие чуть моложе автора, поддерживали с ним тесный контакт, поскольку многие годы работали в том же здании. Под влиянием Мизеса и при постоянном участии ровесников -- философов, социологов и исследователей политики -- Альфреда Шульца, Феликса Кауфмана и Эрика Фогелина -- шли дискуссии главным образом о проблемах метода и философской природе общественных наук. С начала 1930-х годов эта Венская группа начала получать существенную поддержку и буквально расширилась в результате того, что Лайонел С. Роббинс, новый профессор Лондонской школы экономической теории, включил в свой курс то, что прежде было исключительной принадлежностью австрийской традиции. Были еще два источника существенного влияния на ее дальнейшее развитие. Первым была вполне удачная система экономической теории, развитая единственным значительным последователем В.С. Джевонса П.Г. Викстедом в его Common Sense of Political Economy [Philip H. Wicksteed, The Common sense of Political Economy, op. cit.], а вторым был родственный по духу обзор современного состояния микроэкономической теории, содержащийся в первых четырех главах исследования Risk, Uncertainty and Profit Чикагского профессора Френка Г. Найта [Frank H. Knight, Risk, Uncertainty and Profit (Boston: Houghton Mifflin, 1921)]. Частью тех же усилий было приглашение Роббинсом автора этих строк в 1931 году в качестве профессора Лондонской школы экономической теории, в результате чего совместный семинар Роббинса--Хайека стал в 1930-х годах еще одним центром развития того, что прежде было исключительно австрийской традицией. Наиболее влиятельная работа самого Роббинса The Nature and Significanse of Economic Science [Lionel Robbins, An Essay on the Nature and Significanse of Economic Science (London: Macmillan, 1932)] обеспечила превращение методологического подхода к микроэкономической теории, развитого австрийской школой, в общепризнанный стандарт. Не менее важным было достижение Д.Р. Хикса, который развил то, что можно рассматривать как окончательную формулировку анализа ценности с позиций предельной полезности в концепции предельного уровня замещения, основанной на технике кривых безразличия, внедренной Ирвингом Фишером и Ф.И. Эджвортом [J.R. Hicks and R.G.D. Allen, "A Reconcideration of the Theory of Value", Economica, N. S., vol. 1, 1934, pp. 52--76 (part I) and 196--219 (part II), и Hicks, Value and Capital (Oxford: Clarendon Press, 1939)]. Эта концепция изменяющихся уровней замещения или эквивалентности, совершенно не зависящая от каких-либо концепций измеряемой полезности, вполне может рассматриваться как итог более чем полувековых споров в русле австрийской школы [однако в целом австрийцы не приняли технику кривых безразличия, которая предполагает постоянство порядка индивидуальных предпочтений; хорошо известные примеры можно найти у Murray N. Rottbard, "Toward a Reconstruction of Utility and Welfare Econimics", в Mary Senholz, ed. On Freedom and Free Enterprise: Essays in Honor of Ludwig von Mises (Princeton, N.J.: D. Van Nostrand, 1956), pp. 224--262 -- амер. изд.], тогда как дальнейшие уточнения, предложенные П.А. Самуэльсоном [Paul A. Samuelson, Foundations of Economic Analysis (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1947)], едва ли могут быть отнесены к австрийской традиции. Другой отчетливый вклад в эту ветвь австрийской традиции представляет изданная в 1973 году работа Дж. М. Бьюкенена и Г.Ф. Тирлби [J.M. Buchanan and G.F. Thirlby, eds, S.E. Essays on Cost (London: Weidenfeld & Nicolson, for the London School of Economics and Political Science, 1973; reprinted, New York and London: New York University Press, 1981)]. В Лондонской группе Г.Л.С. Шакл [George L.S. Shackle (1903) профессор (теперь почетный) Ливерпульского университета, автор ряда работ по теории ожиданий -- амер. изд.] и Л.М. Лахманн [Ludwig M.Lachmann (1906--1991) работал с Шаклом и Хайеком в Лондонской школе экономической теории в 1930-х годах. Позднее преподавал в университете Витватерсренда, Йоханнесбург, и в Нью-Йоркском университете; суммарное изложение его взглядов см. в книгах Capital, Expectations and the Market Process (Kansas City: Sheed Andrews & Mcmeel, 1977), и The Market as an Economic Process (Oxford: Basil Blackwell, 1988) -- амер. изд.] внесли вклад в развитие субъективной традиции, и, таким образом, сыграли существенную роль в американской ветви австрийской школы. В 1934 году Людвиг фон Мизес оставил Вену ради профессорского кресла в Институте международных исследований в Женевском университете (Швейцария), а в 1940 году, опасаясь Гитлера, он переехал в Соединенные Штаты. В то время интеллектуальное сообщество здесь столь же мало было в состоянии симпатизировать явному оппоненту всех социалистических идей, как это было и в Вене, но постепенно он из более или менее символической фигуры в Высшей школе бизнеса Нью-Йоркского университета превратился в весьма влиятельного человека. [Жалованье Мизеса в Нью-Йоркском университете с 1949 по 1962 год платилось целиком из средств фонда Вильяма Волкера, а затем эти платежи осуществляла группа, возглавлявшаяся бизнесменом Лоуренсом Фертигом. Фонд Волкера также субсидировал Хайека на его посту в Комитете по общественной мысли в Чикагском университете. -- амер. изд.] В течении многих лет в Соединенных Штатах австрийскую школу отождествляли с учениками Мизеса. Первыми выдающимися учениками, которые добились весьма почетного положения, были Мюррей Н. Ротбард [Murray N. Rothbard (1926) учился в Колумбийском университете, а затем у Мизеса в Нью-Йоркском университете; он был профессором экономической теории в Бруклинском политехническом институте прежде чем стать заслуженным профессором экономической теории в университете Невады, Лас-Вегас -- амер. изд.] и Израель М. Кирцнер [Izrael M. Kirzner (1930) защитил докторскую диссертацию у Мизеса в Нью-йоркском университете, где он в настоящее время является профессором экономической теории и главой программы по изучению австрийской доктрины -- амер. изд.]. В 1970-х и 1980-х годах группа существенно разрослась, и сегодня наиболее заметен, пожалуй, Томас Соуелл [Thomas Sowell (1936) является старшим исследователем в Гуверовском институте Стенфордского университета; см. обзор Хайека об его работе Knowledge and Decisions (New York: Basic Books, 1980) в Reason, December 1981, pp. 47--49 -- амер. изд.]. Однако Мизес был привержен к строго рациональному утилитаризму больше, чем ранние австрийцы, и эта ориентация не вполне согласовывалась с его фундаментальным субъективизмом, а в особенности с характерным для него отрицанием возможности межличностного сравнения предпочтений или измерения благосостояния. Это снижало убедительность его эпистемологии и его критики социализма. Хотя к третьей четверти ХХ века методология австрийской школы стала господствующей в области микроэкономической теории, затем этот подход был в существенной степени вытеснен из центра профессионального внимания кейнсианской макроэкономикой. Но усилия, порожденные успехом кейнсианского учения, были, с точки зрения австрийского методологического индивидуализма, результатом ошибочного представления о том, чем должно быть научное объяснение очень сложных явлений. Таким образом, австрийская школа вторично оказалась вовлеченной в своего рода Methodenstreit, в котором их противники претендовали на большую свою научность просто в силу более эмпирического характера полученных ими результатов; иными словами, -- просто потому, что они больше зависели от наблюдений и измерений (хотя на этот раз скорее статистических, а не исторических). Ситуация, по крайней мере в Соединенных Штатах, делалась весьма непростой, потому что Мизес, представлявший здесь австрийскую теорию, занял крайнюю позицию в отношении к господствовавшему в то время научному позитивизму. Одновременно, правда, он делал большие уступки англо-американской традиции рационалистического утилитаризма, который вполне встраивался в австрийскую методологическую традицию. В результате теория у него приобрела характер априорно выводимого построения. Против такого результата данный автор, который в то время в целом не сознавал, что он просто развивает забытую часть традиции Менгера, возражал [в "Economics and Knowledge", Economica, N.S., vol. 4, 1937, pp. 33--54 (reprinted in Individualism and Economic Order (London: Routledge & Sons, 1948), а также в нескольких поздних работах; "The Use of Knowledge in Society", American Economic Review, vol. 35, September 1945, pp. 519--530 (также в Individualism and Economic Order, op.cit.); "The Theory of Complex Phenomena", в Mario A. Bunge, ed., The Critical Approach in Science and Philosophy: Essays in Honor of Karl R. Popper (New York: The Free Press, 1964), перепечатано в Studiesin Philosophy, Politics and Economics (Chicago: University of Chicago Press; London: Routledge & Kegan Paul, 1967); и "Competition as a Discovery Procedure", в New Studies in Philosophy, Politics, Economics and the History of Ideas (Chicago: University of Chicago Press; London: Rouledge & Kegan Paul, 1978)], что хотя и в самом деле чистая логика выбора, с помощью которой австрийская традиция интерпретирует индивидуальные действия, является чисто дедуктивной, но как только объяснению подпадает межличностная активность рынка, решающими процессами оказываются процессы перемещения информации между людьми, то есть чисто эмпирические явления (Мизес никогда так и не ответил на эту критику, но точно также он не изменил свою вполне полную и развитую систему). Главным достижением австрийской теоретической школы оказалось то, что она определенно помогла прояснить неизбежные различия между науками, изучающими сравнительно простые явления, вроде механики, которые по необходимости первыми достигли больших успехов, а потому и предстали как парадигма, обязательная для копирования другими науками, и науками о чрезвычайно сложных явлениях, или о структурах, испытывающих влияние большего количества фактов, чем сможет когда-либо охватить научный наблюдатель, и состоящих из объектов не физически наблюдаемых, но теоретически мыслимых -- то есть мыслимых другими людьми. То, что имплицитно присутствовало уже в концепции "невидимой руки" Адама Смита, которая порождала порядок, не доступный пониманию человека [ср. размышления Хайека в "Adam Smith: His Message in Today's Language", chapter 8 of The Trend of Economic Thinking, op. cit. -- амер. изд.], благодаря этому становится прототипом модели, на которой основывается все растущее количество попыток разрешить проблемы устроения /систем/ чрезвычайно сложных порядков. Библиография Работы членов австрийской школы:
Глава два. Карл Менгер (1840-1921)
Эта глава, в целом совпадающая с текстом,
опубликованным в Economica, N.S., vol. 1, November 1934, pp.
393--420, а также как Введение к изданному в 1934 г.
Лондонской школой экономической теории собранию
работ Менгера, была дополнена материалами двух
позднейших публикаций. Во-первых, были добавлены
отрывки из короткой статьи о Менгере, написанной
для International Encyclopedia of the Social Sciences, ed. David L. Sills (New
York: Macmillan and The Free Press, 1968), vol. 10, pp. 124--127. В этой статье
большей частью повторяется материал, уже
содержавшийся в публикуемой статье, но вводятся,
также, некоторые новые соображения и сведения
относительно Methodenstreit, о вкладе Менгера в
микроэкономическую теорию и в то, что позднее
получило название "методологический
индивидуализм". Соответствующие выдержки
здесь включены в виде подстрочных примечаний,
добавленных /американским/ редактором. Сам Хайек
уже в 1965 году откорректировал и дополнил статью
для немецкого издания, и эти добавления также
включены в настоящее издание, как правило в виде
новых примечаний. Краткая история появления этой статьи такова. Впервые она была опубликована на английском в 1934 году как Введение к перепечатке Менгеровской Grundsatze der Volkswirtschaftslehre, к первому из 4 томов серии, включающей основные теоретические работы Менгера и опубликованной Лондонской школой экономической теории под ## 17--20 в ее Series of Reprints of Scarce Works in Economics and Political Science. Эти четыре тома были затем переизданы в Германии как Gesammelte Werke (Tubingen: J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), 1968--1970), и вводная статья Хайека, слегка пересмотренная и исправленная, воспроизводится в переводе на немецкий в первом томе этого издания Менгера. Несколько раньше она была опубликована в Германии в издании H.C. Recktenwald, ed., Lebensbilder groser Nationalokonomen (Cologne: Kiepeneur & Witch, 1965), pp. 347--364. Относительно пересмотренной немецкоязычной версии Хайек пишет: "Я воспользовался работой по редактированию этого перевода, чтобы несколько изменить текст и учесть дружеские советы тех, кто взял на себя труд прочитать черновую версию". При этом были упомянуты имена Friedrich Engel-Janosi, Reginald Hansen, Karl Menger, Ludwig von Mises, Richard Schuller. Как уже отмечено, настоящее издание включает изменения, сделанные в немецком переводе. В первоначальной форме это Введение было воспроизведено в сборнике Henry William Spiegel, ed., The Development of Economic Thought: Great Economists in Perspective (New York: John Wiley; London: Chapman & Hall, 1952), pp. 526--553, а также в 1981 году как Введение к английскому изданию Grundsatze, i.e.,Carl Menger, Princiles of Economics, op. cit. История экономической мысли полна рассказами о забытых предшественниках, работы которых не оказали никакого воздействия, и о которых вспомнили только после того, как кто-то другой сделал их идеи популярными, о поразительных совпадениях и одновременных открытиях, и об исключительной судьбе отдельных книг. Но ни в экономической теории, ни в любой другой отрасли знаний не может быть много историй, когда бы работы автора, революционизировавшего уже сложившуюся науку и получившего признание как новатор, оставались бы столь же мало известными, как работы Карла Менгера. Трудно представить другую ситуацию, когда работа вроде Grundsatze, которая сумела оказать устойчивое и сильное воздействие, оставалась, в силу чисто случайных совпадений, столь мало известной. Не может быть споров о том, что в последние 60 лет [написано в 1934 году -- амер. изд.] почти уникальная роль австрийской экономической школы в развитии теоретической мысли обязана тому фундаменту, который заложил этот человек. Его блестящие последователи Евгений фон Бём-Баверк и Фридрих фон Визер [о Визере см. главу 3 этого издания -- амер. изд.] обеспечили развитие важных элементов системы и завоевали школе репутацию во внешнем мире. Нет никакой несправедливости по отношению к заслугам этих авторов в заявлении, что основные идеи школы полностью и целиком принадлежат Карлу Менгеру. Без этих своих учеников он мог бы остаться сравнительно неизвестным, может быть, он разделил бы судьбу многих блистательных людей, которые предшествовали ему и были забыты, и уж во всяком случае он надолго остался бы неизвестен за пределами немецкоязычных стран. Но то, что является общим для всех членов австрийской школы, что составляет ее особенность и основу для всех последующих работ, это принятие учения Карла Менгера. Независимое и почти одновременное открытие принципа предельной полезности Вильямом Стенли Джевонсом, Карлом Менгером и Леоном Вальрасом слишком хорошо известно, чтобы об этом рассказывать. 1871 год, когда появились работы Джевонса Theory of Political Economy [W. Stanley Jevons, The Theory of Political Economy (London: Macmillan, 1871) -- амер. изд.] и Менгера Grundsatze сейчас вполне оправданно рассматривается как начало современного периода в развитии экономической теории. Хотя Джевонс изложил свои основные идеи девятью годами ранее в лекции (опубликованной в 1866 году) [W. Stanley Jevons, "Brief Account of a General Mathematical Theory of Political Economy", op. cit. -- амер. изд.], которая осталась почти незамеченной, а Вальрас начал публикацию только в 1874 году, но вполне очевидна полная независимость всех трех авторов друг от друга. В сущности, хотя центральные положения их систем, те моменты, которым они сами и их современники придавали наибольшее внимание, были идентичными, сами работы по своей природе и основанию настолько различны, что самой интересной проблемой является следующая: каким образом столь различными путями можно было прийти к схожим результатам. [В короткой статье о Менгере в International Encyclopedia of the Social Sciences, Хайек писал о "Grundsatze", что "здесь, может быть, чрезмерно пространно, но всегда ясным языком отношения между полезностью, ценностью и ценой изложены с неизменно большей ясностью, чем в любой работе Джевонса и Вальраса, которые примерно в то же время заложили основы "маржиналистской революции" в экономике." Недавние работы Эрика Штрейсслера, Вильяма Яффе и других поставили под вопрос сходство подходов Менгера, Джевонса и Вальраса. См. Stressler's "To What Extent Was the Austrian Scholl Marginalist?", op. cit., and Jaffe's "Menger, Jevons and Walras De-homogenized", in his Against Mechanism: Protecting Economics from Science (Totowa, N.J.: Rowman & Littlefield, 1988), pp. 11--30, esp. pp.22--24. -- амер. изд.] Чтобы понять интеллектуальные основы работ Карла Менгера, следует сказать несколько слов об общем состоянии экономической теории в тот период. Хотя четверть века, прошедших между появлением в 1848 году Principles [John Stuart Mille, Principles of Political Economy (Boston: Little & Brown, 1848) -- амер. изд.] Джона Стюарта Милля и возникновением новой школы, были временем величайших достижений классической политической экономии в прикладных областях, ее основания, особенно теория ценности, создавали растущее ощущение ненадежности. Может быть, само по себе систематическое изложение, предпринятое Миллем в его Principles, несмотря на или даже благодаря его самодовольному торжеству по поводу завершенности теории ценности, также как в силу позднейшего отказа от других существенных элементов учения, не меньше чем что-либо иное продемонстрировало неудовлетворительность системы. Как бы то ни было, критические нападки и попытки перестроить систему множились в большинстве стран. Ни в одной стране упадок классической школы экономической теории не был столь быстрым и всесторонним, как в Германии. В результате бешенных атак исторической школы классическое учение оказалось не только совершенно заброшенным -- оно так никогда и не пустило сильных корней в этой части мира -- но к любой попытке теоретического анализа стали относиться с глубоким недоверием. Отчасти причиной тому были методологические соображения. Но в еще большей степени сработала сильная неприязнь к практическим выводам классической английской школы -- которые мешали реформистскому пылу новой группы, гордившейся именем "этическая школа". [Речь идет о Sozialpolitik, германском движении за социальные реформы в XIX веке. Подробнее об этом см. главу 4 этого тома. -- амер. изд.] В Англии был застой в развитии экономической теории. В Германии выросло второе поколение исторических экономистов, которые не только не были по настоящему знакомы с единственной развитой теоретической системой, но приучились рассматривать любого вида теоретические спекуляции как бесполезные, если не положительно вредные. Может быть, доверие к постулатам классической школы было уже слишком подорвано, чтобы служить основой перестройки теории для тех, кто еще сохранял интерес к теоретическим проблемам. Но в работах германских экономистов первой половины прошлого века содержались зерна возможного нового развития. [То же в основном верно для Франции. Это же может быть сказано даже об Англии, где существовала своего рода неортодоксальная традиция, которую совершенно подавляло господствующее влияние классической школы. Но важно ее здесь отметить, потому что работы ее выдающегося представителя Лонгфилда через посредничество Херна оказали несомненное воздействие на Джевонса. <Mountiford Longfield (1802--1884), ирландский юрист и экономист, в книге которого Lectures on Political Economy (Dublin: R. Milliken, 1833) подчеркивались рыночные факторы ценности, в отличие от рикардианских (классических) "реальных" или "базовых" издержек; William Edward Hearn (1826--1888) автор Plutology: or the Theory of the Efforts to Satisfy Human Wants (London: Macmillan, 1864), развивавший идеи Бастиа и Герберта Спенсера.-- амер. изд.>] Классическое учение по настоящему так и не прижилось в Германии отчасти потому, что немецкие экономисты никогда не упускали из виду некоторых противоречий, свойственных трудовой теории ценности или издержек. Отчасти благодаря влиянию Галиани [Ferdinando Galiani (1728--1787) -- амер. изд.] и других французских и итальянских авторов XVIII века сохранялась традиция, не желавшая мириться с полным отрывом ценности от полезности. С самого начала века и вплоть до 1850-х и 1860-х годов ряд авторов, среди которых самой выдающейся и влиятельной фигурой был, пожалуй, Германн [Friedrich B.W. von Hermann (1795--1868), профессор Мюнхенского университета, где он издал влиятельный труд Staatswirtschaftliche Untersuchungen (Munich: A. Weber,1832) -- амер. изд.] (достигший полного успеха Госсен остался незамеченным), пытались соединить понятия редкости и полезности для объяснения ценности, и нередко очень близко подходили к решению, найденному Менгером. Менгер был многим обязан этим спекуляциям, которые более практичному сознанию тогдашних английских экономистов должны были казаться бесполезным философствованием. Стоит просмотреть обильные сноски к тексту его Grundsatze, или индекс авторов, добавленный к изданию 1934 года, чтобы убедиться, сколь основательно он знал этих германских, французских и итальянских авторов, и сколь сравнительно незначительной была роль писателей классической английской школы. [Eerich Streissler подчеркивает зависимость Менгера от современных ему немецких экономистов. См. "The Influence of German Economists on the Work of Menger and Marshall", op. cit. Штрейсслер отмечает, что 5 из 10 наиболее часто цитируемых в Grundsatze авторов являются немцами, и только один (Адам Смит) -- англичанин. Книга Менгера "определенно провозглашает свою принадлежность к немецкой экономической теории -- почти до тошноты" (р. 33). -- амер. изд.] Хотя Менгер, по-видимому, превосходил всех других основателей учения о предельной полезности широтой знания литературных источников -- а для той эпохи, когда были написаны Grundsatze, подобной начитанности можно было ожидать только от страстного библиофила, подстегиваемого примером энциклопедиста Роше [Wilhelm Georg Friedrich Roscher (1817--1894), профессор Лейпцигского университета и основатель германской старой исторической школы. Трактат Grundsatze посвящен Роше -- амер. изд.] -- в списке цитируемых им авторов обнаруживаются занятные лакуны, которые могли бы служить объяснению отличия его подхода от подходов Джевонса и Вальраса. [Поразительно, что он не знал своего непосредственного предшественника в Германии Германа Гейнриха Госсена, но его также не знали к моменту первой публикации своих идей ни Джевонс, ни Вальрас. Первой книгой, в которой воздавалось должное работе Госсена, была работа Ф. Ланге (F.A. Lange, Die Arbeiterfrage (second edition, Winterthur: Bleuler-Hausheer), появившаяся в 1870 году, когда собственная работа Менгера Grundsatze была уже, вероятно, в типографии. <В письме к Вальрасу в 1887 году, через 16 лет после публикации Grundsatze, Менгер уделяет несколько слов Госсену. Сопоставляя свою работу с его книгой, Менгер находит, что "nur in einigen Puncten, nictaber in den entscheidenten Fragen zwischen uns Ubereinstimmung, bez Ahnlichkeit der Auffassung" ("мы согласуемся друг с другом только в отдельных моментах, и не в самых важных"). См. письмо от 27 января 1887 года у William Jaffe, Correspondence of Leon Walras and Related Papers (Amsterdam: North-Holland, 1965), vol. 3, p. 176 (letter 765). Эмиль Каудер сообщает, что Менгер в 1886 году купил книжку Госсена, и что он "не одобрил Госсена, отверг его чисто гедонистический подход, его подчеркивание роли труда, и использование математики в сфере психологии". См. Emil Kauder, A History of Marginal Utility Theory (Princeton, N.J.: Princeton Univercity Press, 1965), p. 82. Эти ссылки позаимствованы в работе Erich Streissler, "The Influence of German Economics on the Work of Menger and Marshall", op. cit.-- амер. изд.>] Особенно показательно явное незнакомство с работой Курно [Antoine Augustin Cournot (1801--1877), профессор математики и механики в Лионском университете -- амер. изд.], которая прямо или косвенно повлияла на всех остальных создателей современной экономической теории -- Вальраса, Маршалла и, очень возможно, Джевонса. [Сэр Джон Хикс говорил мне, что у него есть основания полагать, что диаграмма Ларднера, разъясняющая теорию монополии, которая, по собственному признанию Джевонса, сильно на него повлияла, была заимствована у Курно. На эту тему см. статью Хикса о Леоне Вальрасе "Leon Walras", Econometrica, vol. 2, 1934, pp. 338--348.] Еще удивительней, однако, тот факт, что Менгер, похоже, не был знаком с работой фон Тюнена [Johann Heinrich von Thunen (1783--1850) был пионером в теории сельского хозяйства и в подходе к теории распределения с позиций предельной производительности, известен также как один из первых создателей математической экономической теории. См. его работу Der Isolierte Staat in Beziehung auf Landwirtschaft und Nationalokonomie <1826--1863>, переведена как The Isolated State (Oxford and New York: Pergamon Press, 1966). -- амер. изд.], которая представляется особенно созвучной с его собственными. Хотя можно сказать, что он работал в атмосфере явно благоприятной для развития анализа с позиций полезности, в его распоряжении не было столь же благоприятной базы для развития современной теории цен, какой располагали его коллеги, которые все как один испытали влияние Курно, а также, в случае Вальраса, Дюпюи [Менгер, однако, знал работу отца Леона Вальраса, А.А. Вальраса, которого он цитирует на p. 54 своей Grundsatze. <см. р. 290 английского издания Principles of Economics, 1981, op. cit. -- амер. изд.>], и, в случае Маршалла, фон Тюнена. Было бы интересно порассуждать о том, в каком направлении развивалась бы мысль Менгера, если бы он был знаком с работами этих основателей математического анализа. [Но теперь можно ознакомиться с двумя письмами Менгера Леону Вальрасу от 1883 и 1884 гг., которые опубликованы в Correspondence of Leon Walras, op. cit., vol. 1, p. 768 (letter 556) and vol. 2, p. 4 (letter 602). <см. также Jaffe, "Menger, Jevons and Walras Dehomogenized", op. cit., pp. 521--522 -- амер. изд.>] Достаточно любопытно, что, сколько я знаю, он ни разу не высказался о ценности математики как инструмента экономического анализа. Нет оснований предполагать, что ему недоставало образования или природных склонностей. Напротив, его интерес к естественным наукам несомненен, а в его работах чувствуется расположенность к методам этих наук. А тот факт, что его братья, особенно Антон, известны сильным интересом к математике, а его сын Карл стал известным математиком, может, по-видимому, свидетельствовать о семейных математических задатках. Но хотя позднее он познакомился не только с работами Джевонса и Вальраса, но также с работами своих соотечественников Ауспитца и Либена, ни в одной из своих работ о проблемах методологии он ни разу даже не упоминает о математике. [Единственным исключением является обзор работы Рудольфа Ауспитца и Ричарда Либена, Untersuchungen uber die Theorie des Preises, op. cit., опубликованный в ежедневной газете Weiner Zeitung (July 8, 1889), который едва ли является исключением, поскольку он отчетливо заявляет здесь, что не желает комментировать ценность математического изложения экономических доктрин. Общий тон рецензии, так же как возражение против того, что авторы "используют математические методы не только как средство изложения, но и как инструмент исследования", подтверждают общее впечатление, что он не считал это направление особенно полезным.] Следует ли заключить из этого, что он достаточно скептически расценивал ее полезность? Среди всевозможных влияний, которым подвергался Менгер в период своего интеллектуального формирования, совершенно не было влияния австрийских экономистов, по той причине, что в начале XIX века в Австрии практически не было своих экономистов. В университетах, где учился Менгер. политическую экономию преподавали как часть программы для юристов, и профессорами, большей частью, были импортированные из Германии экономисты. И хотя Менгер, подобно всем позднейшим австрийским экономистам, получил степень доктора права, нет оснований думать, что на него как-либо повлияли его преподаватели экономики. [Не исключено, что это неверно. Штрейсслер в "The Influence of German Economics",op.cit. утверждает, что на Менгера сильно повлиял один из преподавателей экономики в Пражском университете, Питер Мишлер (1821--1864). Он не цитирует Мишлера в Grundsatze, но некоторые отрывки кажутся буквально заимствованными из его учебника. Может быть Менгер не сослался на Мишлера потому, что он располагал только записями лекций, но не учебника, а может быть потому, что он не одобрял политические взгляды последнего.-- амер. изд.] Здесь нужно коснуться его биографии. Рожденный 28 февраля 1840 года в Neu Sandec, в Галиции, на территории современной Польши, сын юриста, он вышел из старой семьи австрийских ремесленников, музыкантов, чиновников и офицеров, которая только за поколение до того перебралась из немецкой части Богемии в восточные провинции. [В короткой статье о Менгере в International Encyclopedia of Social Sciences Хайек описывает его как "выходца из образованной семьи, которая заработала право на приставку "фон" (сам Менгер перестал ею пользоваться весьма рано). В богатой библиотеке отца, имевшего адвокатскую практику, Менгер и два его брата рано познакомились с литературой по экономическим и социальным вопросам". -- амер. изд.] Отец его матери , богемский купец, который сделал состояние во время Наполеоновских войн, купил большое имение в Западной Галиции, где Карл Менгер провел большую часть своего детства, и до 1848 года еще видел полукрепостные порядки крестьянской жизни, которые в этой части Австрии сохранялись дольше, чем в любой другой части Европы, за исключением России. [Отец Карла Антон Менгер, был сыном Анны, урожденной Мюллер, и другого Антона Менгера, вышедшего из старой немецкой семьи, которая в 1623 году эмигрировала в Эгер, в Богемии. Его жена Каролина была дочерью Иосифа Гержабека (Gerzabek), купца из Гогенмаут, и Терезы, урожденной Калаус, предки которой могут быть прослежены по записям о крещении до 18 и 17 веков. <В нацистский период считалось, что члены австрийской школы, включая самого Менгера, были по преимуществу евреями. Хайек написал во Frankfurter Zeitung протест против опубликованной ими справки, и 13 октября 1936 года газета поместила следующую краткую заметку: "Профессор Ф.А. фон Хайек, профессор экономики Лондонского университета, сообщает нам по поводу отчета, опубликованного в номере 511/12 6 октября относительно конференции Hochschule национал-социалистической "Rechtswahrerbund", что в прочитанной там лекции было сделано ложное сообщение о еврейском происхождении, помимо всех других ведущих членов "австрийской школы" экономической теории, даже ее лидера Карла Менгера. Из полученного нами письма следует, что профессор Хайек, занимаясь по заказу Лондонской школы экономической теории подготовкой к публикации собрания сочинений Карла Менгера, собирал материалы для биографической справки и установил на основе документов, принадлежащих сыну Менгера, что Карл Менгер как по отцовской, так и по материнской линии происходил из семей, живших в немецкой Богемии, что может быть прослежено по церковным записям вплоть до XVII и XVIII веков." -- амер. изд.>] Со своими двумя братьями, Антоном, позднее ставшим известным автором по вопросам права и социализма, автором The Right to the Whole Product of Labour [Anton Menger, Das Recht auf der wollen Arbeitsertag in geschichtlicher Darstellung (Stuttgart: J.G. Gotta, 1886), translated as The Right to the Whole Product of Labour (London: Macmillan, 1889) -- амер. изд.], и коллегой Карла по факультету права в Венском университете, и Максом, известным членом австрийского парламента, писавшим по социальным проблемам, он учился в Венском (1859--1860) и Пражском (1860--1863) университетах. После получения докторской степени в Краковском университете, он сначала посвятил себя журнализму, писал для Лембергских <Львовских -- прим. пер. (Б.П.)>, а позднее для Венских изданий статьи по экономическим вопросам. [В это время Менгер принял участие в основании ежедневной газеты Wiener Tagblatt, которую вскоре сменила другая, Neue Weiner Tagblatt, в течении многих десятилетий остававшаяся одной из самых влиятельных Венских газет. Менгер сохранил тесные связи с почтенным редактором газеты Морисом Шепсом (Szeps), и часто предполагалось, что появлявшиеся в газете неподписанные статьи были написаны Менгером.] Через несколько лет он занял должность в пресс-службе Австрийского Ministerratsprasidium, которое всегда сохраняло особое положение в системе австрийских канцелярий и привлекало множество талантливых людей. [В статье для International Encyclopedia of Social Sciences Хайек характеризует эту должность, как такую, "которая часто служила трамплином к высшим служебным постам". -- амер. изд.] По сообщению Визера, Менгер говорил ему, что одной из его обязанностей было написание обзоров о состоянии рынков для официальной газеты Weiner Zeitung, и что именно изучение рыночных отчетов поразило его контрастом между традиционными теориями цен и тем, что считали решающими факторами изменения цен люди с большим практическим опытом. Мы не знаем, было ли именно это решающей причиной, которая подтолкнула Менгера к изучению природы ценообразования, или, что кажется более вероятным, это только указало направление для исследований, которые он вел после выхода из университета. Нет сомнений, однако, что между 1867--1868 годами и публикацией Grundsatze ему пришлось много работать над этими проблемами, откладывая публикацию до полной разработки системы. [Самые ранние из сохранившихся заметок о теории ценности относятся к 1867 году.] Говорят, что, по его словам, он писал Grunsatze в состоянии болезненного возбуждения. Едва ли следует это понимать так, что книга была результатом внезапного вдохновения, что она была задумана и написана в великой спешке. Мало книг, которые были бы спланированы более тщательно; редко бывает первое изложение идеи более тщательно и детально обдуманным. Небольшая книжка, появившаяся в начале 1871 года, должна была стать первой, вводной частью всеобъемлющего трактата [на титульном листе значится "Erster, Allgemeiner Teil" (Первая, общая часть) -- амер. изд.]. В ней фундаментальные вопросы, по которым он расходился с принятыми взглядами, рассматривались с той тщательностью, какая нужна, чтобы уверить автора в том, что он строит на абсолютно надежной почве. В этой "First, General Part", как было обозначено на титульном листе, рассматривались общие условия, необходимые для экономической деятельности, обмена, возникновения цен и денег. Из рукописных набросков, о которых рассказал во Введении ко второму изданию его сын [Карл Менгер мл. (1902--1985), математик, профессор Венского университета; позднее преподавал в университете Нотр Дам и в Иллинойском технологическом институте в Чикаго; его статья об "Austrian Marginalism and Mathematical Economics" появилась в книге Carl Menger and the Austrian School of Economics, op. cit., которая была выпущена в честь столетия публикации Grundsatze -- амер. изд.] более чем через 50 лет, мы знаем, что во второй части предполагалось рассмотреть "процент, заработную плату, ренту, доход, кредит и бумажные деньги"; в третьей, "прикладной" части -- теорию производства и торговли; в четвертой -- критику существовавшей экономической системы и предложения по реформе экономики. Как он заявляет в Предисловии [см. Gesammelte Werke, op. cit., vol. 1, pp. x and 143n. <pp.49 и 173 в английском издании 1981 года, Principles of Economics, op. cit; в ссылках далее в этой главе данного издания приводятся в скобках. -- амер. изд.>], его главной целью было создание единой теории цен, которая объясняла бы все явления в этой области, а также в области процента, заработной платы и ренты с помощью одной главной идеи. Но более половины тома заняты подготовкой к решению этой главной задачи -- разъяснению понятия, которое отличало новую школу, т.е. понятия ценности в субъективном, личном смысле. Но даже эта цель оказывается достигнутой не раньше, чем осуществлено строгое исследование главных понятий, необходимых для проведения экономического анализа. Здесь явно ощущается влияние ранних немецких авторов с их тяготением к чрезмерно педантичной классификации и объемистому определению понятий. Но в руках Менгера испытанные временем "фундаментальные понятия" традиционных немецких учебников получили новую жизнь. Сухие перечисления и определения обратились в могущественный инструмент анализа, в котором каждый последующий шаг с необходимостью вытекает из предыдущего. И хотя изложению Менгера недостает множества впечатляющих фраз и элегантных формулировок, свойственных писаниям Бём-Баверка и Визера, в сущности, оно едва ли им уступает, а во многих отношениях и превосходит эти позднейшие работы. В задачи этой статьи не входит связное изложение аргументации Менгера. [Об этом см. статью Хайека "The Place of Menger's Grundsatze in the History of Economic Thought", публикуемую как Приложение к данной главе. -- амер. изд.] Но его трактовке предмета свойственны некоторые менее известные, иногда поразительные аспекты, заслуживающие особого внимания. Анализ, начинающийся с тщательного исследования причинно-следственных связей между потребностями человека и средствами их удовлетворения, а затем переходящий к знаменитому ныне различению между благами первого, второго, третьего и более высоких порядков, и к равно известной теперь концепции комплиментарности различных благ, типичен (вопреки широко распространенному обратному представлению) для того особенного внимания к технической структуре производства, которое всегда отличало австрийскую школу, и которое нашло свое яснейшее систематическое выражение в разработке vorwerttheoretischer Teil, которая предшествует рассмотрению теории ценностей в поздней работе Визера The Theory of Social Economy [Friedrich von Wieser, Die Theory der gessellschaftlichen Wirtschaft, vol. 1 (Tubingen: J.C.B. Mohr, 1914), переведана как Social Economics (London: Allen & Unwin, 1927); reprinted, New York: Augustus M. Kelley, 1967 -- амер. изд.]. Еще замечательней выдающаяся роль, которую с самого начала играет в этом анализе время. Существует очень распространенное представление, что ранние представители современной экономической теории пренебрегали этим фактором. Поскольку это может относиться к зачинателям использования математических методов в современной теории равновесия [Джевонс, Вальрас и Вилфредо Парето -- амер. изд.], это представление, может быть, и оправдано. Но не в отношении Менгера. Для него содержанием экономической деятельности является планирование на будущее, и в том, как он рассматривает период, точнее -- различные периоды, охватываемые человеческим предвидением различных потребностей [см. Gesammelte Werke, op. cit., vol. 1, pp. 34--36 <79--82>], проявляется явно современный подход. Сегодня нелегко поверить, что Менгер первым использовал для различения бесплатных и экономических благ идею редкости. Хотя эта идея и не была известна в английской литературе, но все немецкие авторы, по словам самого Менгера [Ibid., p. 70n <109, 291--292>], обращавшиеся к ней прежде, а в особенности Германн, пытались использовать это различие между наличием и отсутствием издержек, понимаемых как усилие. Очень характерно, что хотя весь анализ Менгера основан на идее редкости, этот простой термин нигде не используется. "Недостаточное количество" или "das okonomische Mengenverhaltnis" -- самое точное, но, пожалуй, несколько громоздкое выражение, которым он пользовался. Для его стиля характерно гораздо большее внимание к тщательному описанию явления, чем к тому, чтобы найти для него короткое и подходящее слово. Нередко это лишает его изложение желаемой выразительности. Но это же качество защищает изложение от односторонности и примитивизации, которые могут возничь из-за краткости формулировок. Классическим примером является, конечно, то, что Менгер не ввел -- и, сколько я знаю, никогда не использовал -- термин "предельная полезность" <Grenznutzen>, предложенный Визером, но всегда объяснял идею ценности с помощью несколько неуклюжей, но точной фразы: "значение, которое приобретают для нас конкретные блага или количества этих благ благодаря тому факту, что мы осознаем, что от распоряжения ими зависит возможность удовлетворения наших нужд -- и определяет величину этой ценности значением, придаваемым наименее существенному удовлетворению, получаемому от обладания единицей блага" [см. Ibid., p. 78, и ср. p. 99 <115 and 132>]. Другой, возможно, менее важный, но не менее характерный пример отказа Менгера от сжатия изложения в застывшие формулы мы находим еще раньше, когда анализируется сокращение интенсивности потребности при ее насыщении. Этот психологический факт, который позднее под именем "закон насыщения потребностей Госсена" занял чрезмерное место в изложении теории ценности, и который Визер почтил как главное открытие Менгера, занимает в системе Менгера более соответствующее подчиненное положение, как один из факторов, позволяющих нам упорядочить различные чувственные потребности человека в порядке их значимости. Воззрения Менгера поразительно современны в другом и более интересном вопросе, имеющем отношение к чистой теории субъективной ценности. Хотя порой он и говорит об измеримости ценности, изложение в целом делает вполне ясным, что он имеет в виду лишь то, что ценность любого блага может быть выражена через сопоставление с другим, равным по ценности. Относительно чисел, которые он использует при рассмотрении шкалы полезности, он определенно заявляет, что они представляют не абсолютную, но только относительную важность потребностей [см. Ibid., pp. 163--171 <183--190>], и эти числа явно представляют собой не количественные, но порядковые характеристики. [См. Ibid., p. 92 <125>. Среди других характеристик подхода Менгера к общей теории ценности могут быть отмечены: его постоянное подчеркивание необходимости классифицировать различные товары в соответствии с экономическими, а не техническими основаниями (pp. 115--117 <142--144> и примечание к p. 130 <303--305>); предвосхищение доктрины Бём-Баверка о недооценке будущих потребностей (pp. 122, 127--128 <148, 152--154>); а также тщательный анализ процесса накопления капитала, в результате которого первоначально бесплатные факторы производства все больше и больше обращаются в редкие блага.] Вторым по важности вкладом Менгера, после общего принципа, который позволил ему объяснить ценность через полезность, является, видимо, применение этого принципа к случаю, когда для удовлетворения потребности нужно более одного блага. Именно здесь проявляются плоды предлагаемого в первых главах кропотливого анализа причинных связей между благами и нуждами, а также концепций комплиментарности и благ различного порядка. Даже сегодня едва ли осознают, что Менгер решил проблему распределения полезности конечного продукта между несколькими совместно используемыми благами высшего порядка -- т.е. проблему вменения, как ее позднее назвал Визер ["Вменение" (Zurechnung) есть понятие, объясняющее ценность благ "высшего порядка" (т.е. средств производства) через ценность благ "низшего порядка" (т.е. потребительских благ), в производстве которых они участвуют. Например, ценность сталепрокатного производства определяется (капитализированной) (discounted) ценностью конечных благ -- скажем, автомобилей -- которые можно произвести из этой стали. Иными словами, ценность конечных благ "вменяется" использованным средствам производства. -- амер. ред.] -- с помощью довольно-таки развитой теории предельной производительности. Он явно различает случаи переменных или постоянных пропорций между двумя или более факторами, которые могут быть использованы в производстве любого блага. И его решение проблемы вменения для первого случая заключается в том, что количества различных факторов /производства/, которые могут замещать друг друга в процессе получения равного дополнительного количества /желаемого/ продукта, имеют равную ценность, а в случае с постоянными пропорциями ценность различных факторов определяется их полезностью при альтернативном использовании [Ibid., pp. 138--142 <162--165>]. В первой части книги, посвященной изложению субъективной теории ценности, которую легко сопоставить с позднейшими трактовками Визера, Бём-Баверка и др., наличествует лишь один момент, в котором изложение Менгера зияет неполнотой. Едва ли можно счесть вполне законченной и убедительной теорию ценности, которая не дает явного объяснения роли издержек производства в формировании относительной ценности различных товаров. В самом начале изложения Менгер отмечает, что он видит проблему и разрешит ее позднее. Но это обещание так и не было исполнено. На долю Визера выпало развитие того, что позднее стало известно как принцип наибольших альтернативных издержек или "закон Визера", т.е. принципа, согласно которому направления использования, конкурирующие за факторы производства, так ограничивают количества, доступные любому определенному производству, что ценность получаемого здесь продукта не может оказаться ниже суммы ценностей, которая может быть получена этими факторами при альтернативном использовании. Встречались утверждения, что Менгер и его школа в упоении от открытия законов формирования ценностных предпочтений в индивидуальном хозяйстве были готовы применить эти же самые принципы -- слишком поспешно и поверхностно -- для объяснения цен. [Отсюда идет обвинение Георгеску-Рэгена, что даже с добавлением доктрины об альтернативных издержках "Теория Менгера не объясняет цен. ...Чтобы ликвидировать, не изменяя свойственной ей логики, этот провал в теории, нужно так распространить менгеровскую шкалу /полезности/, чтобы она включила все наборы конкретных потребностей /для хозяйственной системы, производящей множество благ/. Последователи Менгера, однако, двинулись в совершенно ином, более легком направлении. И Визер и Бём-Баверк с помощью словесных ухищрений приравняли Grenznutzen к предельной полезности Джевонса, а порядковую шкалу предпочтений Менгера к количественным оценкам полезности Джевонса." На современном языке это утверждение означает, что менгеровская порядковая шкала предпочтений чисто описательна, а потому и не может быть представлена непрерывной функцией спроса. Nicholas Georgesku-Roegen, "Utility", International Encyclopedia of Social Sciences, op. cit., vol. 16, pp. 236--267, sep. p. 251. -- амер. изд.] Эти утверждения до известной степени оправданы для работ некоторых последователей Менгера, особенно для ранних работ Визера. Но ничего такого, безусловно, нельзя сказать о трудах самого Менгера. Его изложение полностью подчинено правилу, которое позднее так энергично подчеркивал Бём-Баверк, согласно которому любое удовлетворительное объяснение цены должно включать две различных части, и объяснение субъективной ценности может быть лишь одной из них. Оно образует основу для объяснения причин и пределов обменов между двумя или более людьми. В этом отношении очень показательно менгеровское изложение в Grundsatze. Глава об обмене, которая предшествует главе о ценах, вполне проясняет воздействие субъективной ценности на объективные отношения обмена и не постулирует большей, чем оправдано предпосылками, степени соответствия между ними. Сама по себе глава о ценах, с ее тщательным исследованием того, как относительные ценностные предпочтения отдельных участников обмена воздействуют на пропорции обмена в условиях изолированного обмена между двумя людьми, в условиях монополии и, наконец, в условиях конкуренции является третьим и, возможно, наименее известным достижением Grundsatze. И только при чтении этой главы начинаешь постигать все единство его мысли, ту отчетливую цель, которая направляет изложение с начала и до конца. Нет нужды сейчас говорить о последних главах его работы, в которых рассматриваются: свойства производства, нацеленного на рынок; техническое отличие термина "товары массового, рыночного спроса" /commodity/ (Ware) в отличие от простых "благ", проявляющееся в различном уровне продаваемости <ликвидности -- Б.П.>; и, наконец, природа денег. В его последующих публикациях получили развитие исключительно те идеи, которые намечены в этой главе, а также отрывочные замечания о капитале из предшествующих глав. Хотя воздействие этих идей оказалось устойчивым и длительным, своей известностью они обязаны более позднему и развернутому изложению. Столь подробное рассмотрение содержания Grundsatze оправдано выдающимся положением этой работы в ряду других публикаций Менгера, да, пожалуй, и в ряду всех книг, заложивших основы современной экономической теории. В связи с этим, пожалуй, уместно процитировать ученого, наилучшим образом подготовленного для оценки различных вариантов современной школы, Кнута Викселя, который первым и с наибольшим успехом сумел объединить лучшее из того, что содержалось в доктринах различных групп. "На этой работе, -- говорит он, -- покоится его слава, и благодаря ей его имя сохранится в будущем, ибо можно уверенно утверждать, что после Principles Рикардо не было книги -- даже с учетом блестящих, хотя и преимущественно афористических достижений Джевонса, и чрезмерно трудной работы Вальраса -- которая бы оказала столь же большое влияние на развитие современной экономической теории, как Grundsatze Менгера" [Knut Wiksell, "Carl Menger", op. cit., p. 118]. Едва ли можно назвать восторженным прием этой книги. Ни один из рецензентов в немецких журналах не понял новизны ее идей. [Возможно, исключение следует сделать для обзора Хека (Hack) в Zeitschrift fur die gesamte Staatswissenschaft, vol. 28, 1872, pp. 183--184, который не только отметил превосходный уровень книги и новизну использованного в ней подхода, но также указал -- в отличие от Менгера -- что экономически значимые отношения между благами и потребностями представляют собой не отношения между причиной и следствием, но между целями и средствами.] Попытки Менгера добиться, опираясь на факт публикации этой книги, права на чтение лекций (Privatdozentur) в Венском университете привели к успеху только после изрядных хлопот. Вряд ли он мог знать, что как раз перед тем, как он приступил к чтению лекций, университет окончили два молодых человека, мгновенно понявших, что его работа создает ту самую "архимедову точку опоры", как ее называл Визер, с помощью которой можно переделать существовавшую систему экономической мысли. Бём-Баверк и Визер, первые и наиболее восторженные последователи Менгера, никогда не были его учениками в буквальном смысле слова, и их попытка популяризировать идеи Менгера на семинарах лидеров старой исторической школы -- Кнайса, Рошера и Хилдебранда -- оказалась тщетной. [Может быть не вовсе неуместно здесь поправить неверное утверждение Альфреда Маршалла, что между 1870 и 1874 годами, когда он занимался уточнением деталей своей теоретической системы, "Бём-Баверк и Визер были еще мальчуганами и ходили в школу..." Memorials of Alfred Marshall, ed. A.C. Pigou (London: Macmillan, 1925), p. 417). В 1872 году оба оставили Венский университет и были приняты на гражданскую службу, а уже в 1876 году они смогли доложить на семинаре Кнайса в Гейдельберге основные элементы своей доктрины. <Karl Knies (1821--1898) преподавал в Гейдельбергском университете с 1865 по 1896 г.; Bruno Hildebrand (1812--1878) преподавал в университете Йены. -- амер. изд.>] Но мало-помалу влияние Менгера в Вене усилилось. Вскоре после продвижения в ранг Professor Extraordinarius в 1873 году он оставил свой пост в канцелярии премьер-министра -- к великому изумлению своего начальника князя Адольфа Ауерсперга, который не мог понять, как это кто бы то ни было может обменять положение, открывающее путь к величайшим почестям, на академическую карьеру. [К тому времени Менгер уже отклонил предложение стать профессором университетов в Карлсруэ (1872) и в Базеле (1873), а чуть позднее отклонил также профессорский пост в Цюрихском политехническом институте с перспективой получить место постоянного профессора в Университете.] Но это еще не было последним adieu миру политики. В 1876 году он был назначен учителем злосчастного кронпринца Рудольфа, которому было тогда 18 лет, и сопровождал его в длительных разъездах по Европе, включивших посещение Англии, Шотландии, Ирландии, Франции и Германии. [Кронпринц Рудольф (1858--1889), сын императора Австрии Франца-Иосифа I (1830--1916), покончил самоубийством в 1889 году, предположительно из-за пессимистических оценок политического будущего Австрии (точные мотивы не известны). Только недавно благодаря находке записных книжек кронпринца с конспектами лекций появилась возможность узнать -- чему именно учил Менгер Рудольфа в области экономической теории и экономической политики. О содержании этих записных книжек рассказывает Эрик Штрейсслер в "Carl Menger on Economic Policy: The Lectures to Crown Prince Rudolph", op. cit. Как это ни странно, Рудольфу был прочитан курс классической политической экономии Адама Смита в истолковании Карла Генриха Рау и Ф.В.Б. Германна -- безо всякого упоминания революционных идей Grundsatze. В статье о Менгере, опубликованной в International Encyclopedia of the Social Sciences, Хайек сообщает, что Менгер "судя по всему, помог кронпринцу в составлении памфлета (анонимно опубликованного в 1878 году), в котором критически анализировалась роль высшей австрийской аристократии. Когда в 1907 году, через 17 лет после смерти эрцгерцога, авторство было открыто, возникло немалое замешательство". -- амер. изд.] После возвращения в 1879 году он был назначен главой кафедры политической экономии в Вене и погрузился -- до конца своей долгой жизни -- в изолированную и спокойную жизнь ученого. К этому времени доктрины его первой книги -- в промежутке он не опубликовал ничего, кроме кратких книжных обзоров -- стали привлекать более широкое внимание. Заслуженно или нет, но в случае с Джевонсом и Вальрасом именно математическая форма, а не сущность учения выглядела основным их достижением, и это же оказалось главным препятствием для принятия их идей. Но для понимания менгеровского изложения новой теории ценностей не существовало подобных препятствий. Во втором десятилетии после публикации ее влияние начало быстро распространяться. В это же время начала расти репутация Менгера как учителя, привлекая на лекции все большее число студентов, многие из которых вскоре приобрели имя как экономисты. Кроме того, особо следует отметить примкнувших к школе современников -- Эмиля Сакса и Иоанна фон Коморжинского, а также его студентов Роберта Мейера, Роберта Цукеркандля, Густава Гросса, а чуть позже Германна фон Шуллерн цу Шраттенхофена, Рихарда Рейсха и Ричарда Шуллера. Но в то время как дома некая школа уже формировалась, в других странах, и в Германии даже больше, чем где-либо еще, к экономистам относились враждебно. Именно к этому времени относится наибольшее влияние в этой стране молодой исторической школы, вождем которой был Шмоллер. Сохранявший классическую традицию Volkswirtschaftliche Kongress был вытеснен вновь созданным Verein fur Sozialpolitik. [Kathedersozialisten или "кафедральными социалистами" были Густав Шмоллер, Луиджи Брентано, Карл Бюхер, Адольф Хельд, Г.Ф. Кнапп и их последователи. -- амер. изд.] Все реже в Германских университетах читались курсы экономической теории. Скорее всего работой Менгера пренебрегли не потому, что немецкие экономисты полагали его учение ошибочным, а в силу того, что они считали предлагаемый им стиль анализа бесполезным. Совершенно естественно, что в этих условиях Менгер счел более важным не продолжение работы над Grundsatze, а защиту выбранного им метода от претензий исторической школы на то, что достоверны только ее методы исследований. Эта ситуация вызвала появление его второй большой работы -- Untersuchungen uber die Methode der Sozialwissenschaften und der politischen Okonomie insbesondere. [Carl Menger, Untersuchungen uber die Methode der Sozialwissenschaften und der politischen Okonomie insbesondere (Исследования метода социальных наук), op. cit. В своей статье о Менгере в International Encyclopedia of the Social Sciences Хайек пишет об этой работе (обозначая ее по имени первого английского издания): "в ... Problems of Economics and Sociology ... /Менгер/ попытался доказать значимость теории для социальных наук. Эта попытка казалась ему необходимой из-за полного безразличия или даже враждебности к его попыткам перестроить экономическую теорию в своей книге Principles, выказанных большинством его немецких коллег, находившихся под влиянием антитеоретических установок молодой исторической школы в области экономической теории..." Чтобы понять цель Problems и природу порожденных ею дискуссий, нужно дать отчет в природе школы, против которой была направлена эта книга. Название "Молодая историческая школа" вводит в заблуждение: в отличие от фон Савиньи и старой исторической школы в юриспруденции, и даже в отличие от Росчера и старой исторической школы в экономической теории, эта "молодая" школа была безразлична к истории как к исследованию уникальных событий, но рассматривала исторические исследования как эмпирический подход, ведущий, в конце концов, к теоретическому объяснению социальных институтов. Они надеялись через исследование исторического развития прийти к постижению законов социального целого, из которых, в свою очередь, могли бы быть выведены исторические закономерности, управляющие каждой фазой этого развития. Это была разновидность позитивистско-эмпирического подхода, позднее принятого американскими институционалистами (своеобразие которых состояло только в пренебрежении статистической техникой), которую (вслед за Поппером) лучше всего обозначить как историцизм. Ср. K.R. Popper, The Poverty of Historicism (London: Routledge & Kegan Paul, 1957). -- амер. изд.] Следует помнить, что в 1875 году, когда Менгер начал работать над этой книгой, и даже в 1883 году, когда она была опубликована, еще не началась обильная публикация работ его учеников, которые определенно утвердили позиции школы, и поэтому он вполне мог считать, что до тех пор, пока вопрос в принципе не решен, продолжение дальнейших усилий лишено смысла. Менгер боролся против использования истории как средства обнаружения эмпирических законов и защищал то, что он считал должной функцией теории -- воспроизведение структуры социального целого из его частей с помощью процедуры, которую Шумпетер назвал методологическим индивидуализмом, а сам Менгер -- "синтетическим методом". Именно это сегодня называют микротеорией. Менгера чрезвычайно интересовали история и происхождение институтов, и его озабоченность определялась сознанием необходимости развести задачи теоретических и исторических исследований и не допустить смешения их методов. [Природа спора зачастую затемнялась тем фактом, что Менгер, противостоявший тому, что он считал господствующей в экономической теории псевдо-исторической школой, держался идей, пришедших к нему через историческую школу в юриспруденции. Эти идеи восходят к Мандевиллю, Дэвиду Юму и шотландским философам конца XVIII века, хотя не очень ясно, в какой степени Менгер был знаком с этими источниками предыдущего столетия. Следует отметить, что Менгер всегда интересовался историей экономической теории и использовал ее в своих лекциях с изрядным дидактическим искусством как введение к проблемам современной экономической теории." -- амер. изд.] Установленные им различия существенно повлияли на работы /Хейнриха/ Риккерта и Макса Вебера. Может быть самой важной частью его позиции было ясное осознание того, что, во-первых, предметом всей социальной теории является отслеживание того, что теперь принято называть непредусмотренными последствиями отдельных действий (Менгер использовал термин unbeabsichtigle Resultante) и, во-вторых, что при этом невозможно разделить генетические и функциональные аспекты (Untersuchungen, op. cit., 1963 English edition, pp. 163, 180, 182, 188). Излагая и иллюстрируя эти воззрения, он выходил далеко за пределы экономической теории и, большей частью, обращался к происхождению права. На свой манер Untersuchungen представляют собой едва ли меньшее достижение, чем Grundsatze. Книга является непревзойденным образцом полемики против притязаний исторической школы на исключительное право истолкования экономических проблем. Не столь ясно, можно ли так же высоко оценить содержащееся в ней положительное изложение природы теоретического анализа. Если бы репутация Менгера держалась на этой единственной работе, имело бы некий смысл сожаление, порой высказывавшееся его поклонниками, что он отвлекся от работ по конкретным проблемам экономической теории. Это не следует толковать как признание малозначимости или невлиятельности его высказываний о природе теоретического или абстрактного метода. Похоже, что эта книга в большей степени, чем любая другая, способствовала прояснению особенностей научного метода социальных наук, и что она чрезвычайно сильно повлияла на немецких философов, профессионально занимавшихся "методологией". Но с моей точки зрения представляется, что ее главное значение для современного экономиста в чрезвычайно глубоком понимании природы социальных явлений, которое высказывается по ходу обсуждения вышеотмеченных проблем для иллюстрации различных возможных подходов, а также при рассмотрении развития концепций, с которыми должны работать социальные науки. Он использовал обсуждение довольно устарелых взглядов вроде органического или, лучше сказать, психологического истолкования социальных явлений, чтобы прояснить происхождение и природу социальных институтов, и этот анализ далеко не утратил значения для современных экономистов и социологов. [Более подробно об Untersuchungen см. T.W. Hutchinson, "Some Themes from Investigations into Method", op. cit. -- амер. ред.] Лишь одну из центральных тем его книги есть смысл выделить для дальнейшего обсуждения: акцентирование необходимости строго индивидуалистического или, как он обычно говорил, атомарного метода анализа. Один из наиболее выдающихся его последователей говорил о нем, что "он сам всегда оставался индивидуалистом в том смысле, как он задан в классической экономической теории. Его наследники перестали быть индивидуалистами". Это утверждение справедливо лишь для одного или двух случаев. И в любом случае оно явно недооценивает значение метода, который он использовал. Там, где у классических экономистов сохранялась смесь этических постулатов и методологических инструментов, он систематически выделил именно методологическую часть. Исключительную заслугу этой блестящей и убедительной книги следует видеть в том, что авторы австрийской школы подчеркивают субъективный элемент ярче и убедительней, чем это делается в работах всех других основателей современной экономической теории. Своей первой книгой Менгеру не удалось встряхнуть немецких экономистов. Но он не мог бы пожаловаться, что его вторую книгу также проигнорировали. Прямое нападение на единственную признанную доктрину немедленно привлекло внимание и спровоцировало, среди множества других враждебных рецензий, необычайно оскорбительную по тону "высочайшую" отповедь главы школы, Густава Шмоллера. [Gustav Schmoller, "Zur Methodologie der Staats- und Sozialwissenschaften", in Jahrbuch fur Gesetgebung, Verwaltung und Volkswirtschaft im deutschen Reich, 1883. Наиболее оскорбительные куски этой работы были изъяты при перепечатке в Zur Literaturgeschichte der Staats- und Sozialwissenschaften (Leipzig: Duncker & Humblot, 1888).] Менгер принял вызов и ответил страстным памфлетом Irrthumer des Historismus in der deutschen Nationalokonomie [Irrthumer des Historismus in der deutschen Nationalokonomie (Vienna: A. Holder, 1884) -- амер. изд.], написанным в форме письма к другу, в котором он безжалостно сокрушил позиции Шмоллера. В содержательном плане памфлет мало чего добавляет к Untersuchungen. Но он является лучшим примером силы и блеска изложения, которые были доступны Менгеру, когда он занимался не развитием сложных академических аргументов, но участвовал в прямой полемике. Вслед за вождями в схватку вступили их ученики. Возникла редкая для научных споров атмосфера враждебности. С австрийской точки зрения тон полемике задал сам Шмоллер, который при появлении памфлета Менгера совершил беспрецендентный шаг, опубликовав в журнале объявление, что хотя он получил экземпляр книги для рецензии, он не смог ее отрецензировать, поскольку немедленно вернул книгу автору с приложением нижеследующего письма. ["Издатель Jahrbuch не в состоянии отрецензировать эту книгу, поскольку он немедленно вернул ее автору с приложением следующего послания: "Уважаемый господин, я получил с почтой Вашу книгу Ошибки историцизма в немецкой экономической теории. К ней было приложено уведомление "От автора", так что я должен поблагодарить Вас лично за присылку книги. Многие уже говорили мне, что эта книга представляет собой, в сущности, прямую атаку на меня, и беглый просмотр первой же страницы полностью подтверждает это. Хотя я должен бы быть признательным Вам за внимание и за благое намерение просветить меня, полагаю, что лучше мне в этой литературной войне сохранить верность принципам. Поэтому вынужден познакомить Вас с ними и рекомендую также им следовать: вы сэкономите много времени и желчи. Все подобные личные нападки на меня я выбрасываю в печку или в мусорную корзину, особенно когда от автора уже ни приходится ждать ничего хорошего. Я никогда не следую полемической манере многих немецких профессоров, и не утомляю внимания публики литературными войнами. Но мне не хотелось бы быть грубым, и уничтожить столь хорошо изданную маленькую книжку. Посему я возвращаю ее Вам с выражением непременной признательности и с настоятельным советом найти ей лучше применение. Я буду признателен Вам за все будущие нападки. Потому что "в большой вражде -- много чести". Искренне Ваш, Г. Шмоллер."] Чтобы понять, почему проблема адекватности методов осталась главной заботой Менгера до конца его жизни, нужно вообразить, какие страсти возбудил этот диспут, и что означал для Менгера и его последователей разрыв с господствующей немецкой школой. Шмоллер зашел настолько далеко, что публично объявил о профессиональной непригодности членов "абстрактной" школы, и его влияния хватило, чтобы изгнать приверженцев учения Менгера с академических постов в немецких университетах. Даже через тридцать лет после завершения этого спора Германия все еще меньше затронута влиянием новых идей, которые восторжествовали повсюду, чем любая другая важная страна мира [более подробно о Methodenstreit см. в этом томе главу 1 -- амер. изд.]. При всех этих атаках за 6 лет, с 1884 по 1889 год, одна за другой появлялись книги, утвердившие во всем мире репутацию австрийской школы. Бём-Баверк уже в 1881 году опубликовал небольшое, но важное исследование Rechte und Verhaltnisse vom Standpunkt der wirtschaftlichen Guterlehre [Eugen von Bohm-Bawerk, Rechte und Verhaltnisse vom Standpunkt der wirtschaftlichen Guterlehre (Innsbruck: Wagner, 1881); воспроизведено в Gesammelte Schriften, ed. F.X. Weis (Vienna: A. Holder, 1924--1926) -- амер. изд.], но оценить мощь появившегося источника пропаганды и развития идей Менгера стало возможно только после одновременной публикации в 1884 году первой части его работы о капитале, Geschichte und Kritik der Kapitalzinstheorien [Eugen von Bohm-Bawerk, Geschichte und Kritik der Kapitalzinstheorien (Innsbruck: Wagner, 1884), переводена как as History and Critique of Interest Theories, vol. 1 of Bohm-Bawerk's Capital and Interest (South Holland, Ill.: Libertarian Press, 1959) -- амер. изд.], и Визеровской Uber den Ursprung und Hauptgesetze des Wirtschaftlichen Wertes [Friedrich von Wieser, Uber den Ursprung und Hauptgesetze des Wirtschaftlichen Wertes (Vienna: A. Holder, 1884) -- амер. изд.]. Из этих двух работ большее значение для дальнейшего развития основных идей Менгера имела, конечно же, работа Визера, поскольку в ней был развит вышеупомянутый анализ издержек, известный теперь как визеровский закон издержек. Но двумя годами позже появилась книга Бём-Баверка Grundzuge einer Theorie des wirtschaftlichen Guterwertes [была опубликована первоначально как серия статей в альманахе Conrad, Jahrbucher fur Nationalokonomie und Statistik, 1886, а затем воспроизведена под # 11 в Series of Reprints od Scarce Tracts in Economics and Political Science, 1932, которую издавала Лондонская школа экономической теории], которая не добавила ничего существенного к достижениям Менгера и Визера, но благодаря силе и блеску аргументации сделала, вероятно, больше, чем любая другая книга для популяризации доктрины предельной полезности. В 1884 году два ученика Менгера Виктор Матайя и Густав Гросс опубликовали свои интересные работы о прибыли, а Эмиль Сакс выпустил небольшое, но сильное исследование вопросов метода, в котором он поддержал основные установки Менгера и подверг критическому анализу ряд деталей [Viktor Mataja, Unternehmergewinn (Vienna: A. Holder, 1884); G. Gros, Die Lehre vom Unternehmergewinn (Leipzig: Duncker & Humblot, 1884); Emil Sax, Das Wesen und die Aufgaben der Nationalokonomie (Vienna: A. Holder, 1884)]. В 1887 году появилась основная работа Сакса Grunlegung der theoretischen Staatswirtschaft [Emil Sax, Grunlegung der theoretischen Staatswirtschaft (Vienna: A. Holder, 1887) -- амер. изд.], первая и почти исчерпывающая попытка применить принцип предельной полезности к проблеме государственных финансов, и в том же году выступил один из первых учеников Менгера Роберт Мейер с исследованием довольно близкой проблемы природы дохода [Robert Meyer, Das Wesen des Einkommens (Berlin: Hertz, 1887)]. Самым богатым был урожай 1889 года. В этот год были опубликованы работы Бём-Баверка Positive Theorie des Kapitalzinses [Eugen von Bohm-Bawerk, Positive Theorie des Kapitalzinses (Innsbruck: Wagner, 1889), translates as Positive Theory of Capital, vol. 2 of Bohm-Bawerk, Capital and Interest, op. cit -- амер. изд.], Визера Naturlicher Wert [Friedrich von Wieser, Naturlicher Wert (Vienna: A. Holder, 1889), переведена как Natural Value, ed. William Smart (New York: Macmillan, 1893; репринтное изд. New York: Augustus M. Kelley, 1956) -- амер. изд.], Цукеркандля Zur Theorie des Preises [Robert Zuckerkandl, Zur Theorie des Preises mit besonderer Berucksichtigung der geschichtlichen Entwicklung der Lehre (Leipzig: Stein, 1889) -- амер. изд.], Коморжинского Wert in der isolierten Wirtschaft [Johann von Komorzynsky, Die Wert in der isolierten Wirtschaft (Vienna: Manz, 1889) -- амер. изд.], Сакса Neuesten Fortschritte der Nationalokonomischen Theorie. [Emil Sax, Die Neuesten Fortschritte der Nationalokonomischen Theorie (Leipzig: Duncker & Humblot, 1889) -- амер. изд.]и Шуллерн-Шраттенхофена Untersuchungen uber Begriff und Wesen der Grundrenten[<Hermann von Schullern zu Schrattenhofen, Untersuchungen uber Begriff und Wesen der Grundrenten (Leipzig: Fock, 1889) -- амер. изд.> В тот же год два других венских экономиста Рудольф Ауспитц и Ричард Либен опубликовали свою работу Untersuchungen uber die Theorie des Preises, op. cit., оказавшуюся одной из важнейших работ в области математической экономики. Но хотя на них сильно влияли идеи Менгера и его группы, в основе их построений лежали подходы, заложенные Курно и Тюненом, Госсеном, Джевонсом и Вальрасом, а не работы соотечественников.] В следующие годы появились также многочисленные последователи среди чешских, польских и венгерских экономистов, живших в пределах Австро-Венгерской монархии. Среди первых изложений доктрин австрийской школы на иностранных языках самым успешным, по видимому, была изданная Маффео Панталеони "Чистая экономическая теория", которая впервые вышла в свет в том же 1889 году. [Maffeo Pantaleoni, Principii di Economia Pura (Florence: G. Barbera, 1889; второе издание 1894; английский перевод, London: Macmillan, 1898). В итальянском издании первоначально было несправедливое обвинение Менгера в плагиате у Курно, Госсена, /Ричарда/ Дженингса и Джевонса, которое было устранено в английском переводе, а позднее Панталеони включил в переиздание книги перевод работы Менгера на итальянский с собственным предисловием: Principii fondamentali di economia pura, con prefazioni di Maffeo Pantaleoni (Imola: P. Galeati,1909, впервые опубликовано как приложение к Giornale degli Economisti в 1906 и 1907 годах без предисловия Панталеони.) Предисловие воспроизводится и в итальянском переводе второго издания Grundsatze (о котором ниже), опубликованном в Бари в 1925 году.] Доктрины Менгера были приняты целиком или большей частью такими итальянскими экономистами, как Л. Косса, А. Грациани и Г.Маззола. Подобный же успех сопутствовал учению в Голландии, где оно приобрело определенную влиятельность в результате того, что великий датский экономист Н.Г. Пирсон включил изложение доктины предельной полезности в свой учебник (1884--1890), позднее переведенный на английский под названием Principles of Economics [Nikolaas Gerard Pierson, Leerboek der Staathuishoudkunde (Haarlem: F. Bohn, 1884--1890), translated by A.A. Wotzel as Principles of Economics (London and New York: Macmillan, 1902--1912) -- амер. изд.]. Во Франции новое учение распространяли Шарль Гиде, Е. Виллей, Шарль Секретан и М. Блок, а в Соединенных Штатах она вызвала сильную заинтересованность С.Н. Паттена и Ричарда Элайя. Даже первое издание Принципов [Alfred Marshall, Principles of Economics (London: Macmillan, 1890) -- амер. изд.] Альфреда Маршалла, появившееся в 1890 году, демонстировало куда большее влияние Менгера и его группы, чем могли бы вообразить читатели последующих изданий этой великой книги. [Это подтверждается также подробными заметками на полях принадлежавшего Маршаллу экземпляра Grundsatze, который сохранился в библиотеке Маршалла в Кембридже. <В короткой статье о Менгере в International Encyclopedia of Social Sciences, op. cit., Хайек пишет о нем: "Его работа оказала также воздействие на единственно важную в тот период конкурирующую группу -- на Кембриджских неоклассиков. В начале Альфред Маршалл, основатель Кембриджской школы, изучал работу Менгера с куда большим усердием, чем можно представить по немногочисленным ссылкам в первом издании Principles Маршалла (в последующих изданиях ссылки сняты)". -- амер. изд.>] В следующие несколько лет популяризацией работ австрийской школы в англоязычном мире занимались Уильям Смарт и Джеймс Бонар, которые уже до этого проявили тяготение к новой школе [см. J. Bonar, "The Austrian Economists and Their View of Value", Quarterly Journal of Economics, vol. 3, October 1888, pp. 1--31, и "The Positive Theory of Capital", ibid., vol. 3, April 1889, pp. 336--351]. Особенность судьбы работы Менгера заключалась в том, что теперь уже не его тексты, но публикации его учеников набирали популярность. Причина была просто-напросто в том, что его Grundsatze некоторое время уже не переиздавались, и книга стала труднодоступной, но при этом Менгер не давал разрешения ни на переиздание, ни на перевод. Он мечтал о том, чтобы вскоре выпустить гораздо более разработанную "систему" экономической теории, и уж во всяком случае не хотел переиздавать книгу без тщательной переработки. Но другие задачи требовали его внимания, и годами эти планы откладывались на потом. Споры Менгера с Шмоллером оборвались в 1884 году. Но Methodenstreit продолжали другие, и сопутствующие проблемы оставались в центре его внимания. К следующему выступлению в печати его побудило новое издание в 1885 и 1886 годах Шёнберговской Handbuch der Politischen Okonomie, коллективного труда немецких экономистов, большая часть которых не относились к страстным приверженцам исторической школы, имевшего целью систематическое изложение всех вопросов политической экономии. Менгер написал рецензию для венского юридического журнала, а затем издал памфлет под названием Zur Kritik der politischen Okonomie [см. Gesammelte Werke, op. cit. vol. 3, pp. 99--131; рецензия была опубликована в Zeitschrift fur das Privat- und offentliche Recht der Gegenwart, vol. 14, памфлет был издан Vienna: A. Holder, 1887]. Вторая часть памфлета была посвящена, главным образом, рассмотрению классификации различных дисциплин, объединяемых под именем политической экономии, и через два года он подробно рассмотрел эту тему в статье Grundzuge einer Klassification der Wirtschaftswissenschaften [см. Gesammelte Werke, op. cit., vol. 3, pp. 185--218, and the Jahrbucher fur Nationalokonomie und Statistik, 1889]. В эти же годы он опубликовал одну из двух важных не методологических, но чисто профессиональных работ по экономической теории -- Zur Theorie des Kapitals [см. Gesammelte Werke, op. cit., vol. 3, pp. 133--183, и Jahrbucher fur Nationalokonomie und Statistik, 1888; сокращенный французский перевод, выполненный Шарлем Секретаном, появился в том же году в Revue d'Economie Politique, "Contribution a la theorie du capital"]. Совершенно очевидно, что статья появилась из-за несогласия Менгера с определением термина "капитал" в первой, исторической части работы Бём-Баверка "Капитал и процент". Рассмотрение не имеет полемического характера. Книга Бём-Баверка упоминается только с похвалой. Основная цель -- защитить абстрактную концепцию капитала (денежная ценность собственности, предназначенной для накопления) против концепции Смита (произведенные средства производства). Главный аргумент, что с экономической точки зрения не имеет значения история происхождения благ, также как подчеркивание необходимости ясно различать между рентой, которую создают уже существующие средства производства, и собственно процентом, -- относится к моменту, который вплоть до сегодняшнего дня не привлек должного внимания. [О трактовке капитала у Бём-Баверка см. Людвиг фон Мизес, Human Action:A Treatise on Economics (third revised edition, Chicago: H. Regnery, 1966), pp. 479--489; Ludwig M. Lachman, Capital and its Structure (London: Bell, 1956; reprinted, Kansas City, Mo.: Sheed Andrews & Mcmmel, 1978), pp. 81--85; Roger W. Garrison, "A Subjectivist Theory of a Capital-Using Economy", in Gerald P. O'Driscoll and Mario J. Rizzo, The Economics of Time and Ignorance (Oxford and New York: Basil Blackwell, 1985), pp. 160--187, esp. pp. 181--184. -- амер. изд.] Примерно в это же время, в 1889 году друзья почти убедили Менгера не откладывать публикацию нового издания Grundsatze. Но хотя он даже написал предисловие к новому изданию (выдержки из которого почти через тридцать лет были опубликованы его сыном как предисловие ко второму изданию [Carl Menger, Grundsatze der Volkswirtschaftslehre, zweite Auflage, mit einem Geleitwort von Richard Schuller, aus dem Nachlas herausgeben von Karl Menger (Vienna and Leipzig: Holder-Pichler-Tempsky, 1923) -- амер. изд.]), публикация была еще раз отложена. В последующие два года его внимание было отвлечено другой серией публикаций. К концу 1880-х годов вечная проблема с австрийскими деньгами встала так, что серьезная и окончательная реформа сделалась и возможной и необходимой. В 1878 и 1879 годах падение цен на серебро вызвало обесценивание бумажных денег до уровня серебра и вскоре принудило к отказу от свободной чеканки серебрянной монеты; после этого ценность австрийских бумажных денег выросла относительно серебра и изменялась в меру изменений цен на золото. Ситуация в этот период -- во многих отношениях одна из самых интересных в истории денег -- все отчетливей воспринималась как неудовлетворительная, а поскольку финансовое положение Австрии впервые после долгого периода казалось достаточно сильным, чтобы обеспечить период стабильности, все ожидали, что правительство наконец возьмет бразды правления в руки. Более того, заключенный с Венгрией в 1887 году договор предусматривал немедленное создание комиссии для обсуждения подготовительных мер, которые бы сделали возможным возобновление платежей в металлических деньгах. После изрядной задержки, вызванной утрясанием политических трений между двумя частями Австро-Венгрии, была назначена комиссия, точнее, комиссии -- для Австрии и для Венгрии -- которые и собрались в марте 1892 года, соответственно, в Вене и в Будапеште. Дискуссии в австрийской Wahrungs-Enquete-Commission, наиболее видным членом которой был Менгер, представляют существенный интерес и помимо той особой исторической ситуации, в которой ей пришлось работать. В качестве основы работы комиссии австрийское министерство финансов с необычайной тщательностью подготовило три объемистых меморандума, содержавших наиболее полный, пожалуй, из когда-либо опубликованных набор документальных материалов по денежной истории предыдущего периода. [Denkschrift uber den Gang der Wahrungsfrage seit dem Jahre 1867; Denkschrift uber das Papiergeldwesen der osterreichisch-ungarischen Monarchie; Statistische Tabellen zur Wahrungsfrage der osterreichisch- ungarischen Monarchie. Все опубликовано k.k. Finanzministerrium, Vienna, 1892] Среди членов комиссии были, помимо Менгера, и другие известные экономисты: Сакс, Ричард Лейбен и Матайя, а также ряд журналистов, банкиров и промышленников, таких как Бенедикт, Гертцка и Тауссиг, каждый из которых обладал незаурядным знанием денежных проблем, а вице-председателем и одним из представителей правительства был Бём-Баверк, служивший тогда в Министерстве финансов. От комиссии ожидали не подготовки отчета, но уяснения взглядов ее членов по ряду вопросов, подготовленных правительством. [См. Stenographische Protokolle uber die vom 8, bis 17 Marz 1892 abgehaltenen Sitzungen der nach Wien einberufenen Wahrungs-Enquete- Commission (Vienna: k.k. Hofund Staatsdruckerei, 1892). Незадолго до начала работы комиссии Менгер в публичной лекции обрисовал основную проблему, "Von unserer Valuta", Allgemeine Juristen Zeitung, nos. 12 and 13, 1892.] Вопросы касались базы будущих денег, вывода из оборота существоваших тогда бумажных и серебрянных денег в случае перехода к золотому стандарту, курса обмена существовавшего бумажного флорина на золото и свойств будущей денежной единицы. Знание проблемы и дар ясного изложения обеспечили Менгеру положение лидера в ходе дискуссий, и его заявления привлекали широчайшее внимание. Была даже уникальная ситуация, когда в результате очередного заявления возник спад на фондовой бирже. Его вклад выразился не столько в обсуждении общих вопросов выборов стандарта -- комиссия практически единогласно признала, что единственным практичным выбором является принятие золотого стандарта -- но в тщательном рассмотрении практических проблем установления будущего паритета и выбора времени для перехода. Репутация Менгеровских свидетельств относительно обстоятельств этой денежной реформы вполне заслужена скрупулезной оценкой практических трудностей, сопровождающих всякий переход к новому денежному стандарту, и обзором подлежащих учету факторов. Эти свидетельства представляют сегодня экстрординарный интерес, поскольку сходные проблемы стоят почти перед всеми странами. [К сожалению, в рамках данной статьи невозможно уделить этому важному эпизоду в истории денег место, которого он заслуживает как в силу тесной связи с Менгером и его школой, так и в силу общего интереса обсуждавшихся в то время проблем. Эта история заслуживает специального исследования, и очень жаль, что не существует описания тогдашних дискуссий и политических мероприятий. Работы Менгера являются важнейшим источником для такого рода исследования, в дополнение к выше отмеченным официальным публикациям.] Публикация в связи с работой комиссии была первой в серии работ, связанных с проблемами денег, и являлась конечным и зрелым результатом нескольких лет сосредоточенного изучения этих вопросов. Результаты публиковались один за другим в тот же год, который стал рекордным по количеству публикаций текстов Менгера. Результаты изучения специфическо австрийских проблем появились в виде двух памфлетов. Первый, озаглавленный Beitrage zur Wahrungsfrage in Osterreich-Ungarn [см. Gesammelte Werke, op. cit., vol. 4, pp. 125--187], рассматривал историю и особенности проблем с денежной системой Австрии, а также общий вопрос о желательном денежном стандарте и представлял собой пересмотренный вариант статей, опубликованных в том же году под различными названиями в Конрадовском Jahrbucher ["Die Valutaregulierung in Osterreich-Ungarn", Jahrbucher fur Nationalokonomie und Statistik, 1892]. Второй, под названием Der Ubergang zur Goldwahrung, Untersuchungen uber die Wertprobleme der osterreichisch-ungarischen Valutareform [см. Gesammelte Werke, op. cit., vol. 4, pp. 189--224], рассматривает преимущественно технические проблемы перехода к золотому стандарту, в особенности вопросы выбора разумного паритета и факторы, способные повлиять на курс валюты после завершения перехода. Но в тот же год был опубликован гораздо более общий трактат о проблеме денег, который не был непосредственно связан с текущими вопросами экономической политики, и который является третьей и последней большой работой Менгера в области экономической теории. Это статья в третьем томе публиковавшегося тогда первого издания Handworterbuch der Staatwissenschaften [см. Ibid., vol. 4, pp. 1--116]. Именно его погруженность в обширные исследования, необходимые для подготовки этого подробного изложения общей теории денег, которым он должен был отдать предыдущие два-три года, обеспечили его уникальную готовность участвовать в решении специфически австрийских проблем. Он, конечно же, всегда интересовался вопросами денег. Последняя глава в Grundsatze и разделы в Untersuchungen uber die Methode содержат важные результаты, особенно для вопроса о происхождении денег. Следует также отметить, что среди многочисленных рецензий, которые Менгер, особенно в молодости, писал для ежедневных газет, в 1873 году были две, в которых подробнейшим образом рассматривались Essays Д.Е. Кэрне о воздействии, оказываемом открытием новых месторождений золота, и в некоторых отношениях позднейшие взгляды Менгера тесно связаны с идеями Кэрне. [Эти статьи появились в Wiener Abendpost (приложение к Wiener Zeitung) 30 апреля и 19 июня 1873 года. Как и все другие ранние журналистские работы Менгера, они опубликованы анонимно. <Ссылки на работу Cairnes, Essays Toward a Solution of the Gold Problem, которая была опубликована как Essays in Political Economy: Theoretical and Applied (London: Macmillan, 1873). -- амер. изд.>] Хотя уже ранние работы Менгера, в особенности намеченная им концепция различных степеней "ликвидности" разных благ как фундамент для понимания функции денег, обеспечили бы ему почетное место в истории монетарных доктрин, его главным вкладом в центральную проблему ценности денег явилась только его последняя большая публикация. До публикации двадцать лет спустя работы профессора Мизеса [Ludwig von Mises, Theorie des Geldes und der Umlaufsmittel, op. cit. -- амер. изд.], которая прямо продолжала работу Менгера, эта статья оставалась главным вкладом австрийской школы в теорию денег. Стоит немного задержаться на вопросе о сущности этого вклада, поскольку этом вопросе много недоразумений. Часто полагают, что вклад австрийцев состоял только в несколько механической попытке применить принцип предельной полезности к проблеме ценности денег. Но это не так. Главное достижение австрийцев в этой области заключается в последовательном использовании при развитии теории денег субъективистского или индивидуалистического подхода, который и в самом деле лежит в основе анализа с позиций предельной полезности, но обладает при этом гораздо более широким и более универсальным значением. Это достижение является прямой заслугой Менгера. Его изложение смысла различных концепций ценности денег, причин изменения и возможности измерения этой ценности, все это, как мне представляется, представляет значительный прогресс сравнительно с традиционной количественной теорией, основанной на истолковании агрегатных и средних величин. И даже там, где, как в случае с обычным для него различением между "внешней" и "внутренней" ценностью денег (innere und auserer Tauschwert), используемые термины несколько вводят в заблуждение -- различение, вопреки терминологии, относится не к различным видам ценности, но к различным силам, действующим на цены -- базовая постановка проблемы поразительно современна. [Истолкование менгеровской теории денег как теории неравновесия в условиях неопределенности см. у Erich Streissler, "Menger's Theory of Money and Uncertainty", в Hicks and Weber, op. cit., pp. 164--189. -- амер. изд.] Список основных работ Менгера, появившихся при его жизни, резко обрывается на публикациях 1892 года. [В дополнение к уже отмеченным, в том же году появилась французская статья "La Monnaie Mesure de la Valeur", in the Revue d'Economie Politique, vol. 6, 1892, и английская "On the Origin of Money" in the Economic Journal, vol. 2, 1892, pp. 239--255.] В оставшиеся ему три десятилетия жизни он опубликовал только ряд небольших статей, список которых можно найти в библиографии в конце последнего тома собрания сочинений [cм. репринтное издание LSE, описанное в этой главе, прим. 1 -- амер. изд.]. Еще несколько лет темой этих публикаций оставались вопросы денег. Из них особого упоминания заслуживают лекция о Das Goldagio und der heutige Stand der Valutareform <1893> [cм. Gesammelte Werke, op. cit., vol. 4, pp. 308--324], статья о деньгах и чеканке монет в Австрии после 1857 года в Osterreichische Staatsworterbuch <1897>, и, в особенности, тщательно обновленное переиздание статьи о деньгах в четвертом томе второго издания Handworterbuch der Staatswissenschaften <1900> [репринт той же статьи в томе 4 третьего издания Handworterbuch <1909> отличается от статьи во втором издании только небольшими стилистическими деталями]. Последние публикации относятся, большей частью, к жанру рецензий, биографических заметок или предисловий к работам его учеников. Последняя опубликованная статья представляет собой некролог его ученику Бём-Баверку ["Eugen von Bohm-Bawerk", Almanach der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, 1915, in Gesammelte Werke, op. cit., vol. 3, pp. 293--307 -- амер. изд.], который умер в 1914 году. Причина этого прекращения внешней активности ясна. Менгер решил полностью сконцентрироваться на главной выбранной для себя задаче -- на долго откладываемой систематической работе по экономической теории, а также на всестороннем исследовании природы и методов социальных наук в общем. На завершение этой работы была направлена большая часть его энергии; в конце 1890-х годов он предполагал осуществить публикацию в ближайшем будущем, и существенные части работы были уже определенно готовы. Но его интересы и размах исследований продолжали расширяться. Он счел необходимым вторгнуться в другие дисциплины. Философия, психология и этнография [чтобы представить влиятельность Менгера отметим, что его идеи были внедрены в антропологию Ричардом Торнвалдом, одним из его студентов] требовали все большего времени, а публикация работы все откладывалась. В 1903 году, в сравнительно раннем возрасте 63 лет он даже оставил кафедру, чтобы иметь возможность полностью посвятить себя работе. [В результате почти все позднейшие представители австрийской школы ("третье поколение"), такие как профессора Ганс Майер, Людвиг фон Мизес и Джозеф Шумпетер были учениками не Менгера, но Бём-Баверка или Визера.] Но результаты не удовлетворяли его, и он продолжал работать в усиливающемся одиночестве старости, и умер в 1921 году, дожив до почтенного возраста -- 81 год. Просмотр рукописей показал, что в какой-то момент значительная часть работы должно быть была готовой к публикации. Но даже когда силы начали покидать его, он продолжал пересматривать и переиначивать рукописи столь основательно, что было бы очень трудной, а может быть и невыполнимой задачей восстановить целое. Некоторые материалы, имеющие отношение к предмету Grundsatze и частично предназначенные для нового издания, были включены его сыном в новое издание работы, опубликованное в 1923 году. [Carl Menger, Grundsatze der Volkswirtrschaftslehre, Zweite Auflage mit einem Gekeitwort von Richard Schuller aus dem Nachlas herusgegeben von Karl Menger, op. cit. Рассмотрение всех изменений и дополнений, сделанных в этом издании, можно найти у F.X. Weis, "Zur zweiten Auflage von Carl Mengers Grundsatzen", Zeitschrift fur Volkwirtschaft und Sozialpolitik, N.S., vol. 4, 1924.] Гораздо большая часть материалов осталась, однако, в форме обширных и неупорядоченных рукописей, которые можно было бы сделать доступными для читателей только долгим и терпеливым трудом очень искусного редактора. В настоящее время, во всяком случае, результаты последних трудов Менгера следует считать утраченными. [В 1985 году незадолго до своей смерти Карл Менгер мл. почти закончил биографию своего отца, и семья Менгер, следуя его распоряжению, доверила завершение рукописи профессору Альберту Цлабингеру, директору института Карла Менгера в Вене. Кроме того, коллекция рукописей Карла Менгера была недавно приобретена университетом Дьюка. -- амер. изд.] Рискованная попытка дополнить этот очерк научной карьеры рассказом о его личности и характере была бы непозволительна для того, кто практически не встречался с ним лично. Но поскольку нынешнее поколение экономистов почти ничего о нем не знают, а обстоятельного литературного портрета не существует [стоит отметить краткие очерки, оставленные Ф. фон Визером в Neue osterreichische Biographie (Vienna: Amalthea, 1923), and Р. Цукеркандлем в Zeitschrift fur Volkswirtschaft, Sozialpolitik und Verwaltung, vol. 19, 1911], может быть не вовсе неуместна попытка свести воедино устную традицию Вены и некоторые письменные свидетельства его друзей и учеников. Естестенно, что эти воспоминания относятся только ко второй половине его жизни, когда он устранился от активного участия в делах этого мира и погрузился в спокойную и замкнутую жизнь ученого, которую целиком поглощали преподавание и исследования. Впечатления молодого человека от одного из редких случаев оказаться рядом с легендарной фигурой хорошо переданы на известной гравюре Ф. Шмутцера (F. Schmutzer). Не исключено, что этот мастерский портрет сформировал сохранившийся образ Менгера не в меньшей степени, чем личные воспоминания. Нелегко забыть выполненные резкими и ясными штрихами массивную, хорошо вылепленную голову и громадный лоб. Среднего роста [первоначально в тексте было "высокого". В немецком варианте статьи в 1968 году Хайек пишет: "Следует заметить, что единственное внесенное мною в текст изменение касается той единственной детали, о которой я мог бы свидетельствовать по собственному опыту. В исходном английском тексте я описал Карла Менгера как высокого человека, и именно это впечатление произвел на меня этот достойный человек, когда мы оказались рядом на церемониале Венского университета. Но все знавшие его лучше заверили меня позднее, что он был самое большое среднего роста" -- амер. изд.], с пышными волосами и бородой -- в период расцвета Менгер должен был производить чрезвычайно сильное впечатление. После его отставки стало традицией, что молодые экономисты, вставшие на путь академической карьеры, совершали паломничество в его дом. Менгер принимал посетителей добродушно и сердечно, вовлекал в разговор о внешнем мире, который он знал так хорошо и от которого отошел, получив от него все, чего желал. Он сохранял несколько отстраненный, но живой интерес к развитию экономической теории и к университетской жизни до конца своих дней и когда гаснущее зрение смирило в нем ненасытного читателя, он заставлял визитеров рассказывать о своей работе. В свои старческие годы он производил впечатление человека, который после долгой активной жизни продолжает действовать не ради долга перед самим собой или кем-либо еще, но ради чистого интеллектуального удовольствия движения в среде, с которой сроднился. В свои последние годы он, пожалуй, отчасти соответствовал популярному представлению об ученом, как о человеке не от мира сего. Но это не было результатом узости сознания. Это был сознательный выбор зрелого человека, насытившегося богатым и разнообразным опытом. Ведь если бы Менгер желал того, у него бы не было недостатка ни в возможностях, ни во внешних знаках отличия, чтобы стать одной из самых влиятельных фигур в общественной жизни. В 1900 году ему предоставили пожизненное место в верхней палате парламента Австрии. Но его мало интересовала возможность участвовать в работе парламента. Для него мир был скорее объектом исследования, а не действия, и только по этой причине близость к нему доставляла Менгеру такую радость. Тщетно искать каких-либо политических высказываний в его печатных работах.[Но теперь смотри Streissler, "Carl Menger on Economic Policy: The Lectures to Crown Prince Rudolph", op. cit. Штрейсслер сообщает, что "конспекты Рудольфа рисуют Менгера как чистой воды классического либерала, который предусматривал куда меньшую роль для государства, чем даже Адам Смит" (р. 110). -- амер. изд.] На деле он тяготел к консерватизму или старомодному либерализму. Нельзя сказать, чтобы он вовсе не симпатизировал движению за социальные реформы, но социальный энтузиазм никогда не оказывал воздействия на его холодную логику. В этом, как и во многом другом, он представлял занятную противоположность своему более страстному брату Антону. [Братья были постоянными членами группы, которая в 1880--1890-х гг. почти ежедневно собиралась в кафе напротив университета, и первоначально состояла из журналистов и бизнесменов, которых постепенно вытеснили бывшие ученики и студенты Менгера. Именно через этот кружок, по крайней мере до своей отставки из университета, Менгер сохранял контакт, а отчасти и влияние на текущие дела. Контраст между двумя братьями хорошо изобразил один из самых выдающихся учеников Менгера Рудольф Сигхарт. Rudolf Sieghart, Die letzten Jahrzehnte einer Grosmacht (Berlin: Ullstein, 1932), p. 21. "Братья Менгеры были странной и необычной парой: с одной стороны Карл, основатель австрийской школы экономической теории, открывший психоэкономический принцип предельной полезности, учитель кронпринца Рудольфа, журналист в молодости, хорошо изучивший большой мир и готовый отвернуться от него, революционер в своей области, но скорее консерватор в политике; с другой стороны Антон, несветский, постепенно терявший интерес к собственной области -- гражданскому праву и администрации, и вовлекавшийся в область социальных проблем и в рассуждения о роли государства в их решении, страстно увлеченный проблемами социализма. Вот Карл, мастер ясного и общедоступного изложения, бесстрастный на манер Ранке; а вот Антон, довольно темный писатель, которого привлекали все формы проявления социальных проблем -- в гражданском праве, в экономике и политической жизни. У Карла Менгера я научился знанию методологии экономической мысли, а влияние Антона Менгера сказалось в выборе проблем, которые занимали меня."] Но поколения студентов помнят Менгера как одного из лучших преподавателей университета [Необычайно велико число людей, которые в то или иное время принадлежали к узкому кругу учеников Менгера, а позднее оставили след в общественной жизни Австрии. К именам тех, которые уже упоминались в тексте, можно добавить еще следующие имена людей, сделавших тот или иной вклад в литературу по техническим проблемам экономической теории: Карл Адлер, Стефан Бауэр, Мориц Дуб, Маркус Эттингер, Макс Гарр, Виктор Гратц, И. фон Грубер-Меннингер, А. Красни, Д. Сигхарт, Вильгельм Розенберг, Герман Шварцвальд, У. Швидланд, Н. Кунвальд, Эрнст Сейлер и Ричард Торнвальд.], и благодаря этому он оказывал столь большое косвенное влияние на общественную жизнь Австрии. [Но через своего брата Макса, который многие годы входил в Совет Австрийской империи, и через различных знакомых по кафе, Менгер довольно долгое время оказывал существенное влияние на политические и экономические взгляды либерально настроенных немецких депутатов палаты представителей.] Во всех воспоминаниях согласно превозносится прозрачная ясность изложения. Можно привести здесь как характерный пример следующее впечатление молодого американского экономиста, который посещал лекции Менгера зимой 1892--1893 годов. "Профессор Менгер достаточно молод в свои 53 года. На лекциях он редко обращается к своим заметкам, разве что нужно уточнить цитату или дату. Кажется, что мысли приходят к нему прямо по ходу лекции, и он выражает их языком столь ясным и простым, и сопровождает настолько уместными жестами, что слушать его просто одно удовольствие. Студент чувствует, что его не погоняют, но ведут к выводам, и когда они достигнуты, то возникают в уме не как нечто навязанное извне, но как естественный результат собственного размышления. Говорят, что кто регулярно ходит на лекции профессора Менгера, тому не нужна дополнительная подготовка к выпускным экзаменам по политической экономии, и я готов верить этому. Я редко, а может быть и никогда не слушал лектора, обладающего таким же даром соединять ясность и простоту изложения с философской широтой воззрений. Его лекции крайне редко бывают недоступны самым посредственным студентам, и при этом они всегда поучительны для самых одаренных." [Henry R. Seager, "Economics at Berlin and Vienna", Journal of Political Economy, vol. 1, 1893, pp. 236--262, esp. p. 255, переиздано автором в Labor and Economic Essays (New York: Harper, 1931)] Особенно живые воспоминания сохранили его студенты о сочувственном и тщательном изложении истории экономических учений, а мимеографированные копии его лекций по государственным финансам студенты пытались раздобыть для подготовки к экзаменам еще двадцать лет спустя после его отставки. Но лучше всего его великий дар учителя раскрывался на семинарах, которые собирали узкий круг наиболее развитых студентов, а также тех, кто уже давно защитил свои докторские диссертации. Иногда при обсуждении практических вопросов семинар уподоблялся парламентским слушаниям, и один из участников должен был выступать pro, а другой -- contra. Однако чаще основой долгих дискуссий был тщательно подготовленный одним из слушателей доклад. Как правило, Менгер предоставлял дискутировать студентам, но зато он с бесконечным терпением помогал им готовить выступления. Мало того, что он предоставил в полное пользование студентам свою библиотеку, и даже покупал для них особенно нужные книги, но он по много раз прочитывал с ними рукопись, обсуждая не только главную тему ее, но даже "обучая их приемам красноречия и технике дыхания" [см. Viktor Gratz, "Carl Menger", Neues Wiener Tagblatt, February 17, 1921]. Новичкам поначалу бывало нелегко установить близкие отношения с Менгером. Но как только тот обнаруживал в студенте особый талант и включал его в избранный круг участников семинара, он начинал, не жалея сил, помогать студенту в работе. Общение с участниками семинара не ограничивалось академическими дискуссиями. Он часто приглашал семинар на воскресные поездки за город, либо брал отдельных студентов на рыбалку. Рыбалка явно была единственным его развлечением. Но и сюда, как во все, что делал, он вносил дух науки, пытаясь овладеть каждым приемом ловли и быть в курсе литературы о рыбалке. Было бы трудно вообразить Менгера страстно увлеченным чем-либо, что так или иначе не было связано с господствующим делом его жизни, с изучением экономической теории. Но было и еще одно дело, которому он отдавался столь же полно: собирание и сохранение библиотеки. Экономический раздел этой библиотеки должен быть отнесен к трем или четырем лучшим собраниям, когда-либо принадлежавшим частному лицу. [В статье в International Encyclopedia of the Social Sciences Хайек пишет, что в 1911 году Менгер оценивал величину библиотеки примерно в 25 тыс. томов. -- амер. изд.] Но помимо экономических книг, там были почти столь же богатые коллекции этнографической и философской литературы. После его смерти большая часть этой библиотеки, включая весь экономический раздел, отправилась в Японию, и сейчас сохраняется как отдельное собрание в библиотеке школы экономической теории в Токио (теперь университет Хитоцубаши). Только в экономическом разделе опубликованного каталога насчитывается более 20 тыс. наименований. [Включающие несколько портретов Менгера Katalog der Carl Menger-Bibliothek in der Handelsuniversitat Tokyo, Erster Teil, Sozialwissenchaften (Tokyo: Bibliothek der Handelsuniversitat, 1926), и Katalog der Carl Menger-Bibliothek in der Hitotsubashi Universitat, vol. 2 (Tokyo: Bibliothek der Hitotsubashi University, 1955). Профессор Emil Kauder в двух эссе "Menger and his Library", в Economic Review, Hitotsubashi University, vol. 10, 1959, и "Aus Mengers nachgelassenen Papieren", в Weltwirtschaftliches Archiv, vol. 89, 1962, анализирует рукописные заметки на полях некоторых книг из Менгеровской библиотеки, бросающие некоторый свет на развитие ряда его идей.С его помощью библиотека университета Хитоцубаши в 1961 и 1963 годах мимеографировала малотиражное издание заметок к двум томам под следующими названиями: "Carl Mengers Zusatze zu Grubsatze der Volkwirtschaftlehre", и "Carl Mengers erster Entwurf zu seinem Hauptwerk "Grundcatze", geschrieben als Anmerkungen zu den "Grundsatzen der Volkwirtschaftslehre" von Karl Heinrich Rau".<В статье в International Encyclopedia of the Social Sciences Хайек пишет об этих примечаниях: "Недавняя <1963> публикация примечаний от 1870 года к книге Рау дает основание для вывода, что Менгер развил свою теорию ценностей анализируя именно это изложение классической доктрины. В немецкой и французской экономической литературе начала века Менгер должен был найти изобилие материала для построения развитого анализа с позиций полезности. (В английской литературе традиция анализа с позиций полезности сохранилась не столь хорошо.) Сейчас появились основания считать, что среди доступных ему книг была также работа австрийского экономиста Joseph Kudler, Die Grundlehren der Volkwirtschaft (Vienna: Braumuller & Seidel, 1846). Среди его источников скорее всего не было книги автора, который является наиболее тесным его предшественником -- Gossen, Entwicklung der Gesetze des menschlichen Verkehrs (Braunschweig: Bieweg, 1854). О Госсене см. главу 15 F.A.Hayek, The Trend of Economic Thinking, op. cit. -- амер. изд.>] Менгеру не дано было достичь цели своих последних лет и закончить большой трактат, который должен был увенчать его труды. Но его должно было радовать созерцание того, как его прежние свершения дают богатейший урожай, и он до конца сохранил сильное и неослабевающее чувство к выбранному объекту исследований. Человек, который мог сказать, как это передают про Менгера, что если бы у него было семь сыновей, все они занимались бы экономической теорией, был, должно быть, необычайно счастлив в своей работе. Множество незаурядных экономистов, которые считали честью называть его своим наставником, свидетельствуют о наличии у него великого дара порождать подобный энтузиазм в учениках. Приложение: Место Grundsatze Менгера в
истории экономической мысли Grundsatze появилась в 1871 году, всего лишь через 95 лет после публикации Богатства народов, всего через 44 года после выхода в свет Принципов Рикардо, и через каких-то 23 года после того, как Джон Стюарт Милль предложил свою трактовку классической экономической теории. Эти интервалы нужно бы постоянно помнить, чтобы не слишком гордиться состоянием современной экономической теории (100 лет спустя), которой следовало бы достичь большего, чем она достигла. В конце этого столетия, правда, произошла другая революция, которая сместила интерес к тем аспектам экономического анализа, которым уделяли немного внимания в начале века, в период наибольшего воздействия работ Менгера. И все-таки в долгосрочной перспективе "микроэкономическая" стадия, которая многим обязана Менгеру, оказалась достаточно длительной. Она заняла более четверти тех без малого двух столетий, которые истекли со времени Адама Смита. Чтобы правильно понять Менгера, важно верно оценить достигнутое до него. Ошибка думать о предшествующем периоде 1820-1870 гг. как о времени простого господства Рикардианской ортодоксии. По крайней мере первое после-рикардианское поколение выдвинуло множество новых идей. После того, как концепция предельной полезности создала основу для объединения, позднейшие поколения смогли создавать подробную и последовательную теорию, используя те инструменты анализа, которые были накоплены как в рамках классической традиции, завершившейся грандиозным синтезом Джона Стюарта Милля, так и, в особенности, вне ее. Если и был период господства квази-рикардианской ортодоксии, то скорее уж после убедительнейшей переформулировки ее Джоном Стюартом Миллем. Но даже его Принципы содержат важные новшества, идущие далеко за пределы достигнутого Рикардо. И уже до публикации этой работы существовали важнейшие результаты, которые Милль не включил в свой синтез. Были ведь не только Курно, Тюнен и Лонгфилд с их ключевыми работами по теории цен и предельной проиводительности, но и ряд других важных работ по анализу спроса и предложения, не говоря уже о тех предшественниках анализа с позиций предельной полезности, которые в свое время не были замечены, и были признаны только позднее, как Ллойд, Дюпюи и Госсен. Таким образом, в наличии была большая часть того материала, который почти неизбежно кто-нибудь рано или поздно использовал бы для пересоздания всей экономической теории -- как это сделал в конце концов Альфред Маршалл, и, может быть, даже отсутствие маржиналистской революции не сильно сказалось бы на конечном результате его работы. Очень возможно, что именно явный возврат Милля в области теории ценности на позиции Рикардо во многом предопределил то, что реакция против классической экономической теории приняла ту самую форму, в которой мы ее знаем -- что почти одновременно Уильям Стенли Джевонс в Англии, Карл Менгер в Вене и Леон Вальрас в Лозанне положили в основу своих систем субъективное оценивание благ индивидуумом. На самом деле теории ценности Менгера и Вальраса далеко не в такой степени порождены реакцией против Милля, как в случае Джевонса. Но то, что так отчетливо проявилось у Милля, то отсутствие общей теории ценности, которая бы определяла единый принцип формирования всех цен, не в меньшей степени было свойственно системам и учебникам по экономической теории, которые были в ходу на континенте. Хотя во многих из них анализ факторов, участвующих в формировании тех или иных цен, отличался гораздо большей проницательностью, у всех у них отсутствовала общая теория, которая бы объединяла все возможное разнообразие ситуаций. Уже входил в пользование аппарат кривых спроса и предложения; может быть, стоит отметить, что в немецком учебнике Карла Хейнриха Рау, который был тщательно проштудирован Менгером в период написания своей Grundsatze, в конце приложены диаграммы, использующие эти кривые. Но, в целом, бесспорно, что господствовавшие теории предлагали совершенно разные объяснения механизма формирования цен на прирастающие (augmentable) и неприрастающие блага; и в случае первых цены продуктов объяснялись через издержки производства, т.е. через цены используемых факторов, но адекватного объяснения этих цен просто не существовало. Едва ли кого-либо могла удовлетворить такого рода теория. Вообще-то говоря, нелегко понять, как случилось, что Джон Стюарт Милль, ученый, обладавший проницательностью и безупречной интеллектуальной честностью, выделил самое слабое и уязвимое звено своей системы, чтобы заявить: "в законах ценности не осталось темных мест, подлежащих прояснению в настоящем или будущем; теория субъекта завершена". [John Stuart Mill, Principles of Political Economy, op. cit., book 3, chapter 1, sec.] Ряду внимательных мыслителей того времени было совершенно ясно, что основание всего здания экономической теории совершенно неудовлетворительно. При этом, видимо, было бы несправедливым заключение, что широкое разочарование в общем состоянии экономической теории, ставшее явным вскоре после триумфального успеха работы Милля, целиком или даже в большей степени было вызвано этой ошибкой. Были и другие обстоятельства, пошатнувшие доверие к экономической теории, господствовавшей в общественном мнении предыдущего поколения, такие как отказ Милля от теории фонда заработной платы (wage-fund), игравшей столь большую роль в его построениях, и которую ему нечем было заменить. Сыграло свою роль растущее влияние исторической школы, которая ставила под сомнение все попытки выработки общей теории экономических явлений. А тот факт, что выводы из господствовавшей в тот момент экономической теории препятствовали, как казалось, новым социальным претензиям, породил враждебность, которая и оказалась наиболее разоблачительной. Но хотя порой и утверждалось обратное, я не могу найти свидетельств того, что Джевонс, Менгер или Вальрас в своих усилиях перестроить экономическую теорию в какой-нибудь степени вдохновлялись стремлением заново утвердить практические выводы классической теории. Все имеющиеся факты свидетельствуют об их симпатиях к тогдашнему движению за социальные реформы. Мне представляется, что их научная работа проистекала исключительно из осознания того, что существовавшая теория неадекватно объясняет функционирование рыночного порядка. Я считаю, что во всех трех случаях источником вдохновения являлась интеллектуальная традиция, которая, по крайней мере со времен Фердинандо Галлиони в XVIII веке, развивалась бок о бок с теориями труда и издержек, разработанными Джоном Локком и Адамом Смитом. У меня нет возможности воспроизвести хорошо изученную историю того, как традиция полезности оказалась включенной в теорию ценности. Но если в случаях Джевонса и Вальраса вполне ясно, на кого из предшествующих авторов они опирались, с Менгером не все так просто. В целом верно, что немецкая литература, на которую он вначале опирался, уделяла большее внимание отношениям между ценностью и полезностью, чем английские авторы. Но ни одна из известных ему работ и близко не подходила к найденному им впоследствии решению проблемы; а работа Хейнриха Госсена, единственная в немецкой литературе, в которой были намечены те же результаты, была ему явно неизвестна в те времена, когда он писал свою Grundsatze. Не очень правдоподобно предположение, что в решении этих проблем он мог черпать помощь в своем окружении. Похоже, что он работал в полной изоляции, и в старости он говаривал молодым, что в свое время у него не было таких возможностей для обсуждения проблем, как у них [Ludwig von Mises, The Historical Setting of the Austrian School of Economics, op. cit., p. 10]. В то время Вена не была тем местом, откуда можно было бы ожидать возникновения новых идей в области экономической теории. Впрочем, мы слишком мало знаем о молодых годах и образовании Менгера, и можно лишь пожалеть, что члены австрийской школы сделали так мало для прояснения этих подробностей. [Мой собственный, <воспроизводимый в этой главе>, очерк жизни Менгера, написанный мною в 1934 году в Лондоне как Предисловие к его работам, никак не в силах восполнить этот пробел. В тех обстоятельствах я мог только скомпилировать данные ряда опубликованных источников, дополнив это информацией, полученной от сына Менгера и его учеников.] То немногое, что известно теперь о происхождении и истории его идей, было открыто вне Австрии, и едва ли может заменить работу по местным источникам. [В см. George J. Stigler, "The development of utility theory", Journal of Political Economy, vol. 58, 1950, перепечатано в его же Essays in the History of Economics (Chicago: University of Chicago Press, 1965); Richard S. Howey, The Rise of Marginal Utility School 1870--1880 (Lawrence, Kans.: University of Kansas Press, 1960); Reginald Hansen, "Der Methodenstreit in den Socialwissenschaften zwischen Gustav Scmoller und Karl Menger: seine wissenschaftshistirische und wissenschafttheoretische Bedeutung", in Alwin Diemer,ed., Beitrage zur Entwicklung der Wissenschafttheorie im 19. Jahrhundert (Meisenheim am Glan: A. Hain, 1968); а также работы Эмиля Каудера, перечисленные в следующем примечании.] Даже если в природе нету материалов для подробной биографии Менгера, можно было бы получить гораздо более отчетливую, чем сейчас, картину того интеллектуального окружения, в котором он начинал работать. Здесь мне приходится ограничиться изложением тех немногих уместных сведений, большую часть которых я почерпнул в работах профессора Эмиля Каудера [Emil Kauder, "The retarded acceptance of marginal utility theory", Quarterly Journal of Economics, vol. 67, 1953, pp. 564--575; "Intellectual and Political Roots of the older Austrian school", Zeitschrift fur Nationalokonomie, vol. 17, 1958, pp. 411--425; "Menger and his library", op. cit.; "Aus Mengers nachgelassenen Papieren", op. cit.; and A History of Marginal Utility Theory (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1965)]. В Австрии никогда не было такой моды на экономическую теорию Смита, и никогда не были там столь безоглядно приняты французские и английские экономические идеи, как в большей части Германии в первой половине прошлого века. В австрийских университетах вплоть до 1846 года экономическую теорию изучали по камералистскму учебнику XVIII века Иосифа фон Шоненфельса [Joseph von Sonnenfels, Grundsatze der Polizey, Handlung und Finanz (Vienna: Kirzbeck, 1765--1767) -- амер. изд.]. Только в 1846 году на смену ей пришла книга Д. Кудлера Grundlehren der Volkswirtschaft [Joseph Kudler, Grundlagen der Volkwirtschaft, op. cit. -- амер. изд.], по которой, скорее всего, учился и Менгер. В этой работе он должен был найти обсуждение взаимосвязи между ценностью и полезностью, а также рассмотрение смысла того, что разные блага обслуживают более и менее настоятельные потребности. У нас, однако, нет свидетедельств того, что Менгер всерьез интересовался этими проблемами до выхода из университета. Сообщают, что, по его собственным словам, интерес возбудился, когда ему, молодому государственному служащему, пришлось составлять отчеты о состоянии рынков, и вот тут-то пришлось осознать, сколь мало существующая экономическая теория помогает понять изменения цен. В его экземпляре вышеупомянутого учебника Рау сохранились самые ранние заметки, свидетельствующие, что к 1867 году, в возрасте 27 лет, он уже начал всерьез размышлять об этих проблемах, и даже довольно близко подошел к окончательному решению. Эти обширные заметки на полях его экземпляра томика Рау, хранящиеся вместе с экономической частью библиотеки Менгера в Токийском университете Хитоцубаши, при содействии профессора Каудера были изданы под заглавием "Первый набросок Grundsatze" ["Carl Menger erster Entwurf zu seinem Hauptwerk "Grundsatze" geschrieben als Ammerkungen zu den "Grundsatzen Volkswirtschaftslehre" von Karl Heinrich Rau", op. cit., а также "Carl Menger Zusatze zu Grundsatze der Volkswirtschaftslehre", op. cit.], хотя вряд ли эти заметки можно так именовать. Здесь видно, что он уже пришел к пониманию зависимости ценности благ от определенных желаний, удовлетворению которых они служат, и в тексте проявляется характерное раздражение по поводу темных замечаний на эту тему, что понятно в человеке, который пришел уже к ясному пониманию ситуации, но этим заметкам еще весьма далеко до той методической ясности, которая отличает Grundsatze (что, может быть, и неизбежно). Я полагаю, что, судя по ссылкам на текущие немекие дискуссии, книга действительно была проработана между 1867 и 1871 годами. Эффективность выбранного Менгером стиля в последовательной неторопливости изложения. Он начинает с определения свойств полезных объектов, затем -- благ, затем -- редких или экономических благ, и после этого переходит к рассмотрению факторов, определяющих их ценность; затем он переходит к продаваемости благ (и к различным степеням продаваемости <ликвидности -- Б.П.>), что подводит его непосредственно к вопросу денег. И на каждом этапе Менгер подчеркивает (в манере, которая может показаться скучной современному читателю, для которого все эти разграничения стали банальными) как все эти качества зависят от 1) потребностей действующего человека; 2) от знания им фактов и обстоятельств, в силу которых удовлетворение его потребностей зависит от этого конкретного блага. Он постоянно подчеркивает, что эти свойства не есть принадлежность самих по себе вещей (или услуг); эти свойства не могут быть выявлены изучением изолированных объектов. Они определяются в процессе отношений между людьми и вещами, на которые они воздействуют. Именно люди, исходя из осознания своих субъективных потребностей и из знания объективных условий их удовлетворения, приписывают физическим объектам ту или иную степень значимости. Наиболее очевидным результатом этого анализа стало разрешение старого парадокса ценности благодаря различению между общей и предельной полезностью благ. Менгер еще не использует термин "предельная полезность" (вернее, его немецкий эквивалент Grenznutzen), который был введен в пользование Фридрихом фон Визером только 13 лет спустя [Wieser, Ursprung und Hauptgesetze des wirtschaftlichen Wertes, op. cit. -- амер. изд.]. Но он делает различение совершенно ясным, показывая на простейшем возможном примере, когда дано некое количество определенного рода потребительского блага, которое может быть использовано для насыщения различных потребностей (интенсивность каждого из которых падает по мере удовлетворения), что значимость любой единицы этого блага зависит от последней по значимости потребности, для насыщения которой достаточно наличного общего количества. Но если бы он здесь и остановился, он достиг бы не большего, чем достигли некоторые неизвестные ему предшественники, да и воздействие его оказалось бы, скорее всего, не большим, чем у них. То, что позднее Визер назвал двумя законами Госсена, а именно: убывание полезности последовательных актов насыщения любой нужды, и уравнивание различных потребностей, для насыщения которых может быть использовано одно благо, -- были для Менгера не более, чем исходным моментом применения той же самой основной идеи к более сложным отношениям. Преимущество подхода Менгера, в отличие от того, чего достигли его предшественники, в систематическом применении основной идеи к ситуациям, в которых насыщение потребности только косвенно (или частично) зависит от некоего определенного блага. Скрупулезное описание причинных связей между благами и теми потребностями, удовлетворению которых они служат, позволило ему вскрыть такие базовые отношения, как: комплиментарность <взаимодополняемость -- Б.П.> и потребительских благ и факторов производства; различие между благами низших и высших порядков; изменчивость пропорций, в которых могут быть использованы факторы производства; и, самое важное, наконец, определение издержек через полезность, которой могут обладать блага при альтернативном использовании. Главным достижением Менгера было это распространение приема, выводящего ценность благ из их полезности, от случая с определенным количеством потребительских благ на общую ситуацию, когда рассматривается совокупность всех возможных благ, включая факторы производства. Заложивши в качестве основы своего объяснения ценности благ некую типологию возможных структур отношений между средствами и целями, Менгер создал фундамент для того, что позднее получило название чистой логики выбора или экономического расчета (economic calculus). Эта логика содержит по крайней мере элементы анализа потребительского поведения и поведения производителя, т.е. две важнейших части современной микроэкономической теории. Правда, его ближайшие последователи занимались в основном анализом поведения потребителей, и не развили слабые наметки содержавшегося у Менгера анализа предельной производительности, который столь важен для адекватного понимания поведения потребителей. Развитие существенной ветви -- теории фирмы -- было большей частью оставлено Альфреду Маршаллу и его школе. И тем не менее Менгером было сделано достаточно, чтобы заявить, что им предложены все основные элементы для достижения главной цели -- объяснения цен -- которое может быть получено из анализа поведения отдельного участника рыночного процесса. Последовательное использование умопостигаемого поведения отдельных людей как строительных элементов моделей сложных рыночных структур является, конечно, сущностью метода, который сам Менгер называл "атомистическим" (в рукописных примечаниях, иногда, "синтетическим"), и который позднее стал известен как методологический индивидуализм. Природа метода наилучшим образом выражена в Предисловии к его Grundsatze, где он заявляет своей целью "проследить сложные явления социального хозяйства до тех его простейших элементов, которые еще могут быть доступны надежному наблюдению". И хотя он подчеркивает, что при этом он использует эмпирический подход, общий для всех наук, одновременно он утверждает, что, в отличие от физических наук, которые разлагают непосредственно наблюдаемые явления на гипотетические элементы, в социальных науках мы начинаем со знакомых нам элементов и используем их для построения моделей возможных конфигураций сложных структур, которые могут быть из них получены, и которые далеко не в той же степени доступны непосредственному наблюдению, как сами элементы. Это поднимает ряд важных вопросов, труднейшие из которых я могу затронуть лишь бегло. Менгер убежден, что при наблюдении действий другого человека мы располагаем такой способностью понимать значение этих действий, которой мы лишены по отношению к физическим явлениям. Это тесно связано с "субъективным" характером теорий, что означает, по крайней мере для последователей Менгера, что они основаны на нашей способности схватывать внутреннее значение наблюдаемых действий. Менгер использует термин "наблюдение" в значении, которого бы не приняли современные бихевиористы; он предполагает Verstehen ("понимание") в том смысле, который позднее был развит Максом Вебером. Мне представляется, что еще многое может быть сказано в защиту первоначальной позиции Менгера (и австрийской школы в целом) по этому вопросу. Но поскольку позднейшее развитие техники кривых безразличия, и в особенности подход, исходящий из "явных предпочтений", которые были разработаны, чтобы избежать обращения к такого рода интроспективному знанию, показали, что в принципе требуемые микроэкономической теорией гипотезы об индивидуальном поведении могут быть сформулированы независимо от этих психологических предпосылок, я оставляю этот вопрос в стороне и непосредственно перехожу к другой трудности, которая сопутствует всем формам методологического индивидуализма. Дело, конечно же, в том, что если бы мы собирались вывести из нашего знания об индивидуальном поведении определенные предсказания об изменениях сложных структур, которые возникают из действий отдельных людей, нам бы потребовалось знание о поведении каждого имеющего отношение к делу отдельного человека. Менгер и его последователи определенно сознавали, что вся эта информация нам недоступна. Но они столь же определенно полагали, что обычное наблюдение дает нам достаточно полный перечень различных типов возможного индивидуального поведения, и даже вполне удовлетворительное знание о вероятности возникновения определенных типичных ситуаций. Они пытались показать, что эти известные элементы могут складываться только в определенные типы стабильных структур, и ни в какие другие. В этом смысле такого рода теории должны обладать способностью порождать фальсифицируемые (capable of falsification) предсказания о типах возможных в будущем структур. Конечно, эти предсказания могут относиться только к наличию определенных свойств у этих структур, или устанавливать возможные пределы для изменений этих структур, и, по видимому, не могут быть предсказаны конкретные события или изменения этих структур. Чтобы на основании такого рода микротеории получать предсказания конкретных событий нам следовало бы знать не только типы индивидуальных элементов, из которых составлены сложные структуры, но и определенные свойства каждого отдельного элемента, входящего в данную конкретную структуру. За пределами тех случаев, когда микроэкономическая теория может оперировать более или менее вероятными предположениями, ceteris paribus, она способна лишь на то, что я как-то назвал "модельным предсказанием" -- т.е. может предсказывать вид стуктуры, которая может сложиться из доступных элементов. Для большей части микроэкономической теории безусловно существует это ограничение способности предсказывать определенные события, и я уверен, что такое же ограничение существует для всех теорий, относящихся к явлениям, характеризующимся, по определению Уоррена Уивера, "организованной сложностью" (в отличие от явлений неорганизованной сложности, для которых информация об индивидуальных элементах может быть заменена знанием статистической вероятности появления определенных элементов). [Warren Weaver, "Science and Complexity", The Rockefeller Foundation Annual Report,1958 <До этого опубликовано в American Scientist, vol. 36, 1948, pp. 536--544. Обсуждение природы "организованной сложности" см. у Herbert A. Simon, "The Architecture of Complexity", Proceedings of the American Philosophical Society, vol. 106, December 1962, pp. 467--482. -- амер. изд.>] Основную позицию здесь легко проиллюстрировать часто цитируемым утверждением Вильфредо Парето относительно ограниченной применимости системы уравнений, с помощью которых в школе Вальраса описывают состояние равновесия всей экономической системы. Он определенно заявляет, что эти системы уравнений "никоим образом не имеют целью вычисление действительных цен", и что было бы "абсурдным" предположение, что нам могут стать известны все определенные факты, от которых зависят эти конкретные величины [Vilfredo Pareto, Manuel d'economie politique, second edition (Paris: M. Giard, 1927), p. 223]. Мне кажется, что Карл Менгер вполне осознавал ограниченность прогностических возможностей созданной им теории и был при этом вполне удовлетворен результатом, поскольку чувствовал, что большего в этой области не достичь. На мой вкус, в скромности этого стремления, ограничивающего себя намерением выявить лишь некоторый коридор, в котором окажутся цены, и не пытающегося вычислить их точные значения, есть некий освежающий реализм. Мне даже представляется, что отвращение Менгера к математике было направлено против претензий на точность <предсказаний -- Б.П.>, которую он считал недостижимой. С этим связано и отсутствие в работах Менгера концепции общего равновесия. Если бы он продолжил свою работу, то, возможно, стало бы еще яснее, чем это выражено во вводной части (т.е. в Grundsatze), что он стремился не к теории статического равновесия, но, скорее, к развитию инструментов того, что мы теперь называем анализом процессов (process analysis). В этом отношении его работа, да и все труды австрийской школы, очень сильно отличаются от даваемой Вальрасом грандиозной картины экономической системы. Мне представляется, что отмеченное выше ограничение предсказательных возможностей характерно для всей микроэкономической теории, развитой на основе анализа предельной полезности. В конечном счете, именно желание достичь большего повело к росту неудовлетворенности этой разновидностью микротеории и к попыткам заменить ее теорией другого вида. Прежде чем обратиться к реакции против того типа теории, для которой образцом были работы Менгера, я должен сказать несколько слов о том, как именно воздействовал авторитет Менгера в период наибольшего его влияния. Хотя книгу Grundsatze прочитали сравнительно небольшое число людей, немного найдется других книг, оказавшихся столь же влиятельными. Воздействие книги было преимущественно косвенным; она приобрела значимость только по прошествии значительного времени. Хотя обычной датой маржиналистской революции считается время публикации книг Джевонса и Менгера, напрасно в следующие десять лет искать в литературе признаков их воздействия. О книге Менгера известно, что в самом начале у нее было всего несколько внимательных читателей, среди которых были не только Евгений Бём-Баверк и Фридрих фон Визер, но и Альфред Маршалл; но сравнительно широкое обсуждение этих идей началось только после того, как в середине 80-х годов были опубликованы книги Визера и Бём-Баверка. Только после этого мы имеем возможность наблюдать действительное распространение маржиналистской революции. И в этот период читали их работы, но не книгу Менгера. Именно их работы были вскоре переведены на английский, а книге Менгера пришлось ждать этого еще восемьдесят лет. На полях принадлежавшего Альфреду Маршаллу экземпляра Grundsatze, который сохранился в его библиотеке в Кембридже, сохранились детальные замечания, воспроизводящие развитие основных аргументов. Мне кажется, что они были написаны самим Маршаллом. Может быть, именно эта вялая реакция на публикацию его книги побудила Менгера оставить теоретические разработки и обратиться к защите теоретического подхода в общественных науках. Когда он начал работать над своей второй книгой -- Исследование метода (Untersuchungen uber die Methoden der Sozialwissenschaften) -- которая вышла в свет в 1883 году, ему должно было казаться, что его первая книга прошла совершенно незамеченной; и не потому, что ее сочли ошибочной, но просто в силу того, что экономисты его времени, по крайней мере в немецко-говорящем мире, продолжали считать экономическую теорию делом никчемным и малозначащим. Совершенно естественно, хотя, пожалуй, и жаль, что Менгеру в этой ситуации представлялось более важным делом не продолжать развитие своей теории, но утвердить важность теоретического подхода в целом. В итоге дело развития и распространения его идей легло целиком на плечи его последователей, и нет никаких сомнений, что в течение полувека от середины 80-х до середины 30-х годов эти идеи, по крайней мере за пределами Британии, где господствовала школа Альфреда Маршалла, оказали наибольшее воздействие на развитие того, что не вполне правильно называют неоклассической экономической теорией. Об этом существует свидетельство Кнута Викселя, являющегося, видимо, наиболее компетентным судъей, поскольку он одинаково хорошо знал различные ветви маржиналистской теории, который в 1921 году в некрологе Карлу Менгеру писал, что "со времен Принципов Рикардо ни одна книга не оказала такого воздействия на развитие экономической теории, как Grundsatze Менгера" [Knut Wicksell, op.cit., p. 118]. Пятьдесят лет спустя это суждение перестало быть справедливым только лишь в результате того, что усилиями лорда Кейнса в центре внимания на месте микротеории оказалась макроэкономика. Некоторые подвижки в этом направлении были различимы уже до публикации Общей теории занятости, процента и денег, и имели причиной растущую неудовлетворенность вышеотмеченными ограничениями прогностических возможностей микротеории. Растущий спрос на инструменты более тщательного управления экономическими процессами (для чего необходимо лучше знать специфические результаты воздействия определенных мероприятий) вел к попыткам использовать доступную статистическую информацию как базу для прогнозирования. Эти попытки опирались на определенные методологические убеждения типа того, что подлинно научная теория должна давать возможность предсказаний, и что должна существовать возможность для выявления взаимозависимостей между количественными изменениями измеримых агрегатных показателей. Я уже отмечал, что, с моей точки зрения, гораздо более скромная теория еще может быть проверяемой, т.е. может быть опровергнута фактическими наблюдениями; здесь я могу только добавить, что столь же определенным мне представляется следующий вывод -- эти амбициозные цели недостижимы. Нельзя отрицать, однако, что если бы удалось установить, что некоторые из таких связей являются более или менее устойчивыми на длительных промежутках времени, возможность прогнозировать, а значит и полезность экономической теории, сильно выросли бы. Я не уверен, что за последние 25 лет, несмотря на все приложенные усилия, в этом направлении удалось многого достичь. Мне представляется, что в конечном итоге будет обнаружено, что в целом такие постоянные зависимости создаются определенными микроэкономическими условиями, а значит, мы сможем судить о том, сохранятся ли в будущем найденные нами количественные связи между агрегатными показателями, только опираясь на микроэкономический анализ ситуации. Следовательно, можно ожидать, что в будущем новый толчок развитию микроэкономической теории будет создан потребностями макроанализа. Возможно, следует добавить, что наблюдающееся в последнее время явное отсутствие интереса к микротеории у молодых экономистов порождено определенной формой макротеории. Кейнс развивал ее, главным образом, как теорию занятости, исходившую, по крайней мере в самом начале, из предположения о наличии неиспользуемых резервов всевозможных факторов производства. Результатом было пренебрежение к факту редкости ресурсов, а в итоге структуру относительных цен истолковывали исключительно как не требущий теоретического анализа результат исторического развития. Возможно, что такого рода теория была полезна в ситуации общей безработицы, порожденной Великой депрессией. Но от нее не так уж много толку в условиях безработицы, существующей сегодня и возможной в будущем. Появление и рост безработицы в период инфляции убедительно показывает, что безработица не представляет собой всего лишь функцию общего спроса, но определяется структурой цен и производства, которые можно понять только с помощью микротеории [т.е. инфляционного спада, который мы сейчас называем стагфляцией -- амер. изд.]. Мне представляется, что уже различимы признаки возрождения интереса к такого рода теории, которая впервые достигла пика популярности одно поколение назад -- в конце периода, когда сильно чувствовалось влияние Менгера. К тому времени его идеи перестали быть исключительной собственностью австрийской школы, поскольку они стали частью теории, которую преподавали почти по всему миру. Но хотя уже не существует определенной австрийской школы, все еще есть отчетливая австрийская традиция, от которой можно ожидать немалый вклад в будущее развитие экономической теории. Плодотворность этого подхода пока еще далеко не исчерпана, и существует ряд задач, для решения которых ее можно использовать. Но эти будущие задачи я рассмотрю в другой статье. Здесь я пытался лишь очертить роль, которую сыграли идеи Менгера в течении ста лет, прошедших со времени публикации его первой и самой важной книги. Я надеюсь, что следующая статья покажет, в какой степени все еще сильно его влияние. [Здесь Хайек говорит о статьях в сборнике Carl Menger and the Austrian School of Economics, op. cit., который приблизительно (1973) обозначил начало "австрийского ренессанса" в экономической теории. В следующем году состоялась первая за пределами Австрии большая конференция, посвященная австрийской экономической теории, которая была организована Институтом исследований человека (Institute for Humane Studies) в South Royalton в штате Вермонт; также в следующем 1974 года Хайеку была присуждена нобелевская премия. -- амер. изд.] Глава четыре. Людвиг фон Мизес (1881-1973)
Эта глава состоит из ряда кратких статей о Людвиге фон Мизесе, написанных Хайеком в разные годы. Статьи, следующие после двух вводных разделов, расположены в соответствии с датами публикации обсуждаемых работ Мизеса, и в начале каждой указывается источник. Три публикации о Мизесе, могущие представлять известный интерес, не вошли в текст. Это "Die Uberlieferung der Ideale der Wirtschaftsfreiheit", Schweizer Monatschefte, vol. 31, September 1951, на английском имеет название "The Ideals of Economic Freedom: A liberal Inheritance", The Owl (London), 1951, pp. 7--12, и перепечатано как "A Rebirth of Liberalism", The Freeman, July 1952, pp.729--731, а также перепечатано как "The Transmission of the Ideals of Economic Freedom", Studies in Philosophy, Politics and Economics (London: Routledge & Kegan Paul; Chicago: University of Chicago Press; Toronto: University of Toronto Press,1967); "In Memoriam Ludwig von Mises 1881--1973", Zeitschrift fur Nationalokonomie, vol. 33, 1973; "Coping with Ignorance", Imprimis, vol. 7, no.7, July 1978, pp. 1--6, перепечатано в Champions of Freedom (Hillsdale, Mich.: Hillsdale College Press, 1979). -- амер. изд. Людвиг фон Мизес: Очерк Создание великой системы социальной мысли, явленной нам в работах Людвига фон Мизеса, было начато полвека назад, когда он был очень занятым администратором, который мог уделять исследованиям и преподаванию только часть своего времени. Пока он жил в своей родной Вене, то есть до 50 с лишним лет, большую часть времени он посвящал обязанностям финансового консультанта в важнейшей полугосударственной организации австрийских предпринимателей -- в Венской торговой палате, и для преподавания в Венском университете у него оставалось совсем немного времени. Отсюда нужно еще вычесть несколько лет, проведенных им на полях Первой мировой войны в качестве артиллерийского офицера. Незадолго до начала войны и вскоре после ее окончания он опубликовал две работы, содержащих начатки большей части идей, позднее развитых им в целостную систему. В 1912 году появились его Теория денег [Ludwig von Mises, Theorie des Geldes und der Umlaufsmittel, op. cit. -- амер. изд.], многие годы остававшаяся самой глубокой и основательной книгой на данную тему. Она не сразу оказала должное воздействие, которое могло бы избавить послевоенный мир от многих злоключений в сфере денежного обращения, главным образом потому, что он счел нужным углубиться в проблемы общей теории ценностей. Это оказалось барьером для многих из тех, кто мог бы извлечь выгоду из ясного изложения вопросов, имеющих большую практическую ценность. После войны в 1922 году последовала его выдающаяся работа Социализм [Ludwig von Mises, Die Gemeinwirtschaft: Intersuchungen uber den Sozialismus, op. cit. -- амер. изд.], сделавшая его знаменитым. Вопреки распространенному неверному представлению, главный тезис книги не в том, что социализм невозможен, но в том, что он не может обеспечить рациональное использование ресурсов [об этом см. Введение к этому тому -- амер. изд.]. Последнее достижимо только на основе вычислений, осуществляемых в терминах ценностей или цен, которые, в свою очередь, могут быть достоверными только в условиях конкурентного рынка. Именно это утверждение привлекло широчайшее внимание и стало предметом многолетних дискуссий, в которых победа осталась за Мизесом, по крайней мере, в том смысле, что защитникам социализма пришлось пойти на далеко идущие изменения в своих доктринах. Книга о социализме была особенно важна тем, что выдвинула Мизеса как ведущего истолкователя и защитника системы свободного предпринимательства. Хотя в молодости его окружала атмосфера умеренного "фабианского" социализма, господствовавшего тогда в кругах Венской интеллигенции, он вскоре восстал против него, отдалившись, тем самым, от большинства современников. Вполне возможно, что этим обращением он был обязан Бём-Баверку, профессору университета, имевшему на него наибольшее влияние. Незадолго до своей преждевременной смерти Бём-Баверк начал работать в направлении, которое позднее развил Мизес. Ко времени публикации Социализма Мизес так сильно уверился в том, что социалистические притязания есть плод интеллектуального заблуждения и неспособности верно понять задачу, которая возложена на экономическую систему, что позднейшие его попытки развить общую теорию общества и его выступления в защиту либертарианского политического порядка зачастую оказывались неразделимыми. Его склонность, особенно в молодые годы, защищать свою позицию упорно и непримиримо, создали ему много врагов. В основном по этой причине он так никогда и не получил постоянного места в Венском университете, и многие ученые долго воспринимали его чисто теоретические работы как идеологически подозрительные. [Причиной того, что Мизес так и не получил постоянного места в Университете, вполне мог бы быть и антисемитизм. Но в своей неоконченной статье об австрийской школе для словаря New Palgrave (глава 1, прим. 1), Хайек так дополняет описание Венского университета после Первой мировой войны: "Мизес, служивший во время войны в армии, возобновил преподавание в качестве Privatdozent и должен был быть естественным претендентом на пост профессора. Обычно его неуспех объясняют антисемитизмом, но были более сложные причины, которые следует изложить. На факультете права, где преподавали экономическую теорию, работало не мало уважаемых еврейских профессоров, и в то время, о котором мы говорим, был избран профессором, например, Ганс Кельзен. Но при этом было необходимо, чтобы кандидата на пост профессора одобрила еврейская община, склонявшаяся в то время к левым позициям. Острая критика социалистических программ сделала имя Мизеса очень непопулярным в этих кругах. Это и было главной причиной, почему он так и не получил положения постоянного профессора в университете." См. также в этом томе pp. 157--158, и Earlene Craver, "The Emigration of the Austrian Economists", op. cit., p. 5. -- амер. изд.] Время от времени он читал случайные курсы в университете, но его личное влияние распространялось многие годы благодаря работе неформального дискуссионного кружка, который был известен в Вене как Privatseminar, в котором обсуждались разнообразнейшие вопросы социальной теории и философии. Среди наиболее известных членов этого кружка были не только экономисты Готтфрид Хаберлер и Фриц Махлуп [Хаберлер и Махлуп принадлежат к группе учеников Мизеса, приобретших позднее известность в Соединенных Штатах; оба были президентами Американской экономической ассоциации. -- амер. изд.], но и социологи, как покойный Альфред Шульц, и философы, наподобие покойного Феликса Кауфмана. [Хайек также был членом этого кружка. См. в этом томе Пролог к части 1. -- амер. изд.] 1920-е и начало 1930-х годов были для Мизеса временем чрезвычайно плодотворным, когда он смог в ряде монографий по экономическим, социологическим и философским проблемам развить философию общества, которая была впервые изложена в работе на немецком языке, а затем подытожена в его magnum opus, который сделал его известным в Америке, в Human Action.Эта книга была написана в Нью-Йорке. Мизес перебрался из Вены в Женеву незадолго до гитлеровской оккупации Австрии, а в 1940 году, почти в самый последний момент, перебрался из Женевы в Соединенные штаты. Американские годы были счастливыми для него. Окруженный заботой новой жены, впервые в жизни он мог целиком посвятить себя писанию и преподаванию. Но даже самый краткий очерк его жизни нельзя закончить без упоминания трех главных черт, характеризующих его как ученого: редкостная ясность изложения; изумляющая историческая эрудиция; и глубокий пессимизм относительно будущего нашей цивилизации. Этот пессимизм часто проявлялся в предсказаниях, которые осуществлялись обычно позднее, чем он ожидал, но в конечном итоге сбывались. Я полагаю, что мир был бы лучшим местом для жизни, если бы люди чаще прислушивались к Людвигу фон Мизесу. В честь профессора Мизеса
В моей жизни не было и, я полагаю, не будет случая, когда бы я чувствовал такое удовлетворение и гордость от возможности выразить от имени всех собравшихся здесь и сотен других людей глубокое уважение и благодарность, которые мы испытываем к великому ученому и великому человеку. Этой честью я, несомненно, обязан лишь тому, что среди всех достойных я являюсь старейшим из его учеников, а значит, в состоянии поделиться личными воспоминаниями о некоторых этапах работы человека, которого мы чествуем сегодня. Прежде чем обратиться прямо к профессору Мизесу, я надеюсь, что он позволит рассказать немного о нем. Хотя мои воспоминания покрывают почти 40 лет из тех 50, которые прошли с момента празднуемого сегодня события, моих знаний недостаточно, чтобы рассказать о первых годах этого периода. Когда я впервые стал слушателем профессора Мизеса сразу после окончания первой <мировой> войны, он был уже известным лицом, первая из больших работ которого была признана как выдающийся труд по теории денег [Ludwig von Mises,Theorie des Geldes und der Umlaufsmittel, op. cit. -- амер. изд.]. Эта книга появилась в 1912 году, но она не была его первой книгой. Первая его книга по экономической теории вышла десятью годами раньше, за четыре года до получения степени доктора [Ludwig von Mises, Die Entwicklung des gutsherlichbauerlichen Verhaltnisses in Galizien, 1172--1848 (Vienna and Leipzig: Franz Deuticke, 1902), в 6 томе серии Wiener Staatswissenschaftliche Studien -- амер. изд.]. Я никогда толком не понимал, как ему удалось это. Мне представляется, что книга была написана до его знакомства с одним человеком предыдущего поколения, с Евгением Бём-Баверком, который мог бы претендовать на то, что оказывал существенное воздействие на его научное мышление. Именно на семинаре Бём-Баверка сформировалась та блистательная группа, которая приобрела известность как третье поколение австрийской школы, основанной Карлом Менгером. Очень быстро выявилось, что наибольшей умственной независимостью в этой группе обладал Мизес. Прежде чем расстаться со студенческим периодом, который 50 лет назад завершился получением докторской степени, я прервусь для объявления. Не мы одни подумали о том, что эта годовщина подходящий случай почтить профессора Мизеса. Боюсь, это для него уже не новость, и я не смогу быть первым, кто сообщит, что Венский университет также пожелал отпраздновать юбилей. Несколько дней назад я узнал, что факультет права этого университета решил формально возобновить докторскую степень, присужденную столь давно. Если профессор Мизес еще не получил нового диплома, это случится в ближайшее время. Я могу прочитать вам то, что декан прислал мне авиапочтой: Факультет права Венского университета на своем собрании 3 декабря 1955 года принял решение возобновить докторский диплом, выданный 20 февраля 1906 года Людвигу фон Мизесу, "который заслужил величайшего отличия своим вкладом в экономическую теорию австрийской школы, способствовал росту репутации австрийской науки за рубежом, чрезвычайно плодотворно потрудился на посту директора Венской торговой палаты, и по инициативе которого был создан австрийский институт экономической теории" [имеется в виду Osterreichische Konjunkturforschungsinstitut или Австрийский институт исследований делового цикла; об Институте см. Пролог к части 1 -- амер. изд.]. Но я должен вернуться к его первому выдающемуся вкладу в экономическую теорию [Theorie des Geldes und der Umlaufsmittel, op. cit. -- амер. изд.]. Для меня это первое десятилетие нашего века, когда была написана книга, может показаться давно миновавшей эпохой мирной жизни; и даже в Центральной Европе большинство людей вводили себя в заблуждение идеей стабильности своей цивилизации. Но события развернулись именно так, как это увидел проницательный, наделенный даром предвидения наблюдатель -- профессор Мизес. Мне даже представляется, что первая книга писалась с постоянным ощущением нависающей катастрофы, в обстановке всех трудностей и тревог, которые давят на молодого офицера резерва в эпоху постоянной угрозы войны. Я упомянул об этом потому, что, как мне представляется, все книги профессора Мизеса проникнуты сомнением в том, что цивилизация, которая сделала возможным их написание, продлится достаточно долго, чтобы их успели опубликовать. Но несмотря на этот дух тревоги, сопутствовавший их написанию, их отличает классическое совершенство, завершенность формы и содержания, которые приводят на ум предположение о невозмутимом спокойствии. Книга Теория денег представляет собой нечто гораздо большее, чем просто теория денег. Хотя ее главной целью было закрыть то, что казалось в ту пору самым большим недостатком в признанной тогда экономической теории, она сделала также вклад в основные проблемы ценности и денег. Если бы ее воздействие оказалось более быстрым, она, быть может, смогла бы предотвратить многие страдания и разрушения. Но в то время уровень понимания вопросов денежного обращения был столь низким, что на быстрое воздействие столь сложной книги рассчитывать просто не приходилось. Ее быстро оценили немногие лучшие умы того времени, но общее понимание пришло слишком поздно и не смогло спасти его собственную страну и большую часть Европы, которые пострадали от разрушительной инфляции. Не могу удержаться от соблазна припомнить одну забавную рецензию на эту книгу. Среди рецензентов был немногим более молодой человек по имени Джон Мейнард Кейнс, который не смог скрыть несколько завистливого восхищения эрудицией и философской широтой книги, но, к сожалению, как он позднее объяснил, он понимал на немецком только то, что знал и без того, а потому и не понял книги. [В рецензии, которую Кейнс опубликовал в Economic Journal, vol. 24, September 1914, pp. 417--419, он писал: "Трактат д-ра Мизеса есть произведение проницательного и образованного ума. Но она не конструктивна, а критична, не оригинальна, а диалектична. ... Д-р Мизес поражает постороннего читателя как очень образованный ученик школы, некогда столь прославленной, но теперь теряющей свою жизненность." Шестнадцатью годами позднее, однако, в Treatise on Money, Кейнс признался, что "на немецком я могу вполне понять лишь то, что знал и до этого! -- так что новые идеи ускользают от меня из-за языковых трудностей." См. The Collected Writings of John Maynard Keynes, op. cit., vol. 5, p. 178, note 2. -- амер. изд.] Многое в мире могло бы быть спасено, если бы лорд Кейнс знал немецкий немного лучше. Вскоре после публикации книги и незадолго до получения места в университете, которое должно было быть предложено на основании книги, научная работа профессора Мизеса была решительно прервана началом Первой большой войны и призывом его на действительную службу. Проведя несколько лет в артиллерии, где он, в конце концов, сколько я представляю, стал командиром батареи, он к концу войны оказался в хозяйственном управлении министерства обороны, где вернулся к размышлению о важных экономических проблемах. Как бы то ни было, почти немедленно после окончания войны у него вышла новая книга, мало известная и крайне редкая теперь работа Nation, Staat und Wirtschaft [Ludwig von MIses, Nation, Staat und Wirtschaft: Beitrage zur Politik und Geschichte der Zeit, op. cit. -- амер. изд.], изо всех уцелевших экземпляров которой я выше всего ценю собственный, поскольку он хранит так много наметок будущего развития. Я предполагаю, что в то время в его уме уже складывалась идея второй magnum opus, поскольку важнейшая глава ее появилась спустя два года в виде знаменитой статьи о проблемах экономических вычислений в социалистическом обществе. В то время профессор Мизес уже вернулся на свой пост юрисконсульта и финансового эксперта в Венской торговой палате. Торговые палаты, следует помнить, являются официальными учреждениями, главная задача которых быть советником правительства в вопросах законодательства. Одновременно профессор Мизес был главой особого учреждения, задачей которого было проведение в жизнь некоторых пунктов договора о мире. Я познакомился с ним именно в этой роли. Конечно, в университете я был в его классе. [Хайек имеет в виду, что он был студентом Венского университета, когда Мизес читал там лекции в качестве неоплачиваемого privatdozent; кроме того, он участвовал в частном семинаре Мизеса. На деле Хайек был непосредственным учеником Фридриха фон Визера, возглавлявшего кафедру экономической теории в Вене. -- амер. изд.] Но в свое оправдание я должен заметить, что я проламывался сквозь послевоенный укороченный курс права и тратил не все свободное время на экономику, а потому и не извлек из этой ситуации всех возможных выгод. Но потом случилось так, что по моей первой работе я оказался подчиненным профессора Мизеса в этом временном учреждении; здесь я познакомился с ним как, в первую очередь, с чрезвычайно эффективным администратором, как с человеком подобным Джону Стюарту Миллю, который справлялся со своей работой за два часа, а потому у него всегда был чистый стол и вдоволь времени, чтобы поговорить о чем угодно. Я узнал его как одного из самых информированных и образованных людей, каких я когда-либо встречал, а для времен инфляции особенно важным было то, что он единственный действительно понимал, что же происходит. Был момент, когда мы все ожидали, что его вот-вот призовут, чтобы возглавить министерство финансов. Он был явно тем единственным человеком, который был способен остановить инфляцию, и если бы его назначили на эту должность, удалось бы предотвратить многие беды. Но этого не случилось. Чего я в то время даже не подозревал, несмотря на ежедневное общение с Мизесом, это что он одновременно писал книгу, которая позднее произвела глубочайшее впечатление на мое поколение. Die Gemeinwirtschaft позднее переведенная как Социализм, появилась в 1922 году. При всем нашем преклонении перед достижениями профессора Мизеса в области экономической теории, эта книга обладала гораздо большим охватом и значимостью. Это был труд по политической экономии в традициях великих моралистов -- Монтескье или Адама Смита, сочетавший точное знание и глубокую мудрость. У меня нет сомнений, что она навсегда сохранит свое место в истории политической мысли. Но столь же несомненно и то влияние, которое она оказала на нас, когда мы были в наиболее впечатлительном возрасте. Для каждого из молодых людей, прочитавших тогда эту книгу, мир изменился. Если бы здесь стояли Рёпке [Wilhelm Ropke (1899--1966), в 1920-х годах преподавал в университетах Йены, Граца и Марбурга. После 1933 года как изгнанник работал в Стамбульском университете, затем в Высшем институте международных исследований в Женеве; после второй мировой войны был советником министра Людвига Эрхарда; см. о Рёпке в данном издании, Пролог к части II -- амер. изд.], или Роббинс [Lionel Robbins (1898--1984), позднее Лорд Роббинс из Clare Market, профессор экономической теории в Лондонской школе экономической теории, на протяжении многих лет один из ближайших друзей и коллек Хайека -- амер. изд.] или Олин [Bertil Gotthard Ohlin (1899--1979), профессор Стокгольмской школы управления бизнесом, член шведского парламента с 1938 по 1970 год, лидер либеральной партии Швеции; в 1977 году получил нобелевскую премию за работу по теории международной торговли -- амер. изд.] (называю лишь моих ровесников), они бы вам подтвердили то же самое. Не то чтобы мы сразу усвоили всю книгу. Ведь это было слишком сильное и чрезмерно горькое лекарство. Но ведь главная функция обновителя в том, чтобы вскрыть противоречия, принудить других самостоятельно продумать предложенные им идеи. И хотя мы, быть может, и пытались сопротивляться, пожалуй, даже приложили немалые старания, чтобы избавить наши представления от нарушающих спокойствие идей, нам это не удалось. Логика доказательств была нерушимой. Это было нелегко. Учение профессора Мизеса было направлено, казалось, против всего, чему мы привыкли верить. В то время все модные интеллектуальные доводы казались направленными в пользу социализма, а почти все "добрые люди" среди интеллектуалов были социалистами. Хотя непосредственное воздействие книги может было и не столь большим, как этого бы хотелось, но она оказала просто поразительное воздействие. Для молодых идеалистов того времени она несла крушение всех надежд; а поскольку было ясным, что мир движется в направлении, гибельность которого вскрыла эта работа, нам оставалось лишь черное отчаяние. И те из нас, кто был знаком с профессором Мизесом лично, вскоре узнали, что он сам смотрит на будущее Европы и всего мира с глубочайшим пессимизмом. Нам предстояло вскоре узнать, насколько оправданным был его пессимизм. Молодые люди не легко принимают аргументы, которые делают неизбежным пессимистический взгляд на будущее. Но когда логики оказывалось мало, на помощь приходил другой фактор -- обескураживающая способность профессора Мизеса оказываться правым. Может быть не всегда чудовищные последствия тупости, на которые он указывал, проявлялись в предсказанные им сроки. Но раньше или позже, они настигали нас неизбежно. Здесь я хотел бы вставить комментарий. Я не могу не улыбаться, когда при мне о профессоре Мизесе говорят как о консерваторе. Действительно, в этой стране и в наше время его взгляды могут показаться привлекательными для консервативно настроенных умов. Но когда он начинал распространение своих идей, на свете не было консервативной группы, которую он мог бы поддерживать. Тогда не могло быть ничего более революционного и радикального, чем его призыв довериться свободе. Для меня профессор Мизес был и остается прежде всего великим радикалом, интеллигентным и очень разумным радикалом, но, тем не менее, радикалом правого толка. [Интересно сравнить этот пассаж с тем, что Хайек пишет в статье "Why I Am Not a Conservative", in The Constitution of Liberty (London: Routledge & Kegan Paul, and Chicago: University of Chicago Press, 1960), где Хайек характеризует самого себя в очень близких выражениях. -- амер. изд.] Я сейчас говорил о Социализме так подробно потому, что для нашего поколения эта книга не может не быть самым памятным и существенным достижением профессора Мизеса. Конечно, мы продолжали учиться и усваивать те книги и статьи, в которых он в последующие 15 лет развивал и усиливал свою позицию. Я не могу здесь говорить о каждой из них в отдельности, хотя все они заслуживают детального разбора. Я должен обратиться к его третьей magnum opus, которая сначала появилась в Швейцарии на немецком языке в 1940 году [Nationalokonomie: Theorie des Handelns und Wirtschaftens, op. cit. -- амер. изд.], а девять лет спустя в переработанном виде была издана на английском под названием Human Action. Она гораздо шире по содержанию, чем бывают даже политэкономические трактаты, и пока еще слишком рано определенно оценивать ее значимость. Мы не узнаем о ее полном потенциале, пока мужчины, которых она поразит на том же решающем этапе их интеллектуального развития, не достигнут, в свой черед, этапа продуктивности. Сам я не сомневаюсь, что в конечном итоге она окажется, по крайней мере, столь же важной, как и Социализм. Уже перед появлением первого издания этой книги в жизни профессора Мизеса произошли большие изменения, о которых я хочу сказать. Большая удача, что когда Гитлер вошел в Австрию, Мизес читал курс лекций в Женеве [имеется в виду Institut Universitaire des Hautes Etudes Internationales (Высший институт международных исследований) -- амер. изд.]. Мы знаем, что последовавшие за этим важные события привели его в эту страну и в этот город, который стал с тех пор его домом. Но тогда же случилось и другое событие, о котором нам также следует вспомнить с радостью. Мы, его старые венские ученики, привыкли видеть в нем блистательного и строгого холостяка, который подчинил свою жизнь раз и навсегда заведенному порядку, но при этом напряженность интеллектуальной жизни жгла эту свечу с обоих концов. И если мы сегодня можем поздравить профессора Мизеса, который, на мой взгляд, выглядит столь же молодо, как и 20 лет назад, и если, кроме этого, он добр и вежлив даже с противниками, чего никто и никогда не мог бы ожидать от этого яростного бойца былых времен, нам следует за это быть признательными любезной даме, которая в тот критический момент соединила свою жизнь с его, и теперь украшает его дом и наш сегодняшний стол. [Margit von Mises. Ее короткие воспоминания были опубликованы под названием My Years with Ludwig von Mises, op. cit. -- амер. изд.] Нет нужды много говорить о деятельности профессора Мизеса с тех пор, как он поселился здесь. Многие из вас в эти последние 15 лет имели больше возможностей узнать его и пользоваться его советами, чем большинство его старых учеников. Вместо того, чтобы еще говорить о нем, я обращусь теперь прямо к нему, чтобы коротко объяснить, почему мы уважаем и любим его. Профессор Мизес, не пристало повторять еще и еще о вашей учености и научных достижениях, о вашей мудрости и проницательности, которые принесли вам мировое признание. Но Вы проявили и другие качества, которыми обладали не все великие мыслители. Вы проявили несгибаемую храбрость даже когда оставались в одиночестве. Вы проявляли неустрашимую последовательность и настойчивость мысли, даже когда перспективой были непопулярность и изоляция. Долгое время Вы не получали от официальных научных организаций того признания, на которое имели право. Вы видели, как ученики пожинают награды, по праву предназначенные Вам, и которых Вы не могли получить из-за зависти и предрассудков. Но Вы были удачливей большинства других носителей непопулярных идей. Задолго до сегодняшнего дня Вы знали, что идеи, за которые Вы так долго сражались почти в одиночестве, победят. Вы видели, как вокруг Вас собирается множащаяся группа учеников и поклонников, которые приступили к разработке и распространению Ваших идей. Зажженный Вами факел стал путеводной звездой нового, каждый день увеличивающего силы движения за свободу. Дань любви и уважения, которую нам довелось выразить сегодня от имени всех Ваших учеников, есть лишь скромное выражение наших чувств. Я хотел бы хоть в малой степени гордиться тем, что участвовал в организации сегодняшнего чествования; но это была исключительно инициатива учеников нового поколения, которые все устроили, и сделали то, что считали нужным многие из старых учеников. Издателю этого тома [Mary Sennholz (1913) -- амер. изд.] и Фонду экономического образования [о Фонде экономического образования (Foundation for Economic Education) см. в главе 14 адрес в честь Леонарда Рида -- амер. изд.] принадлежит заслуга обеспечения нам возможности высказать наши пожелания. Социализм "Социализм", впервые появившись в 1922 году, произвел сильное впечатление. Эта книга постепенно изменила существо взглядов многих молодых идеалистов, которые вернулись к своим университетским занятиям после Первой мировой войны. Я знаю это, потому что был одним из них. Мы чувствовали, что цивилизация, в которой мы выросли, рухнула. Мы были нацелены на строительство лучшего мира, и именно это желание пересоздать общество привело многих из нас к изучению экономической теории. Социализм обещал желаемое -- более рациональный, более справедливый мир. А потом появилась эта книга. Она нас обескуражила. Эта книга сообщила нам, что мы искали лучшее будущее не в том месте. Ряд моих современников, позднее приобретших известность, но тогда не знавшие даже друг друга, прошли сходным путем: Вильгельм Репке в Германии и Лайонел Роббинс в Англии, например. Никто из нас не был до этого учеником Мизеса. Я познакомился с ним, работая во временном управлении австрийского правительства, которому было доверено проведение в жизнь некоторых положений Версальского договора. Он был моим начальником, директором департамента. Тогда Мизес был известен своей борьбой с инфляцией. Он приобрел доверие в правительственных кругах, а кроме того, будучи финансовым советником Австрийской торговой палаты, постоянно подталкивал его на тот единственный путь, который обещал предотвратить полное разрушение финансовой системы. (В первые восемь месяцев работы под его руководством, мое денежное жалованье увеличилось в 200 раз.) Многие из нас -- студентов начала 20-х годов -- знали о Мизесе как о довольно замкнутом университетском преподавателе, который лет за десять до этого опубликовал книгу [Ludwig von Mises, Theorie des Geldes und der Umlaufsmittel, op. cit.], в которой теория денег была развита с позиций австрийской теории предельной полезности -- каковую книгу Макс Вебер выделил как наиболее толковую в данном вопросе [Max Weber, Wirtschaft und Gesellschaft (Tubingen: J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), 1922; пятое пересмотренное издание с подзаголовком Grundris der verstehenden Soziologie, Tubingen: J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), 1976), p. 40 -- амер. изд.]. Возможно, нам следовало бы знать и том, что в 1919 году он также опубликовал весьма глубокое исследование в области социальной философии, в котором рассматривались проблемы нации, государства и хозяйственной жизни [Ludwig von Mises, Nation, Staat und Wirtschaft: Beitrage zur Politik und Geschichte der Zeit, op. cit. -- амер. изд.]. Эта книга, однако, так и не получила широкой известности, и я открыл ее для себя только став его подчиненным в правительственном учреждении в Вене. Как бы то ни было, публикация этой книги -- "Социализм" -- была для меня полной неожиданностью. Сколько я знал, в предыдущие (и чрезвычайно загруженные) 10 лет у него едва ли было время для академических штудий. При этом книга представляет собой объемистый трактат о социальной философии, свидетельствующий о независимом и критическом осмыслении почти всей существовавшей литературы. В первые 12 лет этого столетия, пока его не призвали в армию, Мизес изучал социальные и экономические проблемы. К этим вопросам его, как и мое поколение двадцатью годами позже, привлекла всеобщая увлеченность Sozialpolitik -- местным вариантом английского "фабианского" социализма. [Германское движение Sozialpolitik имело целью проведение социальных реформ и противостояло "манчестерскому либерализму", вдохновлявшемуся британской классической политэкономией. Вдохновляемые немецкими Kathedersozialisten, эти реформаторы призывали к государственному вмешательству для улучшения положения рабочего класса, которое, с их точки зрения, сильно ухудшилось из-за "крайностей" либеральной экономической политики. Шумпетер сообщает, что "большинство немецких экономистов были опорой Sozialpolitik и врагами "смитианизма" или "манчестерства"". History of Economic Analysis, op. cit., p. 765. См. также Karl Erich Born, Staat und Sozialpolitikseit Bismarcks Sturz (Weisbaden: F. Steiner, 1957). -- амер. изд.] Его первая книга [Ludwig von Mises, Die Entwicklung des gutsherrlichbauerlichen Verhaltnisses in Galizien, 1772--1848, op. cit.], опубликованная еще когда он изучал право в Венском университете, было пронизана духом господствовавшей немецкой "исторической школы", сосредоточенной почти исключительно на проблемах "социальной политики". Позднее он даже присоединился к одной из тех организаций [Sozialwissenschaftlicher Bildungsverein (Ассоциация за образование в социальных науках) -- амер. изд.], которые спровоцировали немецкий сатирический еженедельник изобразить экономистов как людей, которые обмеряют жилище рабочего и приговаривают: очень тесное. Но изучая в ходе занятий юриспруденцией политэкономию, Мизес открыл для себя экономическую теорию -- Grundsatze der Volkswirtschaftslehre (Принципы экономической теории) Карла Менгера, который в то время как раз оставил профессуру и вышел в отставку. Как говорит Мизес в автобиографических заметках [Ludwig von Mises, Notes and Recollections, op. cit., p. 33], эта книга и сделала его экономистом. Пройдя через тот же опыт, я знаю, что он имеет в виду. Первоначально Мизес интересовался преимущественно исторической стороной проблем, и приобрел, благодаря этому, редкую среди теоретиков широту исторической эрудиции. Но, в конце концов, неудовлетворенность тем, как историки, а особенно историки экономики истолковывали факты, подтолкнула его к изучению теории экономики. Главным источником вдохновения для него был Евгений Бем-Баверк, который вернулся к профессуре после службы на посту министра финансов Австрии. В предвоенное десятилетие семинар Бем-Баверка был главным центром экономических дискуссий. В нем участвовали Мизес, Иосиф Шумпетер [о Шумпетере см. главу 5 этого издания -- амер. изд.], и выдающийся теоретик австрийского марксизма Отто Бауэр [В этот период Отто Бауэр опубликовал две влиятельные работы о марксизме: "Marx's Theorie der Wirtschaftskrisen", Die Neue Zeit, vol. 23, 1904, представляющую анализ марксовой теории колебаний экономической коньюнктуры, и Die Nationalitatenfrage und die Sozialdemokratie (Viena: Wiener Volksbuchhandlung, 1907), которая до сих пор является образцовой марксистской работой о национализме. Позднее Бауэр возглавил Австрийскую социалистическую партию (СПА). Мизес говорил, что из всех встреченных им в Западной и Центральной Европе социалистов, Бауэр был "единственным <марксистским теоретиком>, возвысившимся над уровнем благопристойной посредственности". Mises, Notes and Recollections, op. cit., p. 16 -- амер. изд.], выступления которого в защиту марксизма длительное время были в центре дискуссий. В этот период идеи Бем-Баверка о социализме ушли, видимо, достаточно далеко за пределы того, что он успел опубликовать в нескольких работах перед своей ранней смертью. [Ряд этих статей был собран Hans Sennholz и издан на английском под названием Shorter Classics of Bohm-Bawerk (South Holland, Ill.: Libertarian Press, 1962). Библиографию основных работ Бём-Баверка смотри на стр. xii--xiii этого издания. -- амер. изд.] Нет сомнений, что именно здесь сложились основные идеи Мизеса о социализме, хотя сразу после публикации первой книги, The Theory of Money and Credit (1912), он утратил возможности для дальнейшей работы, поскольку был призван в армию до самого конца Первой мировой войны. Почти все эти годы Мизес служил офицером артиллерии на Русском фронте, хотя последние месяцы войны он провел в экономическом управлении министерства обороны. Следует предположить, что он начал работать над "Социализмом" только оставив службу в армии. Вероятно, большая часть книги была написана между 1919 и 1921 годами -- основной раздел об экономических вычислениях при социализме был спровоцирован цитируемой им книгой Отто Нейрата, вышедшей в 1919 году [Otto Neurath, Durch die Kriegswirtschaft zur Naturalwirtschaft (Munich: G.D.W. Callwey, 1919) -- амер. изд.]. То, что в тогдашних условиях он выкроил время, чтобы сосредоточиться над обширнейшей теоретической и философской работой, остается истинным чудом для того, кто хотя бы в последние месяцы этого периода почти ежедневно видел его погруженным в дела службы. Как я уже отметил выше, "Социализм" потряс наше поколение, и усвоение основной идеи этой книги было для нас делом нелегким и мучительным. Мизес, конечно же, продолжал размышлять над этими проблемами, и многие из его позднейших идей были развиты в ходе "частного семинара", который он начал вести примерно в то время, когда был опубликован "Социализм". Я присоединился к семинару двумя годами позже, после года занятий в докторантуре в США [cм. Пролог к части 1 -- амер. изд.]. Хотя вначале у него было немного бесспорных последователей, молодые люди -- заинтересованные в проблематике, лежащей на границе между философией и теорией общества -- воспринимали его восторженно. Зрелые профессионалы приняли книгу с безразличием либо враждебно. Я помню всего одну рецензию со следами понимания важности книги, да и ту написал престарелый либеральный политик -- последыш XIX века. Тактика его оппонентов заключалась в том, чтобы представить его экстремистом, взгляды которого никто не разделяет. Взгляды Мизеса развивались и в следующие два десятилетия, и нашли выражение в первом немецком издании (1940 года) книги, которая стала знаменитой под названием "Действие человека" ("Human Action") [L. von Mises, Nationalokonomie: Theorie des Handelns und Wirtschaftens, op. cit.]. Но для его первых последователей именно Социализм навсегда остался его главным вкладом в науку. Эта книга поставила под вопрос мировоззрение поколения и мало-помалу изменила мышление многих. Члены венского кружка не были учениками Мизеса. Большинство пришли к нему уже завершив экономическое образование, и лишь постепенно они смогли принять его нешаблонные взгляды. Возможно, на них не в меньшей степени повлияла его обескураживающая привычка правильно предвидеть дурные последствия текущей экономической политики, чем убедительность аргументов. Мизес вряд ли ожидал, что они примут все его взгляды, и дискуссии очень выигрывали от этого сопротивления. "Школа Мизеса" возникла только позже, когда он завершил развитие своего учения об обществе. Сама открытость системы обогащала его идеи, и дала возможность некоторым из его последователей развить их в несколько ином направлении. [О Privatseminar и его участниках см. Пролог к части 1 и последний раздел этой главы. См. также Craver, op. cit., pp. 1--32, esp. pp. 14--17. -- амер. изд.] Аргументы Мизеса было не так-то легко воспринять. Порой требовались личные контакты и обсуждения, чтобы полностью их понять. При том, что они были изложены прозрачным и обманчиво простым языком, изучающему требовалось еще и понимание экономических процессов -- качество не самое частое. Эта трудность особенно ясна в случае с основным аргументом -- о невозможности экономических вычислений при социализме. При чтении оппонентов Мизеса возникает впечатление, что они на самом деле не понимают -- зачем же нужны эти вычисления [особенно заметно это у Oskar Lange, "On the Economic Theory of Socialism", Review of Economic Studies, vol. 4, no. 1, 1936 and vol. 4 no. 2, 1937; Fred M. Taylor, "The Guidance of Production in a Socialist State", American Economic Review, vol. 19, 1929; Aba P. Lerner, The Economics of Control: Principles of Welfare Economics (New York: Macmillan, 1944); см. также Введение к данному тому -- амер. изд.]. Они рассматривают проблему экономических вычислений, как если бы все дело было в налаживании учета на социалистических предприятиях, а не в выборе того, что и как следует производить. Они удовлетворяются любым набором магических цифр, если он кажется пригодным для контроля за операциями управляющих -- этих пережитков капиталистической эпохи. Похоже, что им никогда и в голову не приходило, что вопрос не в игре цифр, а в подыскании тех единственных показателей, с помощью которых управляющие производством могут судить о значении своей деятельности в рамках взаимно согласующейся структуры хозяйственной деятельности. В результате Мизес пришел к осознанию того, что его критиков отличает совершенно иной интеллектуальный подход к социальным и экономическим проблемам, а не просто иное толкование отдельных фактов. Чтобы переубедить их, необходимо продемонстрировать потребность в совершенно иной методологии. Это и стало его основной заботой. Публикация в 1936 году английского издания Социализма была, в основном, заслугой профессора Лайонела Роббинса (теперь лорд Роббинс). Он нашел весьма квалифицированного переводчика -- бывшего студента Лондонской школы экономической теории Жака Кахане [Jacques Kahane (1900--1969) -- амер. изд.], который остался активным членом кружка академических ученых этого поколения, хотя сам сменил поле деятельности. После многих лет работы в одной из крупнейших зерноторговых фирм, Кахане завершил карьеру в Римском управлении ООН по делам Продуктов питания и сельскохозяйственного производства, и в Вашингтонском отделении Мирового Банка. Последний раз я целиком читал текст "Социализма" именно в машинописном переводе Кахане, и перечитал его только теперь, готовясь к написанию этого эссе. Все это побуждает к тому, чтобы поразмыслить о значимости некоторых аргументов Мизеса по прошествии столь долгого времени. Естественно, что значительная часть работы звучит сегодня [т.е. в 1978 году -- амер. изд.] не так оригинально или революционно, как в прежние годы. Во многих отношениях, эта книга стала одним из "классических" сочинений, которые принимают как данность, и в которых не ищут ничего нового и поучительного. Я должен признать, однако, что сам был поражен не только тем, сколь большая часть ее все еще актуальна для сегодняшних споров, но и тем, что многие аргументы, которые некогда я принимал лишь отчасти, как односторонние и преувеличенные, оказались поразительно истинными. Я и до сих пор не принимаю некоторые аргументы, и полагаю, что и сам Мизес отнесся бы к ним также. Уж конечно он был не из тех, кто ожидает некритичного принятия своей аргументации и остановки дальнейшего развития. Но я обнаружил, что в целом различие наших взглядов намного меньше, чем я ожидал. Одно из наших различий касается основного философского утверждения, которое меня всегда смущало. Но только сейчас я в состоянии сформулировать природу этих проблем. Мизес утверждает в этом отрывке, что либерализм "рассматривает все виды общественного сотрудничества как воплощение разумного стремления к полезности, где вся власть имеет источником общественное мнение, а потому не возможны действия, способные помешать свободному принятию решений мыслящим человеком" [Ludwig von Mises, Socialism, 1981 edition, op. cit., p. 418]. Сегодня я полагаю, что неверна только первая часть этого утверждения. Крайний рационализм этого утверждения, которого он, как истинное дитя своего времени, не мог избежать, и с которым он, возможно, так и не расстался, теперь мне представляется совершенным заблуждением. Нет сомнений, что рыночная экономика стала преобладающей формой не в силу разумного понимания ее выгод. Мне представляется, что основное в учении Мизеса это демонстрация того, что мы приняли свободу не потому, что осознали ее благодетельность; что мы не изобрели и, конечно же, не были достаточно умны, чтобы изобрести тот строй жизни, который начали слегка понимать только сейчас, спустя долгое время после того, как увидели его действие. Человек выбрал его только в том смысле, что он научился предпочитать нечто уже существовавшее, а по мере улучшения понимания он смог и усовершенствовать условия деятельности. [Этот пассаж представляет собой изложение Хайековской теории спонтанного порядка. См. подробнее статью "The Results of Human Action but not of Human Design", in Studies in Philosophy, Politics and Economics, op. cit., pp. 96--105. -- амер. изд.] Большая заслуга Мизеса, что он в немалой степени освободился от этой рационалистически конструктивистской исходной посылки, но дело все еще не закончено. Больше чем кто-либо другой Мизес помог нам понять нечто, чего мы не изобретали и не создавали. Еще один момент требует осторожности от современного читателя. Полстолетия тому, Мизес еще мог говорить о либерализме в смысле, который более или менее противоположен тому, что называется сегодня этим именем в США и, все чаще, в других местах. Он считал самого себя либералом в классическом смысле, как это установилось в 19 веке. Но прошло уже почти сорок лет с тех пор, как Иосиф Шумпетер был вынужден заявить, что в Соединенных Штатах враги свободы "сочли разумным присвоить себе это имя, как высший, но совершенно незаслуженный комплимент". [Joseph Schumpeter, History of Economic Analysis, op. cit., p. 394. Любопытно, что на самом деле цитируемый отрывок был опубликован только в 1954 году. Хайек мог либо видеть его до публикации, либо перепутать дату -- амер. изд.] В эпилоге [<памфлет Мизеса "The Planned Chaos" (Irvington, N.Y.: Foundation for Economic Education, 1947) был включен как Эпилог в английское издание 1951 года (New Haven, Conn.: Yale University Press); присутствует и в издании 1981 года, для которого написано данное предисловие -- амер. изд.> см. Эпилог в московском издании], который был написан в Соединенных Штатах через 25 лет после первой публикации книги, Мизес демонстрирует свое понимание этого обстоятельства, комментируя неправильное использование термина "либерализм". Прошедшие с тех пор тридцать лет только подтвердили этот комментарий, так же как они подтвердили и последнюю часть первоначального текста -- "деструкционизм". Эти главы при первом чтении просто шокировали меня своим необычайным пессимизмом. При перечитывании, я был потрясен скорее дальновидностью автора, чем его пессимизмом. На деле, большинство современных читателей обнаружат, что "Социализм" гораздо актуальнее сейчас, чем в то время, когда впервые появился на английском языке, уже более сорока лет назад. Интервенционизм После двух больших работ, которые обеспечили Людвигу фон Мизесу положение ведущего мыслителя в области экономической теории -- The Theory of Money и Credit и Socialism -- он на несколько лет погрузился в изучение тех промежуточных -- между чисто рыночным порядком и социализмом -- форм, которые как раз в тот период возникали и упрочивались. По своей основной работе в качестве финансового консультанта (и главного научного советника) Венской торговой палаты, которая оставляла ему совсем немного времени для преподавания в качестве приват-доцента в Венском университете, ему приходилось постоянно сталкиваться с интервенционизмом, составлявшим главное содержание социологическо-исторической школы в немецкой экономической теории, и это погружение в идеи интервенционизма привело его шаг за шагом к решительному неприятию университетской экономической теории, господствовавшей в немецкоязычном мире. [О германских профессорах Мизес говорит: "они не знают экономической литературы, не понимают экономических проблем и подозревают в каждом экономисте врага государства, германофоба и проводника деловых интересов и принципа свободной торговли... Они были дилетантами во всем, за что бы ни брались." Ludwig von Mises, Notes and Recollections, op. cit., p. 102. -- амер. изд.] Из всех коллег по профессии дружеские отношения у него установились только с Максом Вебером [Макс Вебер преподавал в университетах Фрейбурга, Гейдельберга и Мюнхена, издавал ведущий академический журнал в области социальных наук Archiv fur Sozialwissenschaft und Sozialpolitik. Его Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism, op. cit., впервые опубликованная в Германии в 1904--1905 гг., является классикой социологической литературы. Мизес говорит о нем: "Ранняя смерть этого гения была серьезной потерей для Германии. Если бы Вебер прожил дольше, германский народ мог бы сегодня <1940> указать на пример "арийца" не согнувшегося перед нацизмом." Notes and Recollections, op. cit., p. 104 -- амер. изд.], с которым они близко сошлись, когда последний работал в Венском университете в летний семестр 1918 года; кроме Вебера он уважал за мужественное противостояние господствующим взглядам очень немногих -- Хейнриха Дитцеля [Heinrich Dietzel (1857--1935) преподавал экономику и философию в ряде немецких университетов; его книга Theoretische Sozialokonomie (Leipzig: Winter, 1895), посвященная теоретическому сравнению капитализма и социализма, явилась исходной для работ Вальтера Ойкена (1891--1950) и для развития либеральной Фрейбургской школы; см. Пролог к части II -- амер.изд.], Пассова [Richard Passow (1881--?), профессор экономической теории в Гетингенском университете в Пруссии -- амер. изд.], Пёля [Ludwig Pohle (1869--1926) преподавал в университетах Франкфурта и Лейпцига, издавал Zeitschrift fur Sozialwissenschaft -- амер. изд.], Андреаса Войта [Andreas Heinrich Voight (1860--?) -- амер. изд.], Адольфа Вебера [Adolf Weber (1876--1963), профессор Франкфуртского университета -- амер. изд.] и Леопольда фон Визе [Leopold von Wiese (1876--1969) преподавал социологию в Кельнском университете торговой и деловой администрации, где издавал несколько журналов и восстановил после Второй мировой войны Германскую социологическую ассоциацию -- амер. изд.] -- хотя он и не мог чему-либо научиться у них (при этом он очень высоко ценил таких представителей предыдущего поколения, как Тюнен, Германн и Мангольдт [Hans Karl Emil von Mangoldt (1824--1868) преподавал в университетах Гетингена и Фрейбурга; наиболее известна книга Grundris der Volkwirtschaftslehre (Stuttgart: J. Maier, 1863) -- амер. изд.], которых в тот период явно недооценивали). Сам он, подобно большинству экономистов предыдущих поколений, пришел в науку одушевленный идеями Sozialpolitik и фабианского социализма -- и эти идеи еще дают себя знать в его ранних работах -- но затем он обратился к классическому либерализму (и произошло это обращение в семинаре Бём-Баверка, где он работал вместе с Шумпетером и другими ведущими фигурами третьего поколения австрийской школы), и все последующие его работы по экономической политике посвящены идеям классического либерализма. Это изменение чувствуется уже в его Theory of Money and Credit; дальнейшее развитие это изменение получило в 1919 году в насыщенной идеями книге Nation, State and Economy [Ludwig von Mises, Nation, Staat und Wirtschaft: Beitrage zur Politik und Geschichte der Zeit, op. cit. -- амер. изд.], которую из-за тогдашней ситуации почти не заметили. Его новая позиция по настоящему представлена в книге Социализм в 1922 году. (Короткая и наспех написанная книга Liberalism [<Ludwig von Mises, Liberalismus (Jena: Gustav Fisher, 1927), переведено Ральфом Райко как The Free and Prosperous Commonwealth: An Exposition of the Ideas of Classical Liberalism (Princeton, N.J.: D. Van Nostrand, 1962). Последующие английские издания имели название Liberalism: A Socio-Economic Exposition (Kansas City, Mo.: Sheed Andrews and Mcmeel, 1978); Liberalism: In the Classical Tradition (Irvington, N.Y.: Foundation for Economic Education, and San Francisco: Cobden Press, 1985) -- амер.изд.> русское издание: Либерализм в классической традиции, М., Начала-пресс, 1996] была менее удачной). Книга Critique of Interventionism поссорила его с немецкими коллегами, и та резкость, с которой он выступил против ведущих фигур вроде Вернера Зомбарта [Werner Zombart (1863--1941), преподавал в университетах Бреслау и Берлина; о нем говорили, что как член молодой исторической школы он "перешмоллерил самого Шмоллера" в попытке совместить экономический и исторический анализы (Joseph Schumpeter, History of Economic Analysis, op. cit. p. 817) -- амер. изд.], Густава Шмоллера, Луиджи Брентано [Lujo Brentano (1844--1931), профессор ряда университетов Германии и Австрии, основатель Verein fur Sozialpolitik; его братом был влиятельный философ Франц Брентано -- амер. изд.] и Хейнриха Херкнера [Heinrich Herkner (1863--1932), студент Брентано, профессор университетов Цюриха и Берлина -- амер. изд.], вызвавшая в свое время сильную обиду, сегодня может расцениваться только как его заслуга. Я знаю, что Мизес собирался включить в сборник свою статью "Verstaatlichung des Kredits", которая также появилась в 1929 году в 1 томе нового Zeitschrift fur Nationalokonomie. Помешало то, что редактор засунул куда-то рукопись и нашел ее, когда было уже поздно -- что было не редкостью в то время, а с учетом ясного почерка Мизеса, вполне возможно, что рукопись существовала в единственном экземпляре. [Эта статья Мизеса была включена в книгу, для которой Хайек написал данное эссе. Статья Мизеса была также переведена Луи Соммером и включена в сборник Essays in European Economic Thought (Princeton, N.J.: D. Van Nostrand, 1960) -- амер. изд.] Мизесу принадлежало законное первое место не только как острому критику, но и как пессимисту, который, к несчастью, слишком часто оказывался прав. Не я один был свидетелем того, как в сентябре 1932 года во время заседания комитета Verein fur Sozialpolitik в Бад-Киссингене в саду за чаем собралась довольно большая группа коллег по профессии, и Мизес неожиданно спросил, сознаем ли мы, что собираемся вместе в последний раз. Это замечание сначала всех изумило, а затем вызвало смех, когда Мизес объяснил, что через 12 месяцев Гитлер уже будет у власти. Всем это показалось слишком невероятным, но больше всего они не могли понять, почему Verein fur Sozialpolitik не сможет собираться после прихода Гитлера к власти. Конечно же, до конца Второй мировой войны встреч больше не было. [Относительно "Verein fur Sozialpolitik" Мизес вспоминает, что "как австриец, заштатный Privatdozent и "теоретик" я всегда был в Ассоциации аутсайдером. Ко мне относились с подчеркнутой вежливостью, но смотрели на меня как на чужака." Notes and Recollections, op. cit., p. 104. Историю этой организации см. у Franz Boese, op.cit. -- амер. изд.] Мизес оставался в Вене и после захвата власти в Германии Гитлером, и в эти годы он все сильнее углублялся в вопросы философского и методологического обоснования социальных наук. Но полностью посвятить себя научной работе он впервые смог только после 1934 года, когда в возрасте 53 лет перебрался в Высший институт международных исследований в Женеве. В 1933 году он еще смог опубликовать в Германии сборник статей Grundprobleme der Nationalokonomie [Ludwig von Mises, Grundprobleme der Nationalokonomie: Untersuchungen uber Verfahren, Aufgaben und Inhalt der Wirtschafts -- und Gesellschaftslehre (Jena: Gustav Fisher, 1933), переведена Георгом Ризманом как Epistemological problems of Economics (Princeton, N.J.: D. Van Nostrand, 1960); reprinted New York and London: New York University Press, 1981); рецензию Хайека на английское издание см. в следующем разделе этой главы -- амер. изд.], с важными статьями о "процедурах, задачах и содержании экономической и социальной теории". В 1940 году последовала его последняя большая работа на немецком языке, Nationalokonomie: Theorie des Handelns und Wirtschaftens (позднее в переработанном виде изданная на английском как Human Action), которая появилась в Женеве, но в Германии, по понятным причинам, осталась практически неизвестной. В 1940 году Мизес вместе с женой смог выбраться в Соединенные Штаты через южную Францию, Испанию и Португалию. Здесь в Нью-Йорке в течении более 30 лет он был поглощен крайне плодотворными исследованиями и преподаванием. Помимо совершенно переработанного английского издания Nationalokonomie, которое появилось в 1949 году под названием Human Action, особенного упоминания заслуживает его книга Theory and History: An Interpretation of Social and Economic Evolution [Ludwig von Mises, Theory and History: An Interpretation of Social and Economic Evolution (New Haven, Conn.: Yale University Press, 1957; reprinted, New Roschelle, N.Y.: Arlington House, 1969, and Auburn, Ala.: Ludwig von Mises Institute, 1985) -- амер. изд.]. Эпистемологические проблемы экономической теории Хотя это работа живого и пишущего автора, публикацию следует рассматривать как запоздавший перевод классики. Работа обозначает решающий этап в развитии системы идей, с которыми англо-говорящий мир познакомился через всеобъемлющий трактат. Если книгу профессора Мизеса Human Action (опубликована на английском в 1949 году, а предшествовавший немецкий вариант в 1940 году) следует считать вполне развитым изложением его взглядов, то отличительные черты его идей о природе социальной науки были впервые изложены в данной серии статей, публиковавшихся в Германии между 1928 и 1933 годами, которые впервые были изданы вместе в 1933 году -- в последнем году, когда еще можно было публиковаться в Германии. В этих статьях намного яснее, чем в более позднем трактате, видны непосредственные причины именно такой формулировки взглядов автора. Хотя аргументы направлены главным образом против взглядов немецких авторов, не следует впадать в заблуждение и думать, что аргументы имеют смысл только в данном контексте. На деле эта разновидность некритического эмпиризма, против которого главным образом направлена книга, встречается сейчас гораздо чаще и в самой наивной форме именно у американских авторов. Первая публикация этих статей обозначила превращение автора, известного тогда главным образом своей теорией денег и кредита и критическим анализом социализма, то есть бывшего экономистом в узком смысле этого слова, в социального теоретика и философа. Хотя тогда он еще не ввел термин "праксеология" (которым он позднее заменил термин "социология") для обозначения общей теории деятельности человека, все главные элементы его позднейшей системы уже присутствуют. За исключением короткой последней статьи, посвященной специальной проблеме экономической теории [статья о проблеме "неконвертируемого (то есть не-передислоцируемого) капитала", написанная для Festschrift по поводу работ датского экономиста C.A. Verrijn Stuart -- амер. изд.], экономическая теория в этом сборнике служит главным образом для иллюстрации проблем, выдвигаемых любой теоретической наукой об обществе. Его критические усилия направлены против взгляда, что теория может быть построена путем очистки исторического опыта, а его главное утверждение, сейчас более распространенное, чем когда он впервые его высказал, в том, что логика теоретических утверждений не зависит от любого конкретного опыта. Можно представить себе, что он не стал бы отрицать, что применимость теории к конкретным обстоятельствам зависит от наличия или отсутствия фактов, которые могут быть удостоверены только опытом. И если настойчивое утверждение априорного характера теории кажется порой более односторонним, чем хотелось бы самому автору, то следует помнить, что в некотором смысле абстрактное описание структурных отношений, характерное для математики и логики, всегда дедуктивно и аналитично; эмпирически могут быть проверены лишь следующего вида утверждения -- в данных обстоятельствах нам может встретиться такая-то структура. Так что при внимательном анализе различие между взглядами профессора Мизеса и современным "гипотетико-дедуктивным" истолкованием теоретической науки (как оно было сформулировано, например, Карлом Поппером в 1935 году [Karl Popper, Logik der Forschung, zur Erkenntnistheotie der modernen Naturwissenschaft (Vienna: J. Springer, 1935), переведена как Logic of Scientific Discovery (London: Hutchinson, 1959; переработанные издания в 1968 и 1972 годах -- амер. изд.]), сравнительно невелико, при том, что оба эти подхода отделены широкой пропастью от долгое время господствовавшего наивного эмпиризма. [Сам Мизес, быть может, и не согласился бы с таким утверждением. В 1962 году он писал, что взгляды Поппера, будучи вполне пригодными для естественных наук, "никаким образом не могут быть применены к проблемам наук о деятельности человека". Высказывания Мизеса о Поппере смотри в Mises, The Ultimate Foundation of Economic Sciense (Princeton, N.J.: D. Van Nostrand, 1962; повторное издание: Kansas City, Mo.: Sheed Andrews and McMeel, 1978), pp. 69--70, 119--120. -- амер. изд.] Правда, в отношении социальной теории профессор Мизес в одном пункте идет дальше. Но ведь столь же очевидно, что прежде, чем вступать в общение с людьми, нам следует знать о них больше, чем относительно любых других объектов, по поводу которых мы намерены вступить в общение, а это не может не влиять на природу данных, которые мы можем использовать для объяснения в двух этих сферах. Наша способность "понимать" действия человека, несомненно, увеличивает запас информации, которая может быть использована для объяснения, причем информации такого рода, которую мы не имеем в случае неодушевленных объектов; и в третьей статье этого сборника профессор Мизес немало проясняет различие между таким пониманием, которое может служить основанием теории, и со-переживающим "пониманием", которое порой выдвигают как основу объяснения. Точность и гладкость перевода заслуживают похвалы, хотя задачу переводчика облегчала прозрачность языка профессора Мизеса, не столь уж обычная для работ в этой области. Поскольку появление перевода послужило для рецензента поводом перечитать работу, которую он читал почти тридцать лет назад, он может добавить, что книга поразительно хорошо выдержала испытание временем. Nationalokonomie Когда ученый, который за свою жизнь обогатил многие специальные области науки, берется за всеобъемлющий обзор науки в целом, это всегда интересно, хотя может обернуться разочарованием. Такая работа заслуживает тем большего внимания, когда систематическое изложение своих выводов предпринимает такой человек, как профессор Мизес, известный широтой интересов и тем, что его взгляды порождали столько споров. И это тем более верно в данном случае, когда, как намекает само название, работа охватывает как самые общие философские проблемы, возникающие при научном изучении деятельности человека, так и основные современные проблемы экономической политики. Читатель, знакомый с ранними работами профессора Мизеса о деньгах, социализме и методах социальных наук, обнаружит множество если и не принятых, то знакомых доктрин, имеющих отношение к экономической теории в узком смысле этого слова. Но даже по этим вопросам есть большие разделы, в частности, в теории процента, где разрабатываются проблемы, которые в опубликованных прежде работах Мизеса никогда явно не рассматривались. В короткой рецензии на трактат, посвященный столь широким вопросам, было бы неуместно входить в конкретные детали. Может быть стоит отметить только, что при первом чтении рецензенту показались менее убедительными, чем большая часть работы, то, как он развивает психологические элементы теории Бём-Баверка, хотя в некоторых отношениях это сделано с изумительной ясностью. Формулировки большей части теоретических проблем есть результат более точной и более тщательной проработки взглядов, излагавшихся уже в ранних работах. Многое звучит сейчас менее революционно, чем 20 или 30 лет назад, но что может быть поучительней, чем просмотр старых рецензий (публиковавшихся и в этом журнале [например, рецензия Джона Мейнарда Кейнса на Theorie des Geldes und der Umlufsmittel в Economic Journal, vol. 24, September 1914, pp. 417--419; и рецензия Е. Швидланда на Die Gemeinwirtschaft в Economic Journal, vol. 33, September 1923, pp. 406--408 -- амер. изд.]), которые демонстрируют, сколь многие взгляды, при первой публикации подвергавшиеся острым нападкам или даже осмеянию, стали с тех пор общепризнанными. В новом систематизированном изложении его взгляды обрели новую значимость и убедительность. Налицо и свидетельства того, что взгляды автора продолжают постепенно эволюционировать. Но следует признать, что в период создания этих работ на него мало подействовала общая эволюция в нашей области знаний. Он развивался совершенно независимо, и возникает даже чувство, что автор, на которого столь часто нападали из-за идей, которые потом оказывались верными, развил некое презрение к современной экономической теории, и это помешало ему извлечь пользу из ее изменения. Это кажется особенно верным по отношению к недавнему развитию теории конкуренции -- в этой области более благожелательное отношение к другим подходам могло бы облегчить понимание позиции автора. В рецензии нелегко дать адекватное представление о положительном вкладе в развитие теории, поскольку этот вклад состоит, главным образом, в последовательном приложении единых философских принципов и в создании на этой основе общей перспективы дальнейшего движения. Как пример удачного обобщения можно рассмотреть любопытную трактовку закона сравнительных издержек не в специальном приложении к теории международной торговли, а в его самой общей форме, как основы формирования общества. Рикардовское Vergesellschaftungsgesetz, как его окрестил профессор Мизес (выражение, боюсь, почти непереводимое), получило здесь заслуженное место в самом начале рассмотрения проблем менового общества, само существование которого основано на этом принципе. [В Human Action Мизес изменил название Ricardo'sche Vergesellschaftungsgesetz на "Рикардовский закон ассоциации", который он считает "частным случаем более универсального закона ассоциации", общего принципа, показывающего, как "разделение труда создает преимущества для всех участников", даже для менее квалифицированных или владеющих меньшими ресурсами, чем другие. (Этот принцип, именуемый нынче "законом относительного преимущества", обычно иллюстрируют примерами из области международной торговли; Мизес, напротив, использует пример хирурга, который нанимает для стерилизации инструмента менее искусного помощника. См. pp. 127--133 немецкого издания; pp. 159--164 третьего английского издания (1966). -- амер. изд.] Для большинства читателей, однако, книга будет интересна не своей центральной частью [pp. 188--628 немецкого издания; pp. 200--688 английского издания 1966 года -- амер. изд.], как ее можно назвать в соответствии с логикой предмета, но своими начальными и конечными разделами, где профессор Мизес рассматривает самые общие методологические и философские проблемы любой науки об обществе, а также проблемы современной политики. К последнему разделу до некоторой степени относится то, что уже было сказано о центральной части. Многое здесь окажется знакомым для читателей прежних работ профессора Мизеса, и главным выигрышем оказываются систематичность и последовательность изложения материала, который прежде был доступен только в разрозненных книгах и статьях. Но у автора, пожалуй, были еще большие возможности заполнить разрывы в изложении, и результатом оказалась действительно внушительная единая система либеральной социальной философии. Именно в этом разделе больше, чем где-либо еще, поразительное знание истории и современного мира помогает автору проиллюстрировать свои аргументы. И хотя единственным Weltanschausung, с которым до известной степени схожи взгляды автора, является либерализм XIX века, читателю не следует впадать в заблуждение, что перед ним всего лишь новая формулировка идей laissez-faire этого периода. Хотя выводы во многих моментах совпадают, философские основы всего построения изменились так же, как у большинства других людей, хотя совсем в ином направлении. Самые оригинальные и, одновременно, самые спорные моменты в развитии взглядов профессора Мизеса сконцентрированы в начальных разделах книги, где он намечает принципы общей теории действий человека, по отношению к которой экономическая теория является только особым случаем. В ряде предыдущих работ он последовательно обосновал то, что обозначает как априорный характер экономической логики, и подверг критике заимствование чуждых и неуместных здесь методов естественных наук. В новой книге он систематически развивает общую теорию действий человека, или, как он это теперь называет (возрождая старый французский термин) науку "праксеологии", чтобы обосновать автономную природу методов социальных наук. Хотя я опасаюсь, что даже в этой новой форме его аргументы едва ли смягчат предубеждения, возбуждаемые сегодня любыми попытками такого рода, перед нами, бесспорно, наиболее убедительные и последовательные из когда-либо выдвигавшихся в пользу такого понимания аргументы, и если они получат заслуженное внимание, то дадут начало чрезвычайно плодотворной дискуссии. Хотя рецензент многое изложил бы совершенно иначе, он должен признаться, рискуя быть обвиненным вместе с профессором Мизесом в поддержке взглядов, противоречащих всему ходу современного научного развития, что в главном одинокий голос профессора Мизеса кажется ему существенно более близким к истине, чем общепринятые взгляды. Действительное рассмотрение любого из множества интересных моментов, затрагиваемых этой работой, требует не краткого обзора, а длинной статьи. Но нельзя поставить точку не заявив, что, по крайней мере, рецензент видит в этой книге широту взгляда и интеллектуального кругозора, которые роднят ее скорее с трудами философов XVIII века, чем с работами современных специалистов. И несмотря на это, а может быть и благодаря этому, читатель чувствует гораздо большую близость к реальности, его постоянно отвлекают от технических вопросов к рассмотрению действительно важных проблем современного мира. Без тщательного анализа профессор Мизес не принимает ни одной из господствующих догм и порой, пожалуй, даже отметает слишком утонченные детали, которые, как ему представляется, не относятся к более широким вопросам его социальной философии. Те многочисленные читатели, которые в раздражении отвергнут большинство утверждений этой книги, все-таки не смогут просто оставить ее в стороне, как бы сильно они ни чувствовали, что некоторые ее части не идут au courant с последними достижениями математического анализа, в котором они привыкли барахтаться. Заметки и воспоминания Будучи, несомненно, одним из самых значительных экономистов своего поколения, Людвиг фон Мизес до самого конца своей необычно долгой научной жизни оставался аутсайдером в академическом мире; прежде всего, несомненно, в странах немецкой культуры, но то же самое повторилось и в последнюю треть его жизни, когда в Соединенных Штатах он воспитал более широкий круг студентов. До этого его сильное непосредственное влияние было существенно ограничено его Венским Privatseminar, участники которого приходили к Мизесу, как правило, только по окончании формального курса образования. Если бы не запоздала так незаслуженно публикация этих воспоминаний, обнаруженных в его бумагах, я был бы рад возможности проанализировать причины столь необычного пренебрежения по отношению к одному из самых оригинальных мыслителей нашего времени в области экономики и социальной философии. Но оставленные им фрагменты автобиографии частично отвечают на этот вопрос. Он по чисто личным причинам так и не получил кафедру в университетах немецкоязычных стран в 1920-х годах или до 1933 года, тогда как множество других, бесспорно менее достойных, их получали. Такой профессор был бы украшением любого университета. Но инстинктивное чувство профессоров, что он не вполне подходит к их кругу, не было вполне ошибочным. При том, что его знание предмета превосходило знания большинства коллег, он никогда не был настоящим специалистом. Когда я оглядываю историю социальных наук в поисках подобной фигуры, я не нахожу ее среди профессоров, и даже Адам Смит здесь не годится; его следует сравнивать с мыслителями типа Вольтера или Монтескье, Токвилля или Джона Стюарта Милля. Такое понимание я приобрел, конечно, только с годами. Но когда более 50 лет назад я пытался объяснить положение Мизеса Уэсли Клеру Митчеллу приблизительно в тех же словах, я встретил -- видимо вполне объяснимый -- лишь вежливый иронический скептицизм. Его работам свойственно глобальное истолкование социального развития, и в отличие от немногих сравнимых с ним современников, таких как Макс Вебер, с которым его связывали редкостные отношения взаимного уважения, преимуществом Мизеса было неподдельное знание экономической теории. Предлагаемые здесь мемуары [имеется в виду текст Erinnerungen Ludwig von Mises, op. cit. -- амер. изд.] рассказывают о его развитии, положении и взглядах гораздо больше, чем я знаю или был бы способен рассказать. Я могу только попытаться дополнить или подтвердить информацию о десяти годах его жизни в Вене, когда я был тесно связан с ним. Довольно характерно, что я появился у него не как студент, но как свежеиспеченный доктор права и государственный служащий, его подчиненный в одном из этих временных особых учреждениях, созданных ради выполнения положений Сент-Жерменского договора о мире. Рекомендательное письмо от моего университетского учителя Фридриха фон Визера [о Визере см. главу 3 данного издания -- амер. изд.], который характеризовал меня как очень обещающего молодого экономиста, Мизес встретил улыбкой и замечанием, что он никогда не видел меня на своих лекциях. Но когда он обнаружил, что мои знания вполне удовлетворительны, и что я действительно интересуюсь экономической теорией, он стал оказывать мне всяческое содействие и сделал возможной мою длительную поездку в Соединенные Штаты (до появления Рокфеллеровских стипендий), которая так во многом мне помогла. [О поездке Хайека в Соединенные Штаты в 1923--1924 гг. см. Пролог к части 1. -- амер. изд.] Но хотя в первые годы нашего общения я ежедневно видел его на службе, у меня не было ни малейшего подозрения, что он готовит свою великую книгу о социализме, которая после публикации в 1922 году решительно меня изменила. Только летом 1924 года после возвращения из Америки я был допущен в этот круг, который уже существовал некоторое время и через который научная работа Мизеса в Вене в основном и оказывала влияние. "Семинар Мизеса", как мы называли эти вечерние дискуссии, проходившие каждые две недели в его служебном кабинете, детально описан в его мемуарах, хотя Мизес и не упоминает регулярное продолжение официальной части дискуссий, длившееся до поздней ночи в одном из Венских кафе. Как он совершенно верно отмечает, это не были учебные заседания, но вольные дискуссии, которыми руководил старший товарищ, и остальные разделяли далеко не все его взгляды. Строго говоря, только Фриц Махлуп был по настоящему студентом Мизеса. Что касается остальных, то из постоянных участников лишь Ричард Стригль [о Стигле см. главу 6 -- амер. изд.], Готтфрид Хаберлер, Оскар Моргенштерн, Элен Лайзер [Helene Lieser позднее была секретарем Международной экономической ассоциации в Париже -- амер. изд.] и Марта Стефания Браун [Marta Stephanie Braun, позднее Browne, преподавала в Бруклинском колледже и Нью-Йоркском университете -- амер. изд.] были специалистами в экономике. Рано умершие Эвальд Шамс [о Шамсе см. главу 6 -- амер. изд.] и Лео Шёнфельд, принадлежавшие к тому же очень одаренному промежуточному поколению, что и Ричард Стригль, никогда не были, сколько я знаю, постоянными участниками мизесовского семинара. Но социологи, философы и историки вроде Альфреда Шютца, Феликса Кауфмана и Фридриха Энгель-Яноши [Friedrich Engel-Janosi (1893--1978) -- амер. изд.] были столь же активны в дискуссиях, которые часто вращались вокруг проблем методов социальных наук, и редко концентрировались на специальных проблемах экономической теории (если не считать проблем субъективной теории ценности). Но вопросы экономической политики обсуждались часто, и всегда с точки зрения воздействия различных систем социальной философии. [Некоторые из участников семинара Мизеса опубликовали свои воспоминания в Wirtschaftpolitische Blatter, vol. 4, April 1981. -- амер. изд.] Все это казалось редким умственным развлечением для человека, который в течении дня был полностью загружен насущными политическими и экономическими проблемами, и который был лучше информирован в вопросах повседневной политики, современной истории и общего идеологического развития, чем большинство других. Над чем он работал, не знал даже я, хотя и видел его в эти годы почти ежедневно; он никогда не говорил об этом. Я знал только от его секретаря, что время от времени он перепечатывал тексты, написанные его отчетливым почерком. Но многие из его работ вплоть до публикации существовали только в таком рукописном виде, а одна важная статья считалась долгое время утерянной, пока ее не откопали в бумагах редактора журнала. До его женитьбы никто ничего не знал о том, как он работает. До окончания работы он никогда не говорил о ней. Хотя он знал о моей постоянной готовности помочь ему, только однажды он попросил меня сверить цитату, когда я упомянул, что намерен в библиотеке просмотреть труд по каноническому праву. У него никогда не было научного помощника, по крайней мере в Вене. Он занимался преимущественно теми проблемами, по которым считал ошибочным господствующее мнение. У читателей /"/ может возникнуть впечатление, что он был предубежден против немецкой социальной науки как таковой. Это, безусловно, не так, хотя с течением времени в нем развилось некое объяснимое раздражение. При этом он ценил крупных немецких теоретиков предыдущих поколений -- Тюнена, Германна, Мангольдта или Госсена -- выше, чем большинство своих коллег-современников, да и знал их гораздо лучше. Впрочем, и среди современников он высоко ставил ряд отдельных фигур, таких как Дитцель, Пёль, Адольф Вебер и Пассов, а также социолога Леопольда фон Визе и, в первую очередь, Макса Вебера, тесные научные связи с которым у него установились в краткий период его преподавания в Венском университете весной 1918 года, и эти связи могли бы оказаться очень плодотворными, если бы не ранняя смерть Вебера. Но в целом, бесспорно, что у него не могло быть ничего кроме презрения к большинству профессоров, занимавших кафедры в германских университетах и претендовавших на роль теоретиков-экономистов. Мизес не преувеличивал бедственность положения в экономической теории, как ее преподавали члены исторической школы. Сколь низко упал уровень теоретического мышления в Германии видно из того факта, что понадобилось упрощенное и грубое изложение проблем шведом Густавом Касселем -- впрочем, вполне заслуженного ученого -- чтобы опять возродить в Германии интерес к теории. Будучи человеком изысканно вежливым и способным к величайшему самоконтролю (который иногда давал трещины), Мизес не был человеком, способным скрывать свое презрение к кому-либо. Это усиливало его изоляцию как среди профессиональных экономистов, так и в тех Венских кругах, с которыми у него были научные и профессиональные связи. Когда он отказался от идей прогрессистской социальной политики, он стал чужаком для своих коллег и студентов. Даже четверть века спустя я сталкивался с отголосками гнева и обиды на показавшийся неожиданным разрыв с господствовавшими в академической среде начала века идеалами, когда, например, его сокурсник Ф.Х. Вейсс (издатель сокращенного собрания работ Бём-Баверка) рассказывал мне об этом событии с нескрываемым возмущением, явно имея в виду предостеречь меня от аналогичного предательства "социальных" ценностей и от чрезмерной симпатии к "отжившему" либерализму. Если бы Карл Менгер не вышел сравнительно рано в отставку, а Бём-Баверк не умер столь молодым, вполне возможно, что Мизес нашел бы у них поддержку. Но единственный остававшийся в живых основатель австрийской школы, мой досточтимый учитель Фридрих фон Визер, сам был по убеждениям скорее фабианцем; он гордился тем, что, как он считал, своими работами над теорией предельной полезности ему удалось научно обосновать разумность прогрессивного налогообложения доходов. Возврат Мизеса к классическому либерализму не был простой реакцией на господствовавшие в то время тенденции. У него полностью отсутствовала приспособляемость его блистательного товарища по семинару Йозефа Шумпетера [о Шумпетере см. главу 5 -- амер. изд.], который всегда быстро приноравливался к новым интеллектуальным веяниям; впрочем, у Мизеса не было и характерной для Шумпетера страсти к epater le bourgeois. Мне представляется, что два эти важнейших представителя третьего поколения ведущих австрийских экономистов (Шумпетера не приходится считать членом австрийской школы в собственном смысле слова), при всем взаимном интеллектуальном уважении, действовали друг другу на нервы. Сегодня Мизес и его ученики считаются представителями австрийской школы, и это вполне оправданно, хотя он представляет лишь одну из ветвей, начало которым положили ученики Менгера и его близкие друзья Евгений фон Бём-Баверк и Фридрих фон Визер. Я признаю это не без сопротивления, потому что ожидал гораздо большего от традиции Визера, которую пытался развить его преемник Ганс Майер. Эти ожидания пока что не сбылись, хотя еще сохраняется возможность, что эта традиция окажется в будущем более плодотворной, чем была до сих пор. Сегодня австрийская школа сохраняет активность почти исключительно в Соединенных Штатах и состоит из последователей Мизеса, развивавшего наследие Бём-Баверка, а человек, на которого Визер возлагал столь большие надежды и который наследовал его кафедру [имеется в виду Ганс Майер -- амер. изд.], так и не исполнил обещаний. [Хайек недооценивает здесь собственное влияние на современную австрийскую школу, которое не вполне совпадает с влиянием Мизеса. Об этом см. Введение к данному тому. -- амер. изд.] Мизес так и остался чужаком в академическом мире, потому что он никогда не занимал кафедры в немецко-говорящих странах, и до 50 с лишним лет должен был посвящать большую часть своего времени ненаучной деятельности. Его изоляции в общественной жизни и в роли представителя большого социально-философского направления способствовали и другие факторы. В первой трети этого века еврейский интеллектуал, защищавший социалистические идеи, имел свое бесспорное место в обществе. Сходным образом еврейский банкир или делец, который защищал капитализм (что само по себе было нехорошо!), также обладал некоторыми естественными правами на существование. Но еврейский интеллектуал, который оправдывал капитализм, казался большинству чем-то чудовищным и неестественным, чем-то пребывающим вне всяких категорий, с чем неизвестно как обращаться. Его бесспорное знание предмета производило впечатление, и в трудных экономических ситуациях с ним приходилось советоваться, но его советы редко понимали и использовали. Большей частью в нем видели эксцентричного чудака, "устаревшие" идеи которого "сегодня" совершенно непрактичны. Очень немногие наблюдатели понимали, что за многие годы напряженной работы он создал собственную систему социальной философии, да отдаленные наблюдатели, пожалуй, и не в состоянии были этого понять до 1940 года, когда он в Nationalokonomie впервые представил свою систему идей в целостном виде, но в это время читатели в Австрии и Германии были уже недостижимы для него. За пределами малого круга молодых теоретиков, которые встречались в его рабочем кабинете, и ряда высоко одаренных друзей в деловом мире, которых равно заботило будущее и о которых он упоминает в своих мемуарах, он встречал общее понимание только у отдельных иностранных гостей, таких как франкфуртский банкир Альберт Ханн, работы которого по денежной теории, впрочем, он высмеивал как грехи молодости. Но даже им приходилось нелегко. В поддержку своих идеи он приводил порой не вполне законченные аргументы, хотя, по некотором размышлении, становилось ясно, что он был прав. Но когда он сам был вполне убежден в собственных выводах, сформулированных отчетливым и ясным языком -- дар, которым он превосходно владел -- он приходил к выводу, что остальным также следовало бы все понять, и что только их предрассудки и упрямство им в этом мешают. Слишком долго он был лишен возможности обсуждать проблемы с равными по интеллектуальному развитию, которые бы разделяли его основные нравственные принципы, а потому и не сознавал, что даже небольшие различия в неявных предположениях могут вести к совершенно различным результатам. Это проявлялось в некоторой раздражительности, в готовности предположить нежелание понять, тогда как на деле имело место честное непонимание его аргументов. Должен признать, что и я не всегда сразу признавал полную убедительность его аргументов, и только постепенно приходил к выводу, что он большей частью прав, и что, по некотором размышлении, можно найти опущенные им доводы. Размышляя о схватках, в которых ему пришлось участвовать, я понимаю также, что порой он крепко преувеличивал, утверждая, например, априорный характер экономической теории, и здесь я не могу следовать за ним. Новым друзьям Мизеса, узнавшим его уже смягченным женитьбой и успехом в Америке, резкие вспышки гнева и раздражения, прорывающиеся в мемуарах, написанных в период величайшей горечи и безнадежности, могут показаться шокирующими. [Erinnerungen Мизеса была написана в конце 1940 года, вскоре после его бегства из Европы в Соединенные Штаты. -- амер. изд.] Но тот Мизес, который говорит в этой книге, есть тот самый Мизес, которого мы знали в Вене в 1920-х годах, лишенный, конечно, тактичной сдержанности, неизменно свойственной ему в личном общении, но честно и открыто выражающий то, что он думал и чувствовал. Это до известной степени объясняет пренебрежение условностями, хотя и не оправдывает его. Мы, знавшие его лучше, порой гневались из-за того, что ему не дают кафедру, но в глубине души мы этому не удивлялись. Он слишком сильно критиковал представителей той профессии, в ряды которой хотел получить доступ, чтобы быть принятыми ими. Он сражался против того течения в интеллектуальной жизни, которое сейчас идет на убыль, в том числе и благодаря его усилиям, но тогда оно было слишком могущественным, чтобы ему мог противостоять один человек. Венцы так никогда и не поняли, что среди них жил один из величайших мыслителей нашего времени. [Полную библиографию работ Мизеса смотри в Erinnerungen von Ludwig von Mises, op. cit., pp. 92--109; David Gordon, Ludwig von Mises: An Annotated Bibliography (Auburn, Ala.: Ludwig von Mises Institute, 1988); и Betina Bien Greaves, "The Contribution of Ludwig von Mises in the Fields of Money, Credit and Banking", in Mises's On the Manipulation of Money and Credit, ed. Percy L. Greaves, Jr. (Dobbs Ferry, N.Y.: Free Market Books, 1978), pp. 281--288, перевод Geldweertstabilisierung und Konjunkturpolitik, и двух других статей. -- амер. изд.] Глава пять. Джозеф Шумпетер (1883-1950)
Методологический индивидуализм В 1908 году, когда в возрасте 25 лет Йозеф Шумпетер опубликовал свою Wesen und der Hauptinhalt der theoretischen Nationalokonomie, блеск изложения привлек к нему большое внимание. Произвело впечатление и то, что, хотя он получил образование в Венском университете и был ведущим участником знаменитого семинара Эйгена фон Бём-Баверка, он также усвоил учение Леона Вальраса, на которого в австрийской школе обращали мало внимания, и принял позитивистский подход к науке, развитый австрийским физиком Эрнстом Махом [о влиянии Маха см. главу 7 этого тома -- амер. изд.]. С течением времени он еще дальше отошел от принципов австрийской школы, так что стало неясно, оправдано ли по прежнему числить его членом этой группы. Шумпетер был в очень большой степени "мастером своего дела", а не одним из "путаников" или "разгадывателей шарад", которые следуют своим собственным идеям [о "мастерах своего дела" и "разгадывателях шарад" см. статью Хайека "Two Types of Mind" in The Trend of Economic Thinking, vol. 3 of The Collected Works of F.A.Hayek -- амер. изд.]; он был очень отзывчив к идеям, господствовавшим в его окружении, и к интеллектуальным модам своего поколения. Особенно отчетливо это видно в этой совершенно менгеровской главе его первой книги, которая впервые появляется на английском языке и является классическим изложением взглядов, позднее им отброшенных. Многие из его учеников будут изумлены тем, что энтузиаст макроэкономического подхода и один из основателей эконометрического движения был автором одного из самых отчетливых изложений идей "методологического индивидуализма", свойственного австрийской школе. Он даже нашел имя для этого подхода и осудил использование статистических агрегатов как не имеющее научного оправдания. Как мне представляется, именно понятное нежелание видеть распространение работы, в которой излагаются прежние, отброшенные взгляды, стало причиной того, что эта его первая книга не была переведена. Нежелание публиковать свою блистательную первую книгу, не говоря уже о ее переводе, можно, пожалуй, объяснить тем, что его собственные взгляды были изложены только во второй книге о Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung [Joseph Schumpeter, Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung (Теория экономического развития), op. cit. -- амер. изд.], которая появилась через четыре года после первой. Но хотя сам автор, пожалуй, и не стал бы больше защищать идеи своей первой работы, они достаточно существенны для понимания развития экономической теории. Вклад Шумпетера в развитие традиции австрийской школы достаточно оригинален и заслуживает публикации. История экономического анализа Среди множества книг по истории экономической мысли хороших не так уж много, и большей частью они представляют собой краткие наброски. Настоящая трагедия, что покойному профессору Шумпетеру не удалось завершить работу, для которой он был подготовлен как никто другой. Почти 40 лет назад, уже имея репутацию оригинального теоретика, он опубликовал блистательный очерк развития экономической теории, который многие оценили как наивысшее достижение, но сам он был столь мало удовлетворен результатом, что не позволил издать английский перевод текста. За 9 или 10 лет до своей смерти (1950 год) он начал переработку этой ранней работы, и результатом стал монументальный труд, не имеющий равных в этой области, но так и не завершенный автором к моменту смерти. Ему удалось рассмотреть почти все, что он считал достойным анализа, и в опубликованной версии совсем немного лакун. Но многое осталось в форме черновых набросков, и весь текст должен был, видимо, подвергнуться тщательной редактуре. Список первоначальных источников, на систематическом анализе которых построена работа, просто поразителен, и свидетельствует об энциклопедических знаниях, далеко выходящих за сферу собственно экономической мысли. Если бы, как явно намеревался автор, вторичные источники были подвергнуты столь же основательному анализу, как и первичные, мы имели бы труд, обычно осуществляемый целым коллективом авторов. Вдова автора, сама по себе являвшаяся уважаемым экономистом [Elisabeth Boody Schumpeter опубликовала English Overseas Trade Statistics, 1697--1808 (Oxford: Clarendon Press, 1960), а также издала книгу The Industrialisation of Japan and Manchuko, 1930--1940 (New York: Macmillan, 1940) -- амер. изд.], начала готовить рукопись к публикации, пытаясь все издать в том виде, как это предполагал ее муж. Но госпожа Шумпетер также умерла до окончания работы, и к изданию книгу подготовили друзья и ученики автора. Другие ученые, естественно, не согласятся с автором во многих частностях, но по мере чтения книги все опасения бледнеют на фоне возникающей внушительной панорамы. Как бы то ни было, в краткой рецензии не уместно более подробно рассматривать те мелкие недочеты, которые, конечно же, устранил бы и сам автор, проживи он дольше. Мы же попробуем только обозначить, к чему же, собственно, он стремился, и чего достиг. Книга задумана как история экономической науки в строгом значении этого слова, а не как история политической экономии. [Здесь Хайек использует, видимо, классификацию Лайонела Роббинса. В своем знаменитом Essay on the Nature and Significanse of Economic Science (второе издание, London: Macmillan, 1935) Роббинс определяет экономическую теорию (economics) как "науку, которая изучает поведение человека в отношении целей и скудных средств, имеющих альтернативное использование", а более старый термин "политическая экономия" обозначает прикладные области, рассматриваемые в его позднейшей работе The Economic Basis of Class Conflict and Other Essays in Political Economy (London: Macmillan, 1939): монополию, протекционизм, планирование, правительственную фискальную политику и т.п. Сам Шумпетер считал экономическую историю, статистику и "теорию" частью "экономического анализа", куда не входили прикладные вопросы и то, что он называл "экономической социологией" (History of Economic Analysis, op. cit., chapter 2). -- амер. изд.] Но поскольку развитие экономической теории еще менее, чем в любой другой науке, постижимо без знания политических, социологических и интеллектуальных обстоятельств, направлявших внимание исследователей в том или ином направлении, нам предлагают мастерский анализ ситуаций, которые делают книгу чем-то гораздо большим, чем историей одной ветви знания. И хотя Шумпетер держался очень своеобразных и порой непопулярных взглядов, он великолепнейшим образом сумел в этой книге отодвинуть в сторону свои личные предпочтения. Просто поразительно его стремление воздать должное каждому подлинному достижению, недооцененному прежде, и найти в обстоятельствах времени оправдание даже самым несостоятельным аргументам. Тех, кто знаком с его общетеоретическими взглядами, не удивит, что его героями являются Квисней, Курно и Вальрас ("величайшие экономисты ... в области чистой теории"), и что он оценивает Адама Смита, Рикардо и даже Маршалла гораздо ниже, чем принято. [Francois Quesnay (1694--1774), французский юрист и врач, автор Tableau Economique <1758>, который уподобил циркуляцию богатства в государстве потоку крови в живом теле. Шумпетеровская Theory of Economic Development, op. cit., начинается с "кругового потока хозяйственной жизни". Давид Рикардо (1772--1823), финансист и протеже Джеймса Милля, автор работы On the Principles of Political Economy and Taxation <1817>, которая вошла в полное собрание сочинений в качестве первого тома The Works and Correspondence of David Ricardo (Cambridge: Cambridge University Press, for the Royal Economic Society, 1951--1955). -- амер. изд.] Его оценки большей частью справедливы и могут быть подкреплены хорошими аргументами. Большим достоинством является должная оценка значительной роли таких людей, как Кантильон [Richard Cantillon (1680--1734), ирландский банкир, работа Essai sur la nature du commerce en general появилась только посмертно в 1755 г. Эссе Хайека о Кантильоне см. в The Trend of Economic Thinking, op. cit. О Кантильоне как "прото-австрийце" писал Robert F. Hebert, "Was Richard Cantillon an Austrian Economist?", Journal of Libertarian Studies, vol. 7, no. 2, Fall 1985, а также другие статьи в этом номере журнала. -- амер. изд.], Сеньор [Nassau William Senior (1790--1864), профессор политической экономии Оксфордского университета. Его представления о методе экономической науки довольно похожи на те, которые позднее развивал Мизес; см. об этом Мюррея Н. Роттбарда, "In Defense of "Extreme Apriorism"", Southern Economic Journal, vol. 23, January 1957, pp. 314--320, особенно примечание 2 -- амер. изд.] и Бём-Баверк, и на фоне этого представляется малозначимым случайное преувеличение роли такой второстепенной, хотя и не лишеннной значимости фигуры, как Роберт Торренс. [Robbert Torrens (1780--1864), лидер английской монетарной школы. См. эссе Хайека "The Dispute Between the Currency School and the Banking School, 1821--1848", глава 12 of the Trend of Economic Thinking, op. cit. -- амер. изд.] Пожалуй, даже серьезное внимание к Карлу Марксу оправдано если не вкладом последнего в экономическую теорию, то уж его ранними попытками внедрить в экономический анализ учет социологических факторов -- а эта сторона его работ была явно привлекательна для Шумпетера. Тот факт, что Шумпетер порой интересовался социологией почти так же, как чистой экономической теорией, сильно сказывается на характере его последней работы, в которой встречаются замечательные очерки по социологии науки. Они стимулируют, даже когда с ними нельзя полностью согласиться. Читатели этого журнала будут, пожалуй, раздражены той ненужной и даже презрительной манерой, с которой Шумпетер отзывается об идеях XIX века -- либерализме, индивидуализме и идеологии laissez-faire. Но им следует помнить, что все это исходит от автора, который не хуже всякого иного знал, что энергия капиталистической эволюции "истощается, потому что современное государство способно разрушить или парализовать ее движущие силы", но при этом не мог отказать себе в удовольствии epater les bourgeois. Эти 1200 страниц плотной печати скорее всего не станут популярной книгой, хотя она так хорошо написана, что могла бы доставить удовольствие даже не специалисту. Это не значит, что это легкая книга, пригодная для детсадовской атмосферы, свойственной образованию во многих колледжах. Во многих отношениях она не является и "безопасной" книгой: ортодокс любого направления должен быть готов к постоянным шокам, а буквалист не поймет многого, что сказано между строк. Но для зрелого и вдумчивого читателя, будет ли он экономистом-теоретиком или просто человеком, интересующимся развитием идей о делах человеческих, эта книга явится бесценным источником. А более всего она будет полезна для молодых экономистов: как и во всех других областях знания, техническое усложнение теории несет угрозу узкой специализации, которая именно в этой области особенно опасна. Для распространенного среди молодых представления, что все, случившееся до 1936 года [год публикации работы Дж.М. Кейнса "Общая теория занятости, процента и денег", op. cit. -- амер. изд.], не имеет значения, -- нет лучшего противоядия, чем эта книга, и никакая другая работа не может лучше показать, что им следует знать, если они намерены быть не просто компетентными экономистами, но культурными людьми, способными использовать свои технические знания в этом сложном мире. А в самом конце книги они найдут -- увы, неоконченный -- обзор современного состояния экономической теории, который по крайней мере одному читателю показался гораздо более вдохновляющим и ценным, чем плоды разных коллективных усилий, которых стало так много в последние годы. Глава шесть. Шамс (1899-1955) и Ричард фон Стригл (1891-1942)
Эвальд Шамс Эвальд Шамс был одним из трех членов промежуточного поколения венских экономистов, из которых только Ричард Стригль был академическим экономистом, но все они были весьма влиятельны в венском кружке в 1920-х и 1930-х годах. Лео Шёнфельд (позднее Лео Илли), третий член этой группы, вряд ли имел личные контакты с остальными участниками кружка. Эвальд Шамс был активным и очень уважаемым участником дискуссий, в которые он вторгался во всеоружии знания всех проблем экономической теории. Эта троица по возрасту располагалась посредине между третьим поколением австрийской школы -- Мизесом, Шумпетером, Гансом Майером, Ф.Х. Вейсом и рядом других (Бём-Баверком, Визером и их современниками, пришедшими вслед за основателем австрийской школы Карлом Менгером, как второе поколение) -- и поколением, которое обозначают как четвертое, в котором я был несколько старше моих коллег Готтфрида Хаберлера, Фрица Махлупа, Оскара Моргенштерна и Пауля Розенштейн-Родана. От своих сверстников Шамс отличался прежде всего тем, что получил образование в университете Граца, где преподавал Шумпетер, и был, таким образом, единственным австрийским учеником Шумпетера; благодаря этому он с самого начала был знаком с идеями лозанской и австрийской школ. Будучи профессиональным государственным служащим, он не имел контактов с академической жизнью, и только в нашем кружке посещал лекции и организованные дискуссии. Он был очень дисциплинированным и немногословным человеком, который выделялся на фоне более непринужденных молодых участников не только своей прямой военной осанкой и элегантностью, но и наличием иных интересов, о которых мы знали очень мало. Это была замечательная фигура. Его уважали в экономическом обществе [имеется в виду Nationalokonomische Gesellschaft -- амер. изд.] и, если я верно помню, на семинарах профессора Мизеса за познания не только в области экономической теории, но также в философии и истории. Сколько я знаю, он никогда не предпринимал больших научных проектов. Его статьи это небольшие, тщательно отполированные драгоценности, явившиеся результатом чрезвычайно добросовестной работы, посвященные, большей частью, современным ему публикациям. [Примерами могут служить: эссе о Густаве Касселе "Die Casselschen Gleichungen und die mathemathische Wirtschaftstheorie", Jahrbucher fur Nationalokonomie und Statistik, third series, vol. 72, 1927; работа по историографии экономической мысли, "Die Anfange lehrgeschichtlicher Betrachtungsweise in der Nationalokonomie", Zeitschrift fur Nationalokonomie, vol. 3, 1931, а также "Eine Bibliographie der allgemeinen Lehrgeschichten der Natioanlokonomie", ibid, vol. 5, 1933 (последняя работа в соавторстве с Оскаром Моргенштерном. -- амер. изд.] Когда позднее он получил возможность благодаря Рокфеллеровской стипендии подольше поработать в Париже и, кажется, в Италии, он стал страстным и очень разборчивым собирателем книг, и в центре его интересов все больше оказывалась история экономической мысли. Случилось так, что в начале его пребывания в Париже я смог познакомить его с антикварами, специализировавшимися в этой области. Только после его смерти я узнал, насколько эффективно он использовал эти знакомства. Я смог приобрести у его вдовы небольшое, но превосходное собрание французских экономических работ XVIII века, и это собрание сейчас хранится в университете Зальцбургской школы юриспруденции и политических наук как часть моей собственной библиотеки. Интерес Шамса к истории экономической мысли имел главной причиной интерес к методологии экономической науки [см. работы Шамса "Die Zweite Nationalokonomie", Archiv fur Sozialpolitik, vol. 64, 1930, и "Wirtschaftlogik", в журнале Шмоллера Jahrbuch fur Gesetzgebung, Verwaltung und Volkswirtschaft im Deutschen Reich, vol. 58, 1934 -- амер. изд.]. Его сила в этой области заключалась не столько в понимании философских сторон вопроса, сколько в знакомстве с различными теоретическими школами, в первую очередь с немецко- и франкоязычными авторами. Конечно, он был знаком и с английскими работами, но прежде всего его занимало развитие на континенте. После эмиграции большинства коллег [об этой эмиграции см. Earlene Craver, "The Emigration of the Austrian Economists", op. cit., pp. 1--32, а также Пролог к ч. I в этом издании -- амер. изд.], он, кажется, оказался в изоляции. Между публикацией статей в конце 20-х и в начале 30-х годов и публикацией большого эссе 1950 года, которое, быть может, было написано много раньше, зияет провал. Нам не дано знать, сколь долго он активно занимался экономической теорией. Его вдова сообщила мне, что других рукописей он не оставил. Те из нас, кто покинул Вену, не встречались с ним после войны. Но перечитывание его прежних работ убедило меня, что мы еще многому можем у него научиться. Ричард фон Стригль Из Вены пришло сообщение о смерти Ричарда фон Стригля, последнего из группы более молодых австрийских экономистов, оставшихся дома. Ко времени смерти ему было немногим больше 50 лет, и он был, пожалуй, самым молодым из участников знаменитого семинара Бём-Баверка; для молодежи, которая появилась в университете после последней войны [имеется в виду Первая мировая война -- амер. изд.], он олицетворял ближайшее звено этой влиятельной традиции. Хотя в течении многих лет он был весьма успешным преподавателем, работе в университете, как и многие другие коллеги, он посвящал свободное от основной работы время -- он занимал важный пост в Венском Комитете страхования по безработице. Молодые экономисты, получившие образование в Вене перед нынешней войной, были обязаны ему больше, чем любому другому учителю; причиной было то, что он гораздо больше времени посвящал преподаванию в Hochschule fur Welthandel, а не в университете, и именно последняя в тот период сделалась важным центром преподавания экономики. Первая из его книг, опубликованная в 1923 году -- Die okonomischen Kategorien und die Organisation der Wirtschaft [Richard von Strigl, Die okonomischen Kategorien und die Organisation der Wirtschaft (Jena: Gustav Fischer, 1923)]-- представляет собой тщательное исследование методологических вопросов, которая составила автору широкую репутацию. За ней последовала менее известная, но в своем роде не менее ценная книга Angewandte Lohntheorie [Richard von Strigl, Angewandte Lohntheorie: Untersuchungen uber die wirtschaftlichen Grundlagen derSozialpolitik, in vol. 9 of Wiener Staatwissenschaftliche Studien (Leipzig and Vienna: Franz Deuticke, 1926) <см. Приложение к этой главе -- амер. изд.>], которая наметила развитие в новом направлении. Опубликованная за ряд лет серия теоретических статей подготовила появление книги Kapital und Production [Richard von Strigl, Kapital und Production (Vienna: Julius Springer, 1934) <переиздано Philosophia Verlag (Munich, 1982); английский перевод сделан Маргарет Рюдлих Хоппе и Гансом-Германом Хоппе, и находится в распоряжении института Людвига фон Мизеса, в университете Аубурна -- амер. изд.>], отличающейся, главным образом, простотой и ясностью изложения отменно трудных вопросов. За ней последовала Einfuhrung in die Grundlagen deer Nationalokonomie [Richard von Strigl, Einfuhrung in die Grundlagen der Nationalokonomie (Vienna: J. Springer, 1937)], которая была, пожалуй, лучшим из доступных на немецком языке современных введений в экономическую теорию -- и это несмотря на отказ Стригля от использования новейших инструментов теоретического анализа. Для тех, кто видел Стригля перед войной и после о нем ничего не слышал, известие о его смерти было ударом. Это большая потеря для его друзей и коллег, которые ценили его интеллектуальные способности и прекрасный характер, и надеялись, что его лучшая работа еще впереди, когда ему удастся освободиться от официальных обязанностей. Но сильнее всего почувствовали утрату его ученики. Один из них д-р Дж. Штейндль, работающий сейчас в Оксфордском институте статистики, пишет: Стригль не был избалован публичным признанием заслуг. Статус Privatdozent Венского университета, полученный им в 1923 году, вскоре был дополнен званием профессора. В 1936 году университет Утрехта присвоил ему степень почетного доктора, которую он очень ценил. Но, будучи скромным и спокойным человеком, он был мало известен за пределами круга коллег по профессии. С его смертью исчезла та фигура, с которой были связаны надежды на сохранение традиций Вены как центра экономической мысли и на будущее возрождение австрийской школы. Приложение: Стриглева теория заработной платы Книга Стригля относится к работам того типа, которые хотелось бы встречать чаще. В ней исследователь, владеющий всеми тонкостями теории, демонстрирует ценность фундаментальных экономических постулатов. Он избегает полемики и использует теоретические положения для объяснения многогранных данных опыта, накопленного им в практической профессиональной работе. Одну из предыдущих книг [Richard von Strigl, Die Okonomischen Kategorien und die Organisation der Wirtschaft, op. cit. -- амер. изд.] Стригль посвятил логическим основаниям экономической теории. Здесь он использует опыт секретаря комиссии Венского промышленного округа, где он имел возможность в качестве нейтрального наблюдателя присутствовать при переговорах об уровне заработной платы почти во всех отраслях хозяйства и, таким образом, подтвердить и расширить теоретические представления об установлении заработной платы. Служебное положение облегчило ему переход от абстрактной теории к многообразию жизненных реальностей, что обычно трудно дается теоретикам. Такое положение оказалось удобным для опровержения обычных возражений практиков против теоретического анализа. В силу этого данная работа по теории заработной платы будет полезна для практиков, в том числе для предпринимателей и руководителей профсоюзов. Заслуга автора в том, что он применил теоретический анализ факторов, влияющих на установление заработной платы, к отдельным явлениям, наилучшим образом поддающимся объяснению. Благодаря этому, даже те, кто не получил хорошей подготовки по экономической теории, извлекут пользу из применения рекомендаций данной книги к конкретным ситуациям. Особая ценность книги Стригля вовсе не в популяризации теории, но в применении теоретических посылок к явлениям, которые до сих не рассматривались в силу чрезмерной общности предпосылок. Особенно интересно проводимое Стриглем различение между монопольным положением в строгом значении этого слова и положением профсоюзов и предпринимательских ассоциаций на переговорах по поводу заработной платы. Положение представителей этих ассоциаций на переговорах отлично от положения монополистов до тех пор, пока за ними не стоит однородное экономическое образование, а изменение цен и продаваемых количеств затрагивает многих. Это должно иметь решающую важность для положения рабочих представителей, которые никогда не в состоянии предвидеть, что дополнительная заработная плата одних рабочих является компенсацией полной потери занятости другими рабочими. Давши критику попыток использовать теорию монопольного ценообразования к ситуации установления уровня заработной платы на коллективных переговорах, Стригль переходит к детальному исследованию основных факторов, воздействующих на спрос и предложение всех участников переговоров. Здесь он отчетливо идентифицирует экономическую значимость обстоятельств, обычно обозначаемых как "отношения власти". Здесь мы не можем обсудить все проанализированные Стриглем возможные результаты, порождаемые отклонением договорного уровня заработной платы от ее "естественного" уровня. Стригль предпринимает интересную попытку доказать, что производство может без вреда совладать с искусственным уровнем заработной платы, и что ее повышение не обязательно влечет за собой устойчивую безработицу, если только производительный аппарат может приспособиться к новому уровню заработной платы. Но этого он продемонстрировать не смог, потому что приходит к выводу, что такое возможно лишь когда рост капиталовооруженности в определенной отрасли поднимает предельную производительность труда до уровня, соответствующего искусственно вздутой заработной плате. Плодотворность исследований Стригля коренится в учете явлений трения, которыми пренебрегают базовые теоретические схемы, и нарушений закономерностей, ожидаемых на основании чисто теоретических посылок, то есть в том, чем и должна заниматься прикладная наука. Особенно интересным примером явления, возникающего из-за сопротивления трения, является калькуляция традиционной предпринимательской прибыли как "фиктивного" фактора издержек, существованию которого могут угрожать требования рабочих о росте заработной платы, но при этом может оказаться, что никаких изменений в экономике в целом не возникнет. Здесь даже в условиях статики уровень заработной платы может оказаться результатом отношений власти, а такого рода ситуация порой возникает, конечно, в современной хозяйственной жизни. Стоит отметить особенно хорошие разделы, посвященные безработице и социальным издержкам. Это образцовое применение теоретических идей к анализу реальных явлений и вопросов социальной политики. У экономической теории нет более надежного способа приобретения новых сторонников, чем найти возможности успешного применения к разрешению практических вопросов, и эта работа образец того, как это следует делать. Глава семь. Эрнст Мах (1838-1916) и социальные науки в Вене
Опубликовано впервые под заголовком "Diskussionsbemerkungen uber Ernst Mach und das sozialwissenschaftliche Denken in Wien", Symposium aus Anlas des 50. Todestages von Ernst Mach (Freiburg: Ernst Mach Institut, 1967). Перевод на английский язык сделан д-ром Гретой Хейнц. -- амер. изд. Я намерен здесь кратко зафиксировать факт обширности влияния Эрнста Маха в Вене даже до того, как вокруг Морица Шлика [Moritz Schlick (1882--1936), профессор философии в Венском университете и лидер группы "логических позитивистов", куда входили Отто Нейрат, Рудольф Карнап, Фридрих Вайсманн, Ганс Канн, Курт Гёдель и Герберт Фейгль -- амер. изд.] сформировался в 1922 году "Венский кружок". Случилось так, что три года, с 1918 по 1921, я учился в университете моей родной Вены, и в это время идеи Маха были в центре философских дискуссий. Вена в целом уже была исключительно благорасположена к восприятию философии, ориентированной на естественные науки; помимо Гейнриха Гомперса [Heinrich Gomperz (1873--1942) -- амер. изд.], в Вене преподавал Адольф Стор [Adolf Stohr (1855--1921) -- амер. изд.] -- идеи которого шли в том же направлении, а также Роберт Рейнингер [Robert Reininger (1869--1955) -- амер. изд.], который по меньшей мере симпатизировал такому истолкованию философии. Я уже не помню точно, каким образом я наткнулся на Маха почти сразу после возвращения с фронта в ноябре 1918 года; к сожалению, я начал записи о прочитанном только с весны 1919 года, и здесь вскоре появляется запись: "Теперь также и Erkenntnis und Irrtum" [Ernst Mach, Erkenntnis und Irrtum: Skizzen zur Psychologie der Forschung (Leipzig: J.A. Barth, 1905) -- амер. изд.], -- что свидетельствует о том, что за 4 месяца после начала занятий я уже познакомился с другими философскими трудами Маха. Я знаю, что я был сильно захвачен работами Маха -- Popular-wissenschaftliche Vorlesungen, Die Mechanik in Ihrer Entwicklung, а в особенности его Analyse der Empfindungen [Ernst Mach, Popular-wissenschaftliche Vorlesungen (Leipzig: Barth, 1896), издано в США как Popular Scientific Lectures (Chicago: Open Court, 1985); Die Mechanik in ihrer Entwicklung (Leipzig: F.A. Brockhaus, 1883); Die Analyse der Empfindungen und das Verhaltnis des Physischen zum Psychischen (Jena: Gustav Fischer) -- амер. изд.]. В результате этого в те три года, когда я официально являлся студентом факультета права, я делил свое время почти поровну между экономической теорией и философией, а правом занимался лишь в промежутках. Трудно сказать, что послужило прямой причиной нашей поглощенности философией Маха. Может быть, что-то похожее имело место уже и перед войной. В этом плане показательно, что Шумпетер был под очевидным влиянием идей Маха, когда он в 1908 году писал свою первую книгу [имеется в виду работа Шумпетера Das Wesen und der Hauptinhalt der theoretischen Nationalokonomie (Duncker & Humblot, 1908) -- амер. изд.], и что Фридрих фон Визер посвятил почти полностью книжное обозрение [в журнале Шмоллера Jahrbuch fur Gesetzgebung, Verwaltung und Volkswirtschaft im Deutschen Reich, vol. 35, no. 2, 1911 -- амер. изд.] вопросу о приложимости идей Маха в социальных науках. Я знаю также, что тогда же философ Людвиг Витгенштейн, мой дальний родственник, воевал с Махом. Сразу после <Первой мировой> войны, когда я пришел в университет, была особая причина для того, чтобы социальные науки обратились к Маху. Ленин атаковал философию Маха, и Фридрих Адлер, бывший тогда одной из самых заметных политических фигур в Австрии, отсиживая срок за убийство министра Стюрха [Friedrich Adler, Ernst Machs Uberwindung des mechanischen Materialismus (Viennna: Wiener Volksbuchhandlung, 1918). Фридрих Адлер (1879--?) был сыном Виктора Адлера, главы австрийской социал-демократической партии; Стюрх (Sturgkh) возглавлял во время войны австрийское правительство, которое социал-демократы считали абсолютистским. Приговор Адлеру был пересмотрен в 1917 году, менее чем через год после убийства, а в следующем году он был уже освобожден из тюрьмы. Об этом эпизоде смотри у Mark E. Blum, The Austrian Marxists, op. cit., pp. 203--204 -- амер. изд.], написал книгу в защиту Маха. В результате возникла оживленная дискуссия об этих проблемах между настоящими коммунистами и левыми социалистами. Она затронула и нас, не бывших социалистами, и вопрос стал по-настоящему существенным, когда преемником Визера в Венском университете был назначен Отто Шпан [о Шпанне см. Пролог к ч. I; на самом деле Шпанн был коллегой Визера, а его преемником в университете стал Ганс Майер -- амер. изд.], метафизически ориентированный экономист. В то время мы подыскивали антиметафизические аргументы, и мы их находили у Маха, хотя нам было нелегко принять позитивизм Маха целиком. Другим камнем преткновения было то, что эти идеи слишком открыто использовались для поддержки чуждого нам социалистического подхода, особенно Отто Нейратом, в дальнейшем ставшего одним из основателей Венского кружка [о Нейрате см. Пролог к ч. I -- амер. изд.]. Нейрат рассчитывал, грубо говоря, превратить позитивизм Маха в физикализм или, как он порой это называл, в сциентизм. С другой стороны, Мах был практически единственным источником аргументов против метафизических и туманных установок, так что все эти годы мы стремились овладеть позитивизмом, в котором было много явно истинного, и выделить из него то, что в известной степени было приложимо к социальным и гуманитарным наукам, и что содержало ядро истины. Меня лично работы Маха подтолкнули к изучению психологии и физиологии органов восприятия, и в то время я даже проделал исследование этих вопросов, превратившееся через тридцать лет в книгу [F.A. Hayek, The Sensory Order: An Inquiry into the Foundations of Theoretical Psychology (London: Routledge & Kegan Paul, and Chicago: University of Chicago Press, 1952) -- амер. изд.]. К написанию этой работы меня подтолкнуло, в конечном счете, сомнение в Маховой концепции феноменализма, где чистые, простые ощущения являются элементами всего чувственного восприятия. Озарение пришло ко мне также как, по рассказу самого Маха, оно пришло как-то к нему, когда он однажды осознал, что в философии Канта концепция "вещи в себе" совершенно не нужна, и что ее можно опустить. Меня озарило, что в психологии чувственного восприятия Маха концепция "простых и чистых ощущений" совершенно не нужна. Поскольку Мах обозначил связи между ощущениями как "отношения", я в конце концов был вынужден заключить, что вся структура чувственного мира имеет источником "отношения", а значит можно вообще отбросить концепцию простых и чистых ощущений, которая играет столь большую роль у Маха. Это лишь пример того, какую большую роль для нашего мышления играл Мах в эти годы. Можно сказать, что для молодого человека, интересующегося философскими вопросами, который пришел в Венский университет сразу после войны, то есть в 1918--1919 гг., и которого не привлекала ортодоксальная философия, Мах представлял единственную возможную альтернативу. Мы пытались обратиться к Авенариусу [Richard Avenarius (1843--1896), профессор Цюрихского университета с 1877 по 1896 год; Авенариус стал известен благодаря нападкам со стороны Ленина и Гуссерля -- амер. изд.], но скоро отказались от этой затеи, сам не знаю -- почему; во всяком случае, мы нашли Авенариуса вполне непонятным. От Маха наиболее вероятный путь вел к Гельмгольцу [Hermann Ludwig Ferdinand von Helmholtz (1821--1894), немецкий врач и физиолог, сформулировал принцип сохранения энергии -- амер. изд.], к Пуанкаре [Henri Poincare (1854--1912), французский математик и философ науки -- амер. изд.], и к другим такого же толка мыслителям, и тех, кто, подобно моему другу Карлу Попперу, занимался этими вопросами систематически, этот путь привел ко всем современным ученым -- естественникам и философам. Вот более или менее все, что я хотел сказать. Я склонен предположить, что Эрнст Мах сыграл особенно значительную роль не только в узкой сфере естественных наук, но также в тех дисциплинах, в которых методологический или научный характер теории еще более сомнителен, чем в естественных науках, и где, поэтому, существовала еще более сильная потребность прояснить, чем же на самом деле является наука. Это мало связано с тем фактом, что Мах стал своего рода политическим символом; я должен сказать, что "общество Эрнста Маха", уже существовавшее в 1929 году, когда я покинул Вену, по чисто случайным причинам обрело некую политическую окраску. Входили в него, большей частью, социалисты, из чего не следует, что оно было политически активно, хотя именно по этой причине оно при Дольфусе [Englebert Dollfuss (1892--1934), канцлер Австрии в 1932--1934 гг. -- амер. изд.] попало под удар. КОДА Воспоминания о моем кузене Людвиге Витгенштейне (1889--1951) Между железнодорожными путями и вокзалом в Бад Исле прежде был пустырь, на котором 60 лет назад в сезон отдыха перед отходом ночного поезда в Вену устраивались гулянья. Думаю, что был последний день августа 1918 года, когда в шумной толпе молодых офицеров, возвращавшихся на фронт после отпуска, два артиллерийских прапорщика осознали, что они должно быть знакомы. Я не знаю, было ли это некое фамильное сходство, или мы в самом деле встречались прежде [Позже Хайек пришел к выводу, что он встречал Витгенштейна до этого. "Очень похоже, что Витгенштейн был одним из этих статных и элегантных молодых мужчин, которых я видел в 1910 году, когда мои дедушка и бабушка снимали на весну и лето швейцарский коттедж рядом с парком Витгенштейнов в пригороде Нейвальдега, и которые часто приглашали на свою гораздо более внушительную виллу молоденьких сестер моей матери для игры в теннис, так что, может быть, именно я первым узнал его в 1918 году, а не наоборот." Из беседы с У.У. Бартли III -- амер. изд.], но что-то подтолкнуло каждого задать вопрос: "Вы не Витгенштейн?" (а может быть, "Вы не Хайек?"). Во всяком случае, мы провели вместе эту ночь по дороге в Вену, и хотя большую часть ночи мы пытались поспать, но смогли немного поговорить. Отдельные детали этого разговора произвели на меня сильное впечатление. Он был не только сильно раздражен возбужденностью наполнявших вагон шумных и, скорее всего, полупьяных офицеров, и не думал даже скрывать своего презрения к роду человеческому в целом, но при этом был совершенно уверен, что любой его родственник, сколь угодно дальний, должен придерживаться тех же стандартов, что и он сам. И он был не столь уж не прав! Я был тогда очень молод и неопытен, мне едва исполнилось 19, и я был продуктом воспитания, которое сейчас назвали бы пуританским, в результате которого ледяная ванна, в которую погружался по утрам мой отец, рассматривалась как отличное средство для дисциплинирования тела и ума (хотя редко кто подражал ему). А ведь Людвиг Витгенштейн был на 10 лет старше меня. В этом разговоре меня больше всего поразила сильная страсть к правдивости во всем (только учась в университете я опознал в этом стремлении стиль, характерный для молодых венских интеллектуалов предыдущего поколения). Эта правдивость обратилась почти в моду в той пограничной группе, состоявшей из чисто еврейских и чисто дворянских интеллигентов, с которыми я позднее так много общался. Это значило много больше, чем просто не врать. Следовало "жить" по истине, и не терпеть никакой претенциозности ни в себе, ни в других. Иногда результатом была открытая грубость. Каждая житейская условность подвергалась анализу и обличалась как фальшь. Витгенштейн был просто очень последовательным по отношению к себе. Порой я чувствовал в нем некое извращенное удовольствие от того, как он вскрывал ложность своих чувств и как постоянно пытался очистить себя от всякой фальши. Нет сомнения, что уже в то время он был сильно перенапряжен. Дальняя родня считала его (хотя вряд ли зная) самым безумным из членов очень необычной семьи, где все отличались высокой одаренностью и всегда были готовы (и имели для этого возможности) заниматься только тем, что им нравилось. До 1914 года я много слышал (хотя сам по молодости лет и не бывал там) о знаменитых музыкальных вечерах во "дворце Витгенштейнов", который перестал быть центром светской жизни после 1914 года. Многие годы для меня за этим именем стояла ласковая пожилая дама, которая в шесть лет взяла меня на первую в моей жизни автомобильную прогулку -- вокруг Рингштрассе в открытом электромобиле. Если не считать еще более раннего воспоминания о том, как меня привезли в роскошные апартаменты очень старой дамы, о которой мне рассказали, что это сестра моей прабабушки с материнской стороны, -- а теперь я знаю, что это была прабабушка Людвига Витгенштейна с материнской стороны -- у меня нет личных воспоминаний о семье Витгенштейнов того периода, когда они принадлежали к высшим социальным слоям Вены. Трагический конец трех старших сыновей, которые покончили жизнь самоубийством, ослабили ее даже сильнее, чем это сделала бы сама по себе смерть крупного промышленника, стоявшего во главе семьи. Боюсь, что самые ранние воспоминания о Витгенштейнах связаны с шокирующей репликой моей незамужней тетки из Штирина, исполненной, конечно же, зависти, а не злобы, что их дед "продал свою дочь богатому еврейскому банкиру..." Речь шла о той самой доброй старой даме, которую я все еще помню. После этого я не встречал Людвига Витгенштейна еще десять лет; но время от времени я слышал о нем через его старшую сестру, которая была двоюродной кузиной, ровесницей и близким другом моей матери. Благодаря ее регулярным визитам "тетушка Минни" стала привычной для меня фигурой. Ее явно занимали проблемы младшего брата, и хотя она обрывала все разговоры о "sonderling" (чудаке) и защищала его при возникновении случайных и, конечно же, сильно преувеличенных слухов о его поступках, мы быстро узнавали обо всем. Общественное мнение не занималось им, а известной фигурой стал его брат Пауль Витгенштейн, однорукий пианист. [Пауль Витгенштейн потерял руку на фронте. Несмотря на это он продолжал исполнять написанные по заказу работы, вроде Концерта для левой руки М. Равеля. -- амер. изд.] Но благодаря этим связям я стал одним из первых, видимо, читателей Tractatus, который появился в 1922 году. [На самом деле в 1923 году, хотя трактат был написан, видимо, в 1918 году. Ludwig Wittgenstein, Tractatus Logico-Philosophicus (London: Rouledge, 1923; Routledge & Kegan Paul, 1961) -- амер. изд.] Поскольку, подобно большинству интересовавшихся философией людей моего поколения, я был, так же как и Витгенштейн, под влиянием Эрнста Маха, трактат произвел на меня сильное впечатление. Следующий раз я встретил Людвига Витгенштейна весной 1928 года, когда экономист Деннис Робертсон, пригласивший меня на прогулку по Феллоус Гарденс колледжа Тринити в Кембридже, неожиданно решил изменить маршрут, потому что углядел на небольшом пригорке силуэт философа, лежавшего в шезлонге. Он встал перед ним с чувством явного трепета, страшась побеспокоить его. Я, естественно, подошел и был приветствован с неожиданным дружелюбием, и мы начали любезный, но малоинтересный разговор (на немецком) о доме, о семье, и Робертсон вскоре оставил нас. Через короткое время интерес Витгенштейна начал угасать, и стало ясно, что он не понимает, что дальше делать со мной, так что вскоре я также ушел. Прошло должно быть около 12 лет, прежде чем состоялась первая настоящая встреча. В 1939 году я приехал в Кембридж с Лондонской школой экономической теории и вскоре выяснил, что его нет, потому что он работает в каком-то военном госпитале. Но год или два спустя я совершенно неожиданно столкнулся с ним. Джон Мейнард Кейнс заказал для меня комнаты в Кингс колледже в корпусе Гиббса, и вскоре Ричард Брайтвейт пригласил меня участвовать в заседаниях Клуба моральных наук (кажется, он так назывался), которые устраивались как раз этажом ниже. В конце одного из заседаний совершенно неожиданно и очень драматично возникла фигура Виттгенштейна. Речь шла о статье, которая была мне не слишком интересна и я уже не помню, на какую тему. Неожиданно Виттгенштейн вскочил на ноги, крайне возмущенный и с кочергой в руке, и сильно жестикулируя начал объяснять, насколько прост и ясен вопрос. Зрелище того, как человек в неистовстве размахивает посреди комнаты кочергой, было, естественно, очень тревожным, и возбуждало желание спрятаться подальше в угол. У меня, естественно, возникло впечатления, что он сошел с ума! [Воспоминание Хайека было оспорено в письме Перси Б. Ленинга из Амстердама к редактору Encounter (November 1977, pp. 93--94), "Hayek's Wittgenstein & Popper", где делался вывод, что Хайек должно быть присутствовал 26 октября 1946 года на знаменитой "встрече с кочергой" между Виттгенштейном и Карлом Поппером, которая описана в автобиографии последнего Unended Quest (London: Fontana, 1976), pp. 122--123, а значит либо Хайек неверно датирует происшествие, либо "по крайней мере в двух случаях в Клубе моральных наук Виттгенштейн агрессивно жестикулировал кочергой". На это письмо Хайек ответил (тот же номер журнала, р. 94): "Могу заключить только, что у Витгенштейна в обычае было подкреплять свои мысли кочергой. Я слышал очень похожий рассказ, который явно относился ко времени до 1946 года. Я уверен, что никогда не слушал лекций Карла Поппера в Кембридже, а его Автобиографию я прочел уже после публикации этого отрывка." Смотри обсуждение нескольких версий спора между Поппером и Виттгенштейном у У.У.Бартли III, "Facts and Fictions", Encounter, January 1986, pp. 77--78. Профессор Бартли готовил биографию Поппера и в связи с этим случаем пишет следующее: "Собирая материалы для биографии Поппера я смог выяснить, что его рассказ об этом инциденте точен во всем, кроме одной детали. В Unended Quest Поппер завершает рассказ фразой: "В конечном итоге разъяренный Виттгенштейн отшвырнул кочергу и вылетел из комнаты, грохнув за собой дверью". Профессор Питер Мунц из университета Виктории в Веллингтоне, Новая Зеландия, ученик Виттгенштейна, который участвовал в этом заседании, заверил меня, что разъяренность Виттгенштейна не имеет никакого отношения к хлопанию дверьми, "потому что Виттгенштейн всегда хлопал дверьми, в любом настроении."" См. также Peter Munz, Our Knowledge of the Growth of Knowledge: Popper or Wittgenstein (London: Routledge & Kegan Paul, 1985). -- амер. изд.] Какое-то время спустя, может быть через год или два, я услышал, что он в Кембридже, и набрался мужества навестить его. В тот раз он снимал комнаты (думаю, как и всегда), в здании, расположенном вне территории колледжа. Пустая комната с чугунной печкой, куда ему пришлось принести кресло для меня, неоднократно описана. Мы любезно побеседовали о множестве вопросов, не касаясь философии и политики (поскольку знали, что политические взгляды у нас различны), и казалось, что ему, в отличие от других чудаковатых фигур, которых я встречал в Кембридже, нравится, что я избегаю "деловых разговоров". Но хотя визиты протекали вполне приятно и он явно желал их повторения, эти встречи были довольно малоинтересными, и я навестил его еще 2 или 3 раза. После конца войны, когда я уже вернулся в Лондон, и появилась возможность сначала посылать продовольственные посылки, а затем и навестить наших родственников в Вене, у нас возникла переписка. Предстояло множество сложных контактов с бюрократическими организациями, и, как он правильно предположил, я раньше его узнал все необходимые детали. При этом он выказал забавное сочетание непрактичности со скрупулезным вниманием к деталям, и было ясно, что ему нелегко приходится в жизни. Несмотря на это, он сумел попасть в Вену вскоре после меня (я первый раз попал туда в 1946 году), и, сколько я знаю, был там еще раз или два. Кажется, именно когда он возвращался после последнего визита домой мы виделись в последний раз. Он навещал свою умирающую сестру Минни, и он сам был уже смертельно болен (хотя тогда я и не знал этого) [это должно было быть в 1949 году; см. W.W. Bartly III, Wittgenstein, second edition (La Salle: Open Court, 1985), p. 155 -- амер. изд.]. Я, как обычно, ехал по железной дороге из Вены через Швейцарию и Францию, сделал остановку в Базеле, и на следующий день садился в спальный вагон. Поскольку мой сосед по купе уже спал, я разделся в полутьме. Когда я собирался лезть на верхнюю полку, с подушки внизу приподнялась взъерошенная голова и почти крикнула на меня: "Вы профессор Хайек!". Прежде чем я сумел сообразить, что это был Виттгенштейн, и что-либо ответить, он опять отвернулся к стене. Когда я проснулся утром, его уже не было, думаю, что он ушел в вагон-ресторан. Когда я вернулся в купе, он был погружен в детективный роман и явно не желал разговаривать. Это длилось, пока он не дочитал своей книжки. Затем он втянул меня в очень оживленный разговор, который начал со своих впечатлениях о русских в Вене, и было видно, что этот опыт потряс его до глубины и разрушил издавна лелеемые иллюзии. Постепенно мы перешли к более общим вопросам моральной философии, но к тому времени, когда разговор стал по настоящему интересен, мы прибыли в порт (кажется, в Булонь). Виттгенштейну очень хотелось продолжить разговор, и он даже заявил, что мы к нему вернемся на борту. Но там я просто не сумел его найти. Либо раскаялся, что так сильно увлекся беседой, либо убедился, что, в конце концов, я самый обычный филистер -- не знаю. Как бы то ни было, больше я его никогда не видел. Часть вторая
Пролог. Новое открытие свободы: личные воспоминания
Опубликовано как "Die Wiederentdeckung der Freiheit-Personliche Erinnerungen" in Verein Deutscher Maschinenbaum-Anstalten (VDMA) und Institut der Deutschen Wirtschaft (IW), eds, Productivitat, Eiggenverantwortung, Beschaftigung: Fur eine wirtschaftspolitische Vorwartsstrategie (Cologne: Deutscher Institut-Verlag, 1983). Впервые это эссе было опубликовано как лекция на симпозиуме, организованном совместно VDMA и IW 1 и 2 февраля 1983 года в Бонне и Бад-Годесберге, в Германии. -- амер. изд. Я был очень рад получить ваше приглашение обсудить мои воспоминания о новом открытии свободы в Германии. Вообще-то я не склонен погружаться в воспоминания, поскольку чувствую себя еще не настолько старым и, одновременно, слишком занятым, чтобы предаваться этому делу. Так что я немного растерялся, пытаясь прикинуть, чем же занять ваше внимание в течении получаса. Правда, мне есть с чего начать, поскольку мне случилось поработать с более ранним поколением участников Verein Deutscher Maschinenbau-Anstalten (Ассоциация германских машиностроительных предприятий). Сегодня я намерен говорить, главным образом, о развитии Германии, хотя немного забавно, что иностранец вроде меня будет рассуждать о развитии свободы в Германии. Наша история была столь незадачлива, что сегодня мои воспоминания имеют достоинство редкости. Злая судьба довлела над попытками немцев защитить идеал свободы в целом и в том числе экономической свободы, а в результате я являюсь сегодня почти единственным живым представителем того поколения, которое сразу после окончания первой мировой войны посвятило всю свою энергию сохранению цивилизованного общества, того поколения, которое поставило перед собой задачу создать условия для построения лучшего общества и научиться понимать, а до известной степени и защищать, традицию, которая цивилизовала мир. В послевоенные годы наша очень маленькая группа, получившая первичный импульс от Людвига фон Мизеса, посвятила себе этой задаче. Атмосфера в общественных науках в те годы была далеко не благоприятна для нас, поскольку тогда безраздельно господствовали идеи интервенционизма, укоренившиеся в первую очередь в Германии после 1870-х годов. Результатом такого положения вещей было то, что после конца первой мировой войны в Германии практически не осталось экономистов-теоретиков. [О состоянии экономической теории в Германии см. главу 4 -- амер. изд.] Я едва ли преувеличиваю, и для иллюстрации приведу лишь один факт. После демобилизации я встретил в Венском университете счастливых девушек, которым повезло слушать лекции Макса Вебера летом 1918 года, когда мы еще были на фронте. В течении одного семестра Вебер был профессором экономической теории в Вене, и в одной из лекций заметил, что чувствует себя не достаточно квалифицированным, поскольку первой лекцией по экономической теории, которую ему удалось прослушать, была его собственная. В то время в Германии было почти невозможно стать теоретиком в области общественных наук. Каждый, кто подобно мне изучал инфляцию на живом примере Австрии и Германии, под едкие комментарии своего наставника Людвига фон Мизеса, который не уставал отмечать все нелепости, произносимые по этому поводу немецкими экономистами, вроде утверждения г-на Хавенштейна, что избегать следует не инфляции, а недостатка денег [Rudolf Havenstein (1857--1923), президент Рейхсбанка, центрального банка Германии, с 1908 по 1923 год; по поводу его высказываний на эту тему смотри Fritz K. Ringer, ed., The German Inflation of 1923 (New York: Oxford University Press, 1969), p. 96. -- амер. изд.], или смехотворнейших суждений о денежной политике одного из виднейших авторов популярного учебника о финансовых институтах Хелфериха [Karl Helfferich (1872--1924), директор Дейтче банка в Берлине и автор Des Geld (Leipzig: Hirschfeld, 1903, 6-е издание, 1923) -- амер. изд.] -- не мог не прийти к выводу, что в Германии экономическая теория как наука вымерла. Мизес, бывший в этом отношении кем угодно, но только не добряком, делал исключение для трех или четырех человек. Он говорил, что Адольф Вебер как и Пассов, вполне разумные люди и, по крайней мере, защищали капитализм. Дитцел проявлял некоторое понимание <предмета -- прим. пер. (Б.П.)>, а Пёль также был бы достоин уважения, если бы сумел наконец что-нибудь опубликовать и сделать хоть чуть больше, чем просто пропагандировать в Германии работы Густава Касселя. Мизес полагал, что за исключением этих вот, в Германии больше не было экономистов. И он не был так уж неправ. В 1920-х годах, наконец, возник теоретический подход, но совершенно игнорировавший свободу. Что знаменательно, о значимости экономической теории догадался Бернхард Хармс, тогдашний честолюбивый директор Кильского института. [Bernhard Harms (1876--1939) возглавлял Institut fur Weltwirtschaft в Кильском университете. Шумпетер называет его "одним из эффективнейших, какие когда-либо жили, организаторов исследований". History of Economic Analysis (New York: Oxford University Press, 1954), p. 1155 -- амер. изд.] Сам он не имел хорошего экономического образования, но по советам других он окружил себя группой социалистических теоретиков, которые, предположительно, были лучшими из наличных. К несчастью для немецкой теории Бекер [Carl Heinrich Becker (1876--1933) -- амер. изд.], самый влиятельный советник Прусского министра образования, выбрал для вакантной тогда кафедры экономики Берлинского университета не Йозефа Шумпетера, а Эмиля Ледерера. [Emil Lederer (1882--1939) писал о многих вопросах экономики труда и промышленности. В 1933 году он эмигрировал в Нью-Йорк и стал первым деканом факультета Политических и социальных наук в Новой школе социальных исследований. -- амер. изд.] Разочарованный Шумпетер уехал в Соединенные Штаты, а Ледерер, который также участвовал в семинаре Бём-Баверка, но был слабейшим из участников -- был назначен руководителем кафедры в Берлине. [Это случилось в 1931 году. Шумпетер ответил согласием на приглашение в Гарвардский университет в следующем году. -- амер. изд.] Помимо этой группы, которые все были не только социалистами, но и евреями и, конечно же, были принуждены оставить Германию в 1933 году -- существовали всего лишь две группы теоретиков, одна из которых была активна в академической среде, а другая -- в неакадемической. Последняя состояла из группы джентльменов, которые -- что довольно странно -- собрались под крышей Ассоциации германских машиностроителей (VDMA), и назвали себя "рикардианцами", чтобы отделить себя от основной школы экономической теории. Среди них были Александр Рюстов [Alexander Rustow (1885--1963), профессор экономической географии и экономической истории в университете Стамбула, автор Ortsbestimmung der Gegenwart, 3 vols (Erlenbach-Zurich and Stuttgart: Eugen Rentsch, 1950--1957), сокращенный перевод на английский Freedom and Domination (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1980). -- амер. изд.], Ганс Гестрих [Hans Gestrich (1893--1945), преподавал в Берлинском университете -- амер. изд.] и Отто Вейт [Otto Veit (1898--?), банкир и профессор Франкфурского университета -- амер. изд.]. Членом этого кружка был и Лаутенбах [Wilhelm Lautenbach (1891--1948) -- амер. изд.], очень одаренный теоретик, умерший совсем молодым, который состоял на государственной службе, а не в VDMA. Другими членами кружка были д-р Илау [Hans Ilau (1901--?) был позднее экономистом в Дрезденском банке, а также в Дармштадтском и Национальном банке, издатель Frankfurter Zeitung -- амер. изд.], Фридрих Лутц [Friedrich August Lutz (1901--1975) преподавал в университетах Фрайбурга, Принстона и Цюриха, специализировался на теории капитала и процента. Его жена Вера Смит Лютц работала помощницей Хайека во время учебы в Лондонской школе экономической теории. -- амер. изд.] и Теодор Эшенбург [Theodor Eshenburg (1904--?) позднее был профессором политических наук в Тюбингенском университете -- амер. изд.], с которым я познакомился позднее. Группа мужчин в VDMA была фактически единственным влиятельным и деятельным кружком теоретиков в Германии, которые честно, но безуспешно стремились к установлению свободной экономики. Этот кружок продолжал существовать даже в нацистский период, но большая часть его членов умерли молодыми. Я живо помню один свой приезд в Берлин в этот период. Обычно я избегал Германии, и во время частых поездок из Лондона в Вену пересекал только юго-западный угол ее, где регулярно навещал Вальтера Эйкена [Walter Eucken (1891--1950), профессор теоретической экономики во Фрайбургском университете -- амер. изд.], о чем расскажу позже. Однажды мне случилось читать лекцию в Варшаве, и по дороге в Лондон я попал в Берлин, где сделал остановку. Здесь я столкнулся с кружком "рикардианцев", и мы проговорили в доме одного из них целый вечер. Кажется, это был дом Гестриха. Хорошо помню, что когда мы перешли от чисто теоретических вопросов к более рискованным предметам, кто-то -- может быть один из гостей -- вскочил и накрыл телефон чайной подушкой, чтобы, избави бог, никто из посторонних не смог услышать наш разговор. Эта группа, тесно связанная с VDMA, одна из немногих пережила нацистский период не отказываясь от либеральной традиции. Вернемся-ка ближе к моей главной теме. Очень давно, я не помню точно даты, может быть в 1926 году в Вене на собрании Ассоциации социальной политики (Ferein fur Sozialpolitik [об Ассоциации см. главу 4 -- амер. изд.]), я познакомился с Вильгельмом Рёпке [о Рёпке см. два первые Приложения к этой главе -- амер. изд.]. В течение нескольких лет я был очень близок с ним, и через него же я познакомился с группой "рикардианцев". В дальнейшем на собраниях Verein fur Sozialpolitik (в Цюрихе в 1928 году и в Кёнигсберге в 1930 году) он единственный скрашивал для меня атмосферу этих встреч, на которых доминировали такие государственные служащие, как Зомбарт и его ученики. Все они были очень почтенными господами, но при этом настолько же чуждыми экономической теории, насколько они были враждебны свободе. Благодаря Рёпке я познакомился во Фрайбурге с Вальтером Эйкеном. В то время он был совсем не известен, но уже был очень влиятелен в кругу коллег. Он, похоже, был самым серьезным мыслителем в области социальной философии, из рожденных в Германии за последнюю сотню лет. К тому времени Эйкен опубликовал только ряд небольших работ. Как ни странно, его главная работа [Walter Eucken, Die Grundlagen der Nationalokonomie (Jena: Gustav Fusher, 1940), перевод на английский T.W. Hutchinson The Foundations of Economics: History and Theory in the Analysis of Economic Reality (London: W. Hodge, 1950) -- амер. изд.] нашла меня в Лондоне во время войны. Я никогда не мог понять, почему эта книга, которую мне прислал Рёпке из Цюриха, дошла до меня -- то ли в силу небрежности британских чиновников, то ли потому, что они за мной следили, и давали мне возможность основательно скомпрометировать себя. Как бы то ни было, эта книга, опубликованная в 1940 году, попала ко мне во время войны. Именно она помогла мне понять, насколько крупной фигурой является Эйкен, и в какой степени он и его коллеги воплотили великую либеральную традицию Германии. Когда я заметил выше, что в последние полстолетия смерть собрала преждевременную жатву в среде немецких последователей идеала свободы, я думал прежде всего о кружке Эйкена, второй из двух групп теоретиков, о которых говорилось выше. Я не могу перечислить их всех, но чтобы вы могли представить тяжесть понесенных Германией потерь отмечу, по крайней мере, Микша [Leonard Miksch (1901--1950) -- амер. изд.] и Лампе [Adolf Lampe (1897--1948) -- амер. изд.], двух наиболее перспективных сотрудников Эйкена, а также его ближайшего друга и сотрудника в области философии права Франца Бёма [Franz Bohm (1895--1977) -- амер. изд.]. Собственная либеральная традиция вполне могла возникнуть в Германии. Эти возможности проявились в издании ежегодника Ordo [Ordo: Jahrbuch fur die Ordnung von Wirtschaft und Gesselschaft, ежегодник, выпускаемый с 1948 года; издателями были Эйкен и Бём. -- амер. изд.] и в деятельности кружка Ordo, хотя, конечно же, это был узкий либерализм. Но кружок Ordo так и не развернулся в широкое движение. Ему недоставало вдохновенного лидера, которым мог бы стать Эйкен. Дружба с Вальтером Эйкеном была дорога мне. В конце 1930-х годов, перед началом войны, когда я впервые приобрел автомобиль и ездил на нем из Лондона в Австрию, я регулярно останавливался во Фрайбурге, чтобы навестить Эйкена. Хотя у него не было времени для участия в наших попытках защитить либерализм, наши встречи возымели важные последствия. Моя книга Путь к рабству вскоре после выхода была переведена на немецкий г-жой Рёпке [F.A. Hayek, Der Weg zur Knechtschaft, trans. Eva Ropke (Erlenbach-Zurich: Eugen Rentscsh, 1945 -- амер. изд.]. Немецкое издание было опубликовано в Германии, но -- что я понял не сразу -- ввоз ее в Германию в течении трех лет был запрещен, так что она была доступна только в виде машинописных копий. Между оккупационными властями действовало соглашение не допускать распространения книг, враждебных к любой из них. Хотя эта книга была написана в период, когда русские были нашими союзниками и направлена не столько против коммунизма, сколько против фашизма, русские инстинктивно почувствовали, что книга направлена против них. Поэтому они настояли, чтобы оккупационные власти запретили ввоз книги в Германию. Поскольку уж мы заговорили об этом, позвольте мне рассказать историю до конца. Когда я в 1946 году попал наконец в Германию, а ввоз книги в страну был еще запрещен, случилась следующая трогательная история. Хотя запрет на ввоз действовал, и только несколько экземпляров были подпольно доставлены из Швейцарии, книга приобрела широкую известность и не только в виде краткого изложения в Reader's Digest [F.A. Hayek, "The Road to Serfdom", in The Reader's Digest, April 1945, pp. 1--20 -- амер. изд.], но и в виде полных копий. Мне удалось достать машинописную копию, которую я начал читать в вагоне. Неожиданно я обнаружил, что там есть куски мне незнакомые. Я мгновенно осознал, что моя книга стала жертвой тех же превратностей, что и многие средневековые тексты, когда копии изготовлялись с копии копий, и в результате чьи-то заметки на полях переносились в следующую копию, так что чей-то безымянный вклад стал частью текста, попавшего мне в руки. Впрочем, мы слишком удалились от основной темы. Я хотел рассказать о роли Вальтера Эйкена в организации международного движения, которое не стоит называть движением за свободу, но это движение в пользу понимания предпосылок свободы. Ведь распространенная иллюзия, что свобода может быть предоставлена сверху, представляет собой действительную проблему. Необходимо понимание, что должны быть созданы условия, которые бы позволяли людям творить собственную судьбу. После публикации книги Путь к рабству меня начали приглашать для чтения лекций. Путешествуя по Европе и по Соединенным Штатам, почти везде я встречал кого-нибудь, кто говорил о своем полном единодушии со мной и, одновременно, о своей полной изолированности, о том, что ему не с кем даже обсудить эти темы. У меня возникла идея свести вместе этих очень одиноких людей. И благодаря счастливой случайности я смог добыть денег чтобы осуществить этот план. История эта слишком поразительна, чтобы не рассказать о ней. Один швейцарский господин добыл денег, чтобы Рёпке мог издавать свой журнал. [Швейцарским господином был Альберт Хунольд (1899--1981) -- амер. изд.] Но как легко вообразить каждому, имеющему представление об этом человеке, он намеревался контролировать журнал. Рёпке не согласился на такие условия, и они разорвали отношения. Моей первой задачей было примирить Рёпке с этим очень талантливым сборщиком денег, и уговорить Рёпке отдать часть денег, собранных специально для его журнала, на организацию учредительного собрания либералов в Швейцарии. Он согласился на это, и в результате стало возможным организовать в 1947 году первую встречу общества Монт Пелерин на горе Пелерин близ Веве. В собрании приняли участие 37 человек из примерно 60 приглашенных мною. Здесь были все встреченные мною одинокие души, которым не с кем было обсудить свои проблемы. [Речь Хайека на открытии конференции перепечатывается в главе 12. В примечании к этой главе см. список участников. -- амер. изд.] Я предложил принять в число участников двух немцев. Одним из них был, конечно, Вальтер Эйкен. Вторым, которого я имел в виду, был историк Франц Шнабель. [Franz Schnabel (1887--1966), профессор истории в Мюнхенском университете, автор Deutsche Geschichte im neunzehnten Jahrhundert, 4 vols (Freiburg: Herder, 1929--1937) -- амер. изд.] Моей целью было -- и остается до сих пор, хотя достичь ее вполне и не удалось -- иметь в группе не только чистых экономистов, но также социальных философов, юристов и, особенно, историков. К сожалению, я не смог вытащить в Швейцарию Франца Шнабеля, но Эйкен приехал. Подобно большинству немцев своего поколения он страдал от незнания языков; впрочем, его английский был достаточно хорош, чтобы участвовать в дискуссиях. Он говорил только на немецком, и для меня было немалым удовольствием служить ему на этой конференции переводчиком и заслужить похвалу за то, что я смог выразить его идеи на английском намного лучше, чем они были сформулированы на немецком. Я рассказываю обо всем этом потому, что Эйкен имел громадный успех на этой конференции. И мне представляется, что успех Эйкена в 1947 году -- единственного немца, участвовавшего в международной научной конференции -- внесло небольшой вклад, если позволительно использовать это слово, в реабилитацию немецких ученых на международной сцене. До этого все, а в особенности мои американские друзья, спрашивали: "Ты действительно намерен пригласить и немцев?". Сегодня такой вопрос трудно представить себе. Я намеревался сделать это, и я был достаточно удачлив и нашел человека, который стал звездой конференции. Некоторым образом первая учредительная конференция общества Монт Пелерин, которое, мне кажется я имею право сказать об этом, было моей личной идеей, хотя при его организации мне многие помогали, а в первую очередь Рёпке и фон Мизес, конституировала возрождение либерального движения в Европе. [Хайек здесь намекает на спор с Рёпке и Хунольдом в начале 1960-х годов относительно истоков и направленности общества Монт Пелерин. Подробности этого эпизода пока не стали достоянием гласности. -- амер. изд.] Американцы оказали мне честь, когда сочли исходной датой публикацию моей книги Путь к рабству (1944), но я убежден, что действительно серьезное движение интеллектуалов за восстановление идеи личной свободы, особенно в сфере хозяйственной деятельности, началось с основания общества Монт Пелерин в 1947 году. Почти одновременно с основание общества Монт Пелерин -- может быть годом или двумя позднее -- произошла и вторая подвижка в этом же направлении. Молодой английский летчик, сумевший по возвращении с войны разбогатеть, пришел ко мне с вопросом, что он может сделать, чтобы пресечь зловещее расползание социализма. Мне пришлось потратить немало сил, чтобы убедить его, что массовая пропаганда бесполезна, и что нужно переубедить интеллектуалов. Для этого нам нужно развить легко понимаемое экономическое истолкование предпосылок свободы, для чего нужно создать организации, нацеленные на тот сегмент среднего класса, который я тогда называл -- отчасти со злостью, отчасти шутливо -- "торговцы подержанными идеями", и которые представляют собой чрезвычайно важную группу, поскольку именно от них зависит мышление масс. Я убедил этого человека по имени Энтони Фишер в том, что такие организации нужны, и результатом стало создание Института экономических дел в Лондоне. Первоначально он развивался очень медленно, но сегодня это не только чрезвычайно влиятельная организация, но он также является моделью для целого ряда схожих организаций по всему западному миру, откуда распространяются здравые идеи. [Institute of Economic Affairs был основан в 1955 году и продолжает публиковать книги, эссе и журнал Economic Affairs. Двое из числа бывших директоров института -- Артур Селдон и Лорд Харрис, кавалер Почетного креста (Lord Harris of High Cross) -- многолетние сотрудники Хайека. Список других "схожих организаций" см. во Введении к этой книге. -- амер. изд.] Много чего можно было бы рассказать о дальнейших событиях, но здесь я не буду останавливаться на этом. Мне бы хотелось вернуться к одному моменту, который был особенно важен для Германии. Германия с благодарностью отреагировала на денежную стабилизацию 1949 года. Я должен сказать, что Германии крайне повезло, что в нужное время и в нужном месте нашелся человек, очень одаренный природой. Я знал многих экономистов с гораздо большей теоретической умудренностью и проницательностью, но я никогда не встречал другого со столь же сильным инстинктивным чутьем на правильные решения, как Людвиг Эрхард. [Ludwig Erchard (1897--1977) был министром хозяйства в Западной Германии с 1949 по 1963 год, когда он наследовал Конраду Аденауэру как канцлер Федеральной Республики. Эйкен и Рёпке принадлежили к числу главных его советчиков. -- амер. изд.] Людвиг Эрхард, который также стал членом общества Монт Пелерин в самом начале, заслуживает гораздо большего признания за восстановление свободного общества в Германии, чем это обычно признается внутри страны или за ее пределами. После того, как двое моих Фрайбургских друзей из института Эйкена написали подробную историю событий 1949 года, я узнал множество интересных подробностей. И эта публикация подтвердила мои прежние интуитивные оценки. Следует признать, однако, что Эрхарду никогда не удалось бы достичь своего, если бы он был связан бюрократическими или демократическими ограничениями. Это был удачный момент, когда правильный человек на правильном месте был свободен сделать то, что он считал верным, хотя он никогда не сумел бы убедить кого-либо еще в том, что именно это и нужно делать. Он сам с ликованием рассказывал мне, как в то самое воскресенье, когда должен был быть опубликован знаменитый декрет об освобождении цен и введении новой немецкой марки, командующий американскими войсками в Германии генерал Клэй позвонил ему по телефону и сказал: "Профессор Эрхард, мои советники утверждают, что вы делаете грандиозную ошибку", -- на что, по его собственным словам, Эрхард ответил: "Мои говорят точно то же самое". Освобождение цен сопровождалось неимоверным успехом. В последовавшие годы в Германии осуществлялись более целенаправленные и сознательные усилия на поддержание свободно-рыночной экономики, чем в любой другой стране. Позвольте мне повторить здесь то, что я высказал четыре года назад к изумлению большинства слушателей и к удовлетворению посвященных, когда мне выпало удовольствие вручить приз Эрхарда профессору Шиллеру. [Karl Schiller (1911--?) до вхождения в Bundesrat (высшая палата Западно Германского законодательного собрания) в 1949--1953 гг. преподавал экономическую теорию в университетах Киля и Гамбурга. Позднее стал экономическим советником социал-демократической партии. -- амер. изд.] Насколько я знаю, Карл Шиллер это второй после Эрхарда человек, заслуживающий наивысшего за упрочение и поддержание рыночной экономики в Германии. Ведь даже социал-демократическая партия внесла свой вклад в поддержание рыночного хозяйства. Хотя я по-прежнему верю в перспективы восстановления рыночной экономики во всем мире, я уже не столь уверен в будущем развитии Германии. Некоторое время у меня было впечатление, что Германия может -- почти гротескным образом -- стать лучшим образцом классического либерализма для всего мира. Сейчас эта перспектива много туманней. В то время как по всему миру молодые люди заново открывают для себя либерализм -- прошу простить мне использование этого слова, столь обессмысленного в Соединенных Штатах: я имею в виду либерализм как его понимал Джефферсон -- и я восхищен направлением развития молодых людей в Англии, во Франции и в Италии, а моя вера в то, что Германия внесет свой вклад в это движение, падает. Насколько я могу судить, люди в Германии не так уж убеждены, что они всем обязаны возврату к свободно-рыночной экономике. Вперед опять выходят старые привязанности к анти-свободной торговле, к анти-конкуренции и анти-интернационализму. Я уже не вполне уверен в том, что либерализм в Германии достаточно укоренен. Чрезвычайно важно, в том числе и для всего мира, чтобы Германия сохранила свой либеральный курс. Я надеюсь, что вы будете держать это в уме. Никто не может уклониться от этой ноши. Прежде всего вы не должны предполагать, что во время кризиса допустим отход от принципов. Нынешняя депрессия ответит на вопрос, сохранит ли мир движение к либерализму. Каждый из вас может внести решающий вклад в положительный ответ. Приложение: Дань уважения Рёпке В течении более тридцати, а фактически почти сорока лет мы двигались почти параллельным курсом, сражались за те же идеалы и боролись за осуществление одних и тех же задач и решение одинаковых проблем, каждый в соответствии со своими возможностями и склонностями, и теперь мне нелегко очертить во всей полноте и богатстве фигуру моего соратника и сверстника. Когда друг и соратник находит ответ и правильную реакцию на проблемы, которые ты сам безуспешно пытался решить, ты бессознательно впитываешь то, что соответствует данной стадии твоего мышления! Как часто Вильгельм Рёпке находил яркое выражение тому, что для всех нас было еще смутной теорией, или когда мы еще не знали как из общего принципа выйти к верному решению возникшей проблемы! Более молодые когда-нибудь поймут, сколь многому они научились у Рёпке, насколько велико было его влияние на мышление нового поколения, и какой дар лежал в основе его интеллектуального лидерства. Для современника он олицетворяет прежде всего общую судьбу и общую задачу -- то развитие, в ходе которого принимало форму наше представление о мире, так что глядя назад невозможно сказать, что же именно внес каждый из нас в это развитие. Поколение, начавшее изучать экономику и общество в конце первой мировой войны, стремилось, прежде всего, к подлинному знанию экономики. Как и следует ожидать от людей, стремящихся к основательному знанию, для нас технические проблемы экономической теории были главной заботой, а продвижение науки вперед -- главной задачей. Тогда и на самом деле было жизненно важно получить признание своей способности к теоретическому мышлению, а еще важнее было участвовать в совершенствовании технических подмостков. В Германии в то время экономическая теория была практически заново открыта, и энтузиазм по отношению к вновь обретенной области знания может быть объяснением веры молодых ученых, что нет лучшего способа сделать вклад в излечение недугов человечества, чем дать людям лучшее понимание экономической теории. Это знание незаменимо при любом ответственном обсуждении глубинных проблем социальной организации. Имя Рёпке впервые привлекло мое внимание в Вене как имя одного из немногих молодых немецких экономистов, серьезно заинтересованных в теоретических вопросах. Когда вскоре после этого мы познакомились лично, основой для сближения стало, в первую очередь, его понимание абстрактных вопросов денежной теории, которой мы в Вене занимались. Но Рёпке очень рано осознал, может быть раньше всех других современников, что экономист, который является всего лишь экономистом, не может быть хорошим экономистом. Здесь уместно отметить влияние на всех нас человека предыдущего поколения, который был молодым профессором, когда мы стали студентами, и решающая работа которого была опубликована как раз когда мы завершили учебу. В опубликованном в 1922 году трактате Социализм, Людвиг фон Мизес продемонстрировал, как экономическая мысль может служить основой всеохватывающей социальной философии, и дать ответы на давящие проблемы времени. Независимо от того, насколько быстро мы восприняли его уроки, эта работа оказала решающее влияние на общее развитие нашего поколения, даже на тех из нас, кто обратился к общим вопросам гораздо позднее. Как мала была горстка людей, готовых в 1920-е годы обратить свою веру в свободу в принцип жизни; сколь мало было понимавших, что научная объективность совместима с беспредельной преданностью идеалу, и что, более того, все знания в социальных вопросах могут быть плодотворными только при мужественной верности собственным убеждениям! Страстная вовлеченность Рёпке в происходившее вокруг, сделала его ярким примером для других во времена опасности, и она же понудила его одним из первых взвалить на себя бремя изгнания из верности убеждениям. [Рёпке был профессором экономической теории в Марбургском университете, когда в 1933 году он был смещен с поста за оппозицию национал-социализму; в том же году Хайек покинул Вену и перебрался в Лондонскую школу экономической теории. Рёпке был сначала в университете Стамбула (1933--1936), а затем в Женеве, в Высшем институте международных исследований (1937--1966). Современники Мизеса и Хайека Фриц Махлуп, Готтфрид Хаберлер и Пауль Розештейн-Родан все покинули Австрию к 1935 году. -- амер. изд.] Какие бы потери не навлекли на себя те наши сверстники, которым выпало быть разбросанными по всему миру, они не обречены на беспочвенность. Если сейчас в западном мире опять существует нечто вроде идеала свободы -- либо если такой идеал формируется -- эти вынужденные скитания были одной из важнейших предпосылок его возрождения. Неуместно обсуждать достоинства современника, пребывающего в расцвете творческих сил, когда его достижения признает мир. Роль Рёпке в интеллектуальном развитии нашего времени можно будет оценить только потом. Но позвольте мне по крайней мере подчеркнуть особый дар, который в особенности восхищал нас, его коллег - может быть в силу его редкости в среде ученых: его отвагу, его нравственное мужество. Я имею в виду не столько его способность сознательно подвергнуть себя опасности, хотя Рёпке и от этого не уклонялся. Я имею в виду прежде всего мужественную готовность противостоять популярным предрассудкам своего времени, разделяемым благонамеренными, прогрессивными, патриотическими или идеалистическими личностями. Мало существует менее приятных задач, чем противостоять движениям, воодушевляемым волнами энтузиазма, чем предстать паникером, указывающим на опасности в то время, когда энтузиасты не видят ничего, кроме блестящих перспектив. Не исключено, что для независимо-мыслящего социального философа нет более ценного качества, чем моральное мужество, позволяющее в одиночестве сохранять верность убеждениям, подвергая себя не только нападкам, но также подозрениям и поношениям. Такого рода мужество Рёпке проявлял будучи еще молодым мужчиной, еще не упрочившим репутации и положения. Эту же отвагу он продолжает демонстрировать, когда не колеблясь разрушает иллюзии своих последователей и поклонников, когда он с той же свободой разрушает иллюзии 6-го десятилетия нашего века, с какой он это делал в 20-е годы. Может быть наивысшего уважения он заслуживает именно за это. Мало кто из ученых оказывается столь же удачливым, как Рёпке, в обретении влияния за пределами узкого круга коллег. Поскольку такое влияние слишком часто достигается ценой недостойного упрощения, следует подчеркнуть, что он никогда не избегал интеллектуальных сложностей. Его труды, даже когда они были рассчитаны на широкую аудиторию [например, его работа Jenseits von Angebot und Nachfrage (Erlenbach-Zurich: Eugen Rentch, 1958), translated as Humane Economy: The Social Framework of the Free Market (Chicago: Henry Regnery, 1960) -- амер. изд.], оставались интересными и для профессионалов. Тот факт, что подобно многим другим в нашем поколении он не всегда и не во всем был вполне "научным" (как это понималось в каждый данный момент), это другой вопрос. В социальных науках зачастую удается быть более реалистичным тому, кто не ограничивает себя количественными и измеряемыми явлениями. Кроме того, между "чистой" теорией и вопросами практической политики существует размытая область, в которой систематическое рассмотрение столь же полезно, как и в чистой теории. Мы не будет касаться вопроса о том, что "политическая экономия", как принято обозначать эту область, требует, быть может, даже большей одаренности, чем чистая теория. Одно определенно: Вильгельм Рёпке был необычайно одарен соответствующими особыми способностями, и благодаря этому он имел необычайный успех в утверждении идеала, к которому стоит стремиться. Приложение: Теория капиталообразования Репке В рецензируемой книжке, принадлежащей к известной серии, опубликована лекция, прочитанная Вильгельмом Рёпке в Natioanlokonomischen Gesellschaft (Экономическом обществе) Вены и принятая публикой с большим интересом. С обычными для него ясностью и простотой изложения автор дает отличный обзор важнейших для этой области (капиталообразования) вопросов, подчеркивая, что при всей своей важности эти вопросы прежде игнорировались. Во Введении он обосновывает вполне оправданную необходимость различать формы капиталообразования по источникам капитала в реальном или денежном хозяйстве, которые могут быть разделены на: сбережения, образование венчурного капитала ("самофинансирование"), и два источника "принудительного образования капитала" -- через меры фискальной политики и через денежную политику. Анализ различных источников капиталообразования приводит Рёпке к выводу, который сегодня следует принять близко к сердцу: сбережения в узком смысле слова по прежнему представляют собой не только главный, но также единственно бесспорный источник образования капитала. Мне представляется, что Рёпке излишне снисходителен к принудительному капиталообразованию средствами денежной политики, которое он, как мне представляется также неверно, считает эффективным только в тех случаях, когда создание кредитных денег ведет к росту цен, хотя очевидно, что каждое вливание новых кредитов ради увеличения производства временно повышает спрос на производительные блага относительно спроса на потребительские блага, а значит влечет за собой рост капитала. Затем Рёпке очень поучительным образом анализирует отдельные причины, воздействующие на величину сбережений, различая при этом между желанием сберегать и возможностью сберегать, что позволяет ему избежать нередкой путаницы. (Даваемая им диаграмма, иллюстрирующая взаимоотношения между этими двумя факторами, могла бы быть еще более ясной в случае введения третьего измерения.) Особенно удачным следует признать ясное объяснение взаимоотношений между общественной собственностью, доходом и разделением собственности, и накоплением сбережений -- приходится ограничиваться только перечислением, не пытаясь воспроизвести содержание. В последней главе Рёпке еще раз затрагивает многократно обсужденный вопрос -- могут ли сбережения быть чрезмерными. Можно полностью согласиться с тем, что он говорит здесь об образовании капитала методами денежной политики. Более сомнительно, однако, утверждение автора, что даже добровольное капиталообразование может привести к сврехкапитализации и, в конце концов, к кризису. Впрочем, помимо всяких теоретических соображений следует помнить, как признает и сам Рёпке, что сбережения могут быть чрезмерными в том смысле, что хозяйство в целом "обменивает более высокую предельную полезность в настоящем на более низкую в будущем". Поскольку межличностное сравнение полезностей в принципе невозможно, такое суждение в принципе может иметь смысл только на основе определенной цели экономической политики, и никогда -- вне связи с такой целью. Исследование богато идеями о важных современных проблемах, прежде всего таких как проблема международных займов, и о связях между образованием капитала и налогообложением, и в том числе и поэтому заслуживает того, чтобы с ним познакомились не только узкие профессионалы.
Приложение: Халлоуэлл об упадке либерализма как идеологии Не так много более интересных и поучительных тем, чем действительно хорошее исследование упадка либерализма в Германии, который начался прежде, чем либерализм сумел укорениться в практике, что было непосредственно связано с тем фактом, что в Германию либерализм пришел одновременно с национализмом и социализмом. Такого рода исследование было бы чрезвычайно важным, но за него не следовало бы браться без очень основательного знания германской истории и германских идей. Далеко не очевидно, что автор данного краткого исследования обладает многими требуемыми качествами -- которых, впрочем, и трудно ожидать от докторской диссертации. Он ограничивается, главным образом, правовыми аспектами проблемы, развитием и трансформацией концепции Rechtstaat, и в этом вопросе нет оснований с ним спорить; тема сама по себе достаточно обширна, чтобы по настоящему эрудированный автор, знания которого не ограничены этой узкой областью, мог написать очень ценную монографию. Но хотя наш автор видит некоторые проблемы, есть еще больше признаков того, что он не изучал первоисточников, а просто прочитал ряд книг таких второстепенных авторов как Е. Трельч, Г. Геллер и несколько статей в Encyclopedia of Social Sciences. Даже таких писателей как Фихте или Маззини он нередко цитирует по вторичным источникам, и поэтому неудивительно, что, например, он защищает Фихте, который вначале придерживался либеральных взглядов, от "несправедливого" отнесения к предтечам национал-социализма (читал ли автор хоть раз его Geschlossene Handelsstaat? [Johann Gottlieb Fichte, Der geschlossene Handelstaat: ein philosophischer Entwurf als Anhang zur Rechtslehre, und Probe einer kungftig zu liefernden Politik (Tubingen: J.G. Gotta, 1800) -- амер. изд.]) В результате мы получили всего лишь пересказ учебников, в котором, правда, зафиксированы некоторые важные тенденции, но при этом мы не узнаем ничего такого, чего не знали бы прежде. Как в исторической, так и в концептуальной части автор затрагивает важные проблемы, проявляя при этом хорошую интуицию и совершенную неадекватность средств, и так и не прояснив смысл используемых им терминов. Хорошей иллюстрацией служит рассмотрение двух центральных проблем исследования -- влияние позитивизма и результат формализации права. Вывод, что "упадок либерализма шел параллельно с обращением либеральных авторов к позитивизму" верен и важен, хотя и не оригинален. Но все рассуждение подрывается неопределенностью использования термина "позитивизм", который применяется здесь к очень разным и не всегда взаимосвязанным интеллектуальным позициям. Концепция "формального" права еще менее отчетлива; термин используется для описания двух явно различных, а временами даже взаимнопротиворечивых аспектов права; с одной стороны у нас есть правило, принятое в результате должной конституционной процедуры, а с другой - действительно общее правило, выработанное для применения к неизвестным людям в ситуациях, которые невозможно детально предвидеть, и в этом отношении отличное от любых законодательных мер, выработанных для достижения определенных целей. Едва ли можно сказать, что намеченная в Предисловии честолюбивая цель -- "выявить когда и как либерализм как идеология начал клониться к упадку" -- достигнута в этом исследовании. Быть может, оно способно привлечь внимание к неким ограниченным аспектам большой проблемы, которая, несомненно, заслуживает исследования, но по которой уже проведено множество неизвестных нашему автору детальных исследований, а предстоит сделать много больше этого, прежде чем станет возможной попытка всестороннего исследования, подобного этому, но с лучшими шансами на успех. [Позднее Хайек отнесся немного милосерднее к работе Халлоуэлла, которая стала классическим исследованием по современной истории мысли в Германии. "Халлоуэлл ясно показывает, как ведущие либеральные теоретики права в Германии в конце XIX века лишили себя малейшей возможности сопротивляться процессу подавления "материального" простым "формальным" Rechtstaat, и, одновременно, дискредитировали либерализм просто в силу принятия правового позитивизма, который рассматривает право как обдуманное творение законодателя, и проявляли интерес только к конституционности законодательных актов, но не к характеру принимаемых законов." Law, Legislation and Liberty, vol. 2: The Mirage of Social Justice (Chicago and London: University of Chicago Press, 1976), p. 167, n. 27. -- амер. изд.] Глава восемь. Историки и будущее Европы
Доклад на заседании Политического общества в Королевском колледже Кембриджского университета, 28 февраля 1944 года. Председательствовал сэр Джон Клепхем. Впервые опубликовано в Studies in Philosophy, Politics and Economics (London: Routledge & Kegan Paul; Chicago, University of Chicago Press ; Toronto: University of Toronto Press,1967), pp. 135--147. -- амер. изд. Сможем ли мы заново отстроить нечто вроде общей европейской цивилизации после этой войны, будет зависеть, главным образом, от того, что случится в первые послевоенные годы. Возможно, что события, которыми будет сопровождаться крушение Германии, породят такую разруху, что вся Центральная Европа на целые поколения, а может и навсегда выйдет из орбиты европейской цивилизации. Мало вероятно, что если все так и произойдет, то дело ограничится только Центральной Европой; а если варварство станет судьбой всей Европы, то мало вероятно, что эта страна убережется от последствий, даже если в будущем суждено возникнуть новой цивилизации. Будущее Англии связано с будущим Европы; и нравится нам это или нет, будущее Европы будет определено тем, что случится с Германией. Наши усилия должны быть направлены, по крайней мере, на то, чтобы вернуть Германию к ценностям, на которых была построена европейская цивилизация, и которые одни могут создать основу, от которой мы сможем двинуться к реализации направляющих нас идеалов. Прежде чем обсудить, что мы в состоянии сделать для этого, попытаемся набросать реалистическую картину той интеллектуальной и моральной ситуации, которую нам следует ожидать в пораженной Германии. По настоящему бесспорно лишь то, что даже после победы не в нашей власти будет заставить побежденных мыслить так, как нам хотелось бы; мы сможем лишь помогать желательному развитию, и любые бестактные попытки обращения в свою веру вполне смогут породить результаты, обратные желаемым. До сих пор приходится сталкиваться с двумя крайними взглядами, в равной степени наивными и вводящими в заблуждение: с одной стороны, что все немцы в равной степени развращены, и что только руководимое извне образование всего нового поколения способно их изменить; с другой стороны, что массы немцев, как только их освободят от нынешних господ, быстро и с готовностью примут политические и моральные взгляды, схожие с нашими собственными. Ситуация, конечно же, будет гораздо более сложной, чем предполагается этими воззрениями. Почти наверное, мы обнаружим моральную и интеллектуальную пустыню, обильную оазисами, в том числе и весьма изысканными, но почти полностью изолированными друг от друга. Господствующей чертой будет отсутствие какой-либо общей традиции -- если не считать оппозицию нацизму, а может быть и коммунизму, и каких-либо общих верований; мы найдем великое разочарование во всем, что достижимо с помощью политических действий. По крайней мере вначале, благая воля будет в избытке; но во всем будет проступать бессилие благих намерений, лишенных объединяющего элемента тех общих моральных и политических традиций, которые мы воспринимаем как нечто данное, но которые полный отрыв Германии от мира на дюжину лет разрушил полностью, с такой тщательностью, которую мало кто в этой стране может вообразить. С другой стороны, следует быть готовыми не только к встрече с необычайно высоким интеллектуальным уровнем в некоторых сохранившихся оазисах, но и к тому, что многие немцы узнали нечто, чего мы еще не понимаем, что некоторые наши концепции покажутся их отточенному опытом разуму чрезмерно наивными и simplisite. Нацистский режим стеснил дискуссии, но не остановил их вовсе; я увидел на примере нескольких немецких работ военного времени (и это подтвердил полученный мною недавно полный перечень опубликованных в Германии книг), что в военное время академический уровень обсуждения социальных и политических проблем был, по крайней мере, не ниже, чем в этой стране -- может быть потому, что лучшие немцы были исключены, или сами исключили себя, из непосредственного участия в военных усилиях. Именно на такого рода немцев, которых достаточно много -- если сравнить с числом независимо мыслящих людей в любой стране, мы должны надеяться, им мы должны оказывать всяческую поддержку. Самой трудной и деликатной задачей будет найти и помогать им, не дискредитируя их одновременно в глазах остальных. Чтобы эти люди смогли сделать свои взгляды преобладающими, им потребуется некая моральная и материальная помощь извне. Но почти в той же мере им потребуется защита от благонамеренных, но непродуманных попыток использовать их на пользу правительственной машины, которую установят победители. Притом что, скорее всего, они будут жаждать восстановления прежних связей и будут стараться о доброжелательности со стороны тех лиц в других странах, с которыми их соединяют общие идеалы, они вполне обоснованно будут противиться тому, чтобы в какой-либо форме стать инструментом правительственного аппарата победителей. Пока не будут созданы условия, чтобы могли встретиться как равные лица, разделяющие некоторые основные идеалы, мало надежд на восстановление такого рода контактов. Но еще в течение долгого времени такие возможности будут возникать только по инициативе с нашей стороны. И мне представляется определенным, что эти усилия смогут стать плодотворными только в том случае, если они будут исходить от частных лиц, а не от правительственных агентств. Международные контакты между отдельными лицами и группами могут быть восстановлены с положительным эффектом на многих направлениях. Быть может, легче и быстрее всего они восстановятся между левыми политическими группами. Но такие контакты явно не должны ограничиваться партийными группами, и если на первых порах будут лидировать левые политические группы, это окажется крайне неудачным со всех точек зрения. Если в Германии космополитическое мировоззрение, как и прежде, окажется прерогативой левых, это может стать причиной еще одного сдвига больших групп с центристскими установками к национализму. Еще более трудной, но некоторым образом еще более важной задачей является помощь в восстановлении контактов между теми группами, которые разделены существующими позициями по вопросам внутренней политики. Кроме того, существуют задачи, успешному решению которых помешают любые партийные группировки, хотя, конечно же, некоторый минимум согласия по поводу политических идеалов будет существенным для любого сотрудничества. Сегодня вечером я хотел бы более определенно поговорить о роли, которую во всем этом могут сыграть историки, а под историками я подразумеваю всех исследователей общества, существующего или прошлого. Нет сомнений, что в том, что называют "переучивание немецкого народа", историкам предстоит сыграть ключевую роль, так же как это было при создании идей, господствующих в Германии сегодня. Я знаю, что англичанам трудно представить, насколько велико и непосредственно влияние такого рода академических трудов в Германии, и насколько серьезно немцы относятся к своим профессорам -- почти так же серьезно, как профессора воспринимают самих себя. Едва ли можно преувеличить роль германских историков политики в создании той атмосферы поклонения идеям государственной мощи и экспансионизма, которые создали современную Германию. Именно этот "гарнизон выдающихся историков", как писал лорд Актон в 1886 году [John Emerich Edward Dalberg-Acton, первый барон Актон (1834--1902) -- амер. изд.], "подготовил господство Пруссии и самих себя, и теперь засел в Берлине как в крепости"; это он создал идеи, "с помощью которых грубая сила, сосредоточенная в регионе более плодородном, чем Лациум, была использована, чтобы поглотить и ужесточить расплывчатый, сантиментальный и странно-аполитичный характер прилежных немцев" ["German Schools of History" <1886> в Essays in the Study and Writing of History, vol. 2 of Selected Wrirings of Lord Acton, ed. J. Rufus Fears (Indianapolis, Ind.: Liberty Classics, 1985--1988), pp. 325--364, esp. p. 352 -- амер. изд.]. "Возможно, -- утверждал опять-таки лорд Актон, -- никогда не существовало значимой группы, которая бы менее гармонировала с нашим подходом к изучению истории, чем та, главными представителями которой являлись Сибел [Heinrich von Sybel (1817--1895), профессор Марбургского и Боннского университетов, позднее директор Прусских архивов -- амер. изд.], Дройзен [Johann Gustav Droysen (1808--1884), профессор университетов Киля, Берлина и Йены, автор Geschichte der preussischen Politik (Berlin: Veit, 1855--1886) -- амер. изд.] и Трейчке [Heinrich von Treitschke (1834--1896), профессор университетов Фрейбурга, Гейдельберга и Берлина -- амер. изд.], а Моммзен [Theodor Mommsen (1817--1903), профессор Берлинского университета с 1858 по 1903 год, специалист по истории Рима -- амер. изд.] и Гнейст [Heinrich Rudolf von Gneist (1816--1895) -- амер. изд.], Бернарди [Theodor von Bernhardi (1803--1887) -- амер. изд.] и Дункер [Theodor Julius Duncker (1811--1886) -- амер. изд.] составляли ее фланги", и которая столь много отдала утверждению "принципов, которые потом мир такой ценой отверг". И далеко не случайно, что именно Актон-историк, несмотря на его восхищение столь многим в Германии, пятьдесят лет назад предвидел, что ужасная сила, созданная очень одаренными умами главным образом в Берлине, являлась "величайшей опасностью, с которой еще предстоит встретиться англосаксонской расе". У меня здесь нет возможности детально проследить, как учение историков помогло порождению доктрин, господствующих сегодня в Германии; может быть, вы согласитесь со мной, что это влияние было велико. Даже самые омерзительные черты нацистской идеологии восходят к немецким историкам, которых Гитлер, возможно, никогда и не читал, но их идеи господствовали в атмосфере, в которой он воспитывался. Это особенно верно относительно всех расовых доктрин, которые хотя и были заимствованы немцами у французов, но развиты были главным образом в Германии. Если бы у меня было время, я бы мог показать, что, как и во всем остальном, такие ученые с мировой славой как Вернер Зомбарт поколение назад учили тому, что по своим намерениям и задачам идентично позднейшим нацистским доктринам. И чтобы не взваливать вину исключительно на историков, я могу добавить, что мои собственные коллеги-экономисты добровольно стали служителями крайних националистических притязаний, так что, например, когда сорок или пятьдесят лет назад адмирал Тирпиц обнаружил, что крупные промышленники довольно прохладно принимают его морскую политику, он смог опереться на поддержку экономистов, чтобы убедить капиталистов в преимуществах своих империалистических амбиций. [В своих Memoires Тирпиц сообщает, как один из офицеров департамента связи адмиралтейства был послан "по университетам, где все политэкономы, включая Брентано, проявили готовность оказать полную поддержку. Шмоллер, Вагнер, Серинг, Шумахер и многие другие заявили, что расходы на флот будут производительными вложениями", etc., etc. <Alfred von Tirpitz, My Memoires (New York: Dodd, Mead, 1919), p. 143 -- амер. изд.>] Однако мало сомнений, что влияние собственно историков было наиболее важным; и немало причин полагать, что в будущем влияние историков -- доброе или дурное -- будет еще сильнее, чем в прошлом. Вероятно, сам по себе полный разрыв большинства традиций породит обращение к истории в поисках основ будущего развития. Будет написано много исторических работ о том, с чего начались все беды. Эти вопросы привлекут страстное внимание публики и почти непременно станут предметом политических диспутов. С нашей точки зрения есть и дополнительная причина, почему настоятельно необходимо, чтобы немцам помогли заново изучить недавнюю историю и осознать некоторые факты, которые большинству пока что неизвестны. Не только массам немецкого народа, но почти каждому в этой стране придется начать с изучения воздействия нацистской пропаганды, преодолеть которую будет труднее всего. Нам очень важно помнить, что многие факты, которые решающим образом воздействовали на наше представление об ответственности немцев и о немецком характере, окажутся либо вовсе неизвестными большинству немцев, либо покажутся им малосущественными. Хотя первоначально многие немцы будут готовы признать, что у союзников есть причины не доверять им и настаивать на далеко идущих предосторожностях против еще одной германской агрессии, даже наиболее разумные немцы вскоре почувствуют отчуждение из-за мер, которые покажутся им чрезмерно ограничительными, если только не дать им осознать в полной мере, какие беды они навлекли на Европу. После предыдущей войны взаимные обвинения двух воюющих групп создали в Европе так и не преодоленный раскол. В результате восхитительной готовности забыть, выказанной, по крайней мере, англичанами, вскоре после последней войны почти все, что не отвечало немецким представлениям о войне, было отвергнуто как "картинки ужасов". Мы вполне можем опять обнаружить, что не все достигавшие нас во время войны сообщения о немцах были верными. Но это просто другая причина для тщательного повторного исследования всех фактов, для отделения надежных сведений от слухов. Если последовать естественной склонности считать бывшее прошедшим, и не собрать воедино всю грязь нацистского периода, последствия для перспектив реального взаимопонимания с немцами будут фатальными. Нельзя допустить, чтобы самые неприятные факты недавней истории Германии были забыты прежде, чем сами немцы не осознают истину. Вид оскорбленной невинности, который делали большинство немцев по поводу мер урегулирования после предыдущей войны, имел главной причиной действительное незнание того, в чем их считали тогда виновными почти все в странах-победительницах. Эти вещи придется обсудить, и они, конечно же, будут обсуждены плохо осведомленными политиками, и все это примет форму взаимных обвинений. Но если мы хотим заложить не новые причины будущих конфликтов, а нечто вроде общего понимания, мы не можем предоставить решение этих вопросов исключительно партийным дискуссиям и националистическим страстям; мы должны позаботиться, чтобы все это было рассмотрено в максимально бесстрастном духе людьми, которые бы прежде всего стремились к истине. Окажутся ли результатами этих дискуссий, особенно в Германии, новые политические мифы или нечто вроде истины, будет в большой степени зависеть от тех историков, которые обретут ухо народа. Лично я не могу сомневаться, что работа, которая определит будущее мнение Германии, появится не извне, но изнутри страны. Нередкая теперь идея, что победителям следует создать учебники, по которым будут учиться новые поколения немцев, представляется мне огорчительно глупой. Такая попытка обязательно породит результаты, обратные задуманным. Нет ни малейшего шанса, что какая бы то ни было вера может быть установлена сверху; что история, сочиненная по заказу новой власти (в отличие от написанной в интересах прежних правителей, как это часто бывало в истории Германии), а еще менее по заказу иностранных правительств (или написанная эмигрантами) -- будет авторитетна или влиятельна в Германии. Лучшее, на что можно надеяться, и чему мы извне можем способствовать, это что история, которой предстоит повлиять на изменение мнений в Германии, будет написана в результате искренних усилий найти правду, что она не будет подчинена интересам власти, нации, расы или класса. Прежде всего, история должна перестать быть инструментом национальной политики. Среди всего, что предстоит пересоздать в Германии, самым трудным будет восстановление веры в объективную истину, в возможность истории, написанной не для обслуживания каких-либо интересов. Я убежден, что именно здесь может найти выражение огромная ценность международного сотрудничества, если это будет сотрудничество между отдельными людьми. Оно продемонстрирует возможность согласия, независимого от национальной принадлежности. Оно окажется особенно действенным, если историки более удачливых стран дадут должный пример того, как, не дрогнув, критиковать собственные правительства. Стремление к признанию и похвале со стороны равных себе в других странах может быть является сильнейшим заслоном против коррумпирования историков национальными переживаниями, и чем теснее международные контакты, тем меньше опасность -- так же как изоляция, почти наверное, принесет обратный эффект. Я слишком хорошо помню, как после предыдущей войны изгнание всех немцев из определенных научных обществ, исключение их из некоторых международных научных конгрессов оказалось одним из сильнейших рычагов, приведших многих немецких ученых в лагерь национализма. Даже с позиций верховенства истины в историческом образовании будущих поколений немцев восстановление контактов с историками других стран будет ценным, и все, что мы сможем сделать для этого, окажется полезным. Но сама по себе приверженность истине не предотвратит извращения исторической правды. Нам следует различать между собственно историческими исследованиями и историографией, изложением истории для широких масс. [Хайек использует здесь термин "историография" не в общепринятом значении, как обозначение исследований методов и практики историков. Он различает здесь между собственно историческими исследованиями и популярными историческими работами. -- амер. изд.] Я подхожу сейчас к очень деликатному и спорному вопросу, и меня, возможно, обвинят в противоречии со многим из сказанного прежде. Я убежден, тем не менее, что никакая историческая концепция не может быть действенной, если она не содержит скрытых или явных суждений, и что действенность в очень большой степени зависит от используемых моральных критериев. Даже если бы академический историк попытался сохранить "чистоту" и строгую "научность" своего труда, для широкой публики будет написана другая история, изобилующая суждениями и оценками, а потому намного более влиятельная. Я убежден, что именно из-за крайней этической нейтральности тех немецких историков, которые ставили истину превыше всего, из-за их склонности все "объяснять", а значит и оправдывать -- "обстоятельствами времени", из-за страха назвать черное -- черным, а белое -- белым -- они были гораздо менее влиятельны, чем их более политизированные коллеги, и при этом даже их слабое влияние действовало в направлении не столь уж отличном. Научные историки в той же степени, что их политизированные коллеги, привили немцам убеждение, что политические действия неподсудны нравственным критериям, и даже уверили их, что цель оправдывает средства. Я не могу понять, каким образом наивысшая преданность истине может оказаться несовместимой с применением самых жестких моральных критериев в наших суждениях об исторических событиях; и мне представляется, что немцы больше всего нуждаются сейчас и нуждались прежде в сильной дозе того, что сейчас модно называть "история в стиле вигов", то есть в истории того рода, которого последним великим представителем был лорд Актон. Будущим историкам понадобится мужество, чтобы назвать Гитлера скверным человеком, либо все их усилия "объяснить" эту фигуру послужат только прославлению его преступлений. Вполне вероятно, что сотрудничество поверх границ может немало способствовать культивированию общих моральных стандартов, особенно когда мы имеем дело с такой страной, как Германия, где традиции были разрушены, а моральные стандарты в последние годы были так низки. Еще важнее, однако, что это сотрудничество будет возможным только с теми, кто готов присягнуть определенным нравственным ценностям, и кто привержен им в своей работе. Должны быть определенные общие ценности и помимо приверженности истине: следует договориться, по крайней мере, что обычные моральные правила благопристойности обязательны и в политике, а помимо этого необходимо и некое минимальное согласие о самых общих политических идеалах. В последнем случае, по видимому, не нужно ничего, кроме общей веры в ценность индивидуальной свободы и положительного отношения к демократии, но без какого-либо суеверного почитания всевозможных догматических норм, а особенно необходима равная оппозиция всем формам левого или правого тоталитаризма, свободная от миролюбивого согласия с практикой подавления как меньшинства, так и большинства. Но хотя и ясно, что никакое сотрудничество невозможно без согласия об общих ценностях, без своего рода согласованной программы, можно усомниться в том, что любая специально составленная программа послужит достижению цели. Сколь угодно искусный документ не сможет удовлетворительно выразить тот набор идеалов, который живет в моем уме, и мало шансов, что он сможет объединить достаточное число ученых. Я убежден, что гораздо действенней любой составленной по случаю программы будет некая великая фигура, в высокой степени воплощающая ценности и идеалы, которым должно служить такое сообщество ученых. Вокруг имени великого человека, как вокруг флага, смогут соединиться люди. Я убежден, что у нас есть великое имя, подходящее к задаче столь совершенно, как если бы этот человек был рожден специально для этого. Я думаю о лорде Актоне. Я считаю, что именно "общество Актона" может оказаться наилучшим способом помочь историкам этой страны и Германии, а может быть и историкам других стран, в осуществлении очерченных мною задач. В фигуре лорда Актона соединяются многие черты, делающие его почти уникально пригодным для роли такого символа. По своему образованию он был, конечно, наполовину немец, и он был более чем наполовину немцем в своей исторической подготовке, и по этой причине немцы рассматривают его почти как своего. В то же самое время он объединяет, как, быть может, ни одна другая фигура недавнего прошлого, великую английскую либеральную традицию с лучшим, что есть в либеральной традиции континента -- его "либерализм" всегда был истинным и всеохватывающим, был обращен, как это выразил лорд Актон, не к "защитникам второстепенных свобод", но к тем, для кого свобода человека была высшей ценностью, а "не средством достижения высших политических целей" [ср. "The History of Freedom in Antiquity" <1877> in Essays in the History of Liberty, vol. 1 of Selected Writings of Lord Acton, op. cit., pp. 5--28, esp. p. 22 -- амер. изд.]. Если нам порой представляется заблуждением та крайняя суровость лорда Актона, с которой он применял универсальные моральные критерии ко всем временам и условиям, то , скорее, к лучшему, если критерием отбора должно быть согласие с его общим подходом. Я не знаю другой фигуры, относительно которой мы сможем с равной уверенностью сказать, что если после войны мы обнаружим немецкого ученого, искренне согласного с его идеалами, это и будет тот немец, с которым ни одному англичанину не зазорно обменяться рукопожатием. Я полагаю, что он не только был более свободен от всего, что мы ненавидим в немцах, чем большинство чистых англичан, но он также раньше и яснее большинства других распознал опасные стороны развития Германии. Прежде, чем говорить дальше о политической философии Актона, позвольте отметить другие достоинства, воплощенные в его имени. Во-первых, Актон был католиком, и преданным католиком, но при этом в политических вопросах всегда сохранял полную независимость от Рима, и, не колеблясь, применял свои жесткие моральные критерии в суждениях об истории самого дорогого для него института -- римской католической церкви. Мне это кажется очень важным: не только потому, что ради приобщения к либерализму широких масс людей, не относящихся ни к "правым", ни к "левым", нам следует избегать свойственной континентальному либерализму враждебности к религии, каковая враждебность в большой степени ответственна за то, что множество достойных людей оказались в оппозиции к либерализму. Католики в Германии сыграли такую большую роль в реальном противостоянии Гитлеру, что никакая организация за пределами римской католической церкви, которая не обеспечит преданным католикам условий для сотрудничества, не сможет обрести влияние в тех широких группах людей, без которых успех просто невозможен. Из того немногого, что можно понять из немецкой литературы военного времени, кажется почти несомненным, что дух либерализма может быть обнаружен только среди католиков. Что касается именно историков, то почти заведомо истинно, что, по крайней мере, некоторые из католических историков сохранили большую свободу от яда национализма и преклонения перед мощью государства, чем большинство других немецких историков (я думаю в первую очередь о Франце Шнабеле и его Deutsche Geschichte im neunzehnten Jahrhundert). Другой причиной, по которой политическая философия лорда Актона может привлечь многих немцев в том состоянии ума, в котором они окажутся после войны, являются чрезвычайные признаки того, что сегодня в Германии в большой моде работы Якоба Буркхардта [Jakob Christoph Burkhardt (1818--1897), швейцарский историк -- амер. изд.]. Буркхардта отличал от Актона глубокий пессимизм, но объединяло, прежде всего, постоянное подчеркивание того, что власть есть сверхзло, а также оппозиция к централизму и симпатия к малому и многонациональному государству. Может быть, желательно соединить в программе общества имена Актона, Буркхардта, а также великого французского историка, Де Токвилля, у которого столь много общего с ними обоими [Alexis de Tocqueville (1805--1859), автор Democracy in America (London: Saunders & Otley, 1835) -- амер. изд.]. Эти три имени, может быть, даже лучше, чем одно имя Актона обозначают те фундаментальные политические идеалы, которые в состоянии вдохновить историков на такое изменение политического мышления Европы, в котором она нуждается более всего; и может быть, эти трое мужчин полнее, чем кто-либо еще, воплощают традицию великого политического философа, который, по словам Актона, "своими лучшими чертами являл лучшие черты Англии" -- Эдмунда Бёрка. Если бы мне пришлось обосновывать выбор лорда Актона как главного символа и знамени для такого рода попытки, мне бы пришлось изложить его исторические принципы и его политическую философию. Это достойная задача (и очень важно, что недавно один немецкий ученый сделал соответствующую попытку [может быть, имеется в виду Ulrich Noack, написавший в конце 1930-х -- начале 1940-х годов несколько исследований об Актоне -- амер. изд.]), но ее не осуществить за несколько минут. Я могу лишь зачитать вам из моей частной антологии Актона некоторые куски, кратко выражающие несколько характерных для него убеждений -- хотя, конечно, любая такая выборка создает одностороннее, а значит чрезмерно "политическое", в нежелательном смысле, впечатление. Представления Актона об истории можно изложить очень кратко. "Я представляю историю, -- писал он, -- как нечто, что является одинаковым для всех людей, и не допускает толкования со специальной или исключительной точки зрения". Это предполагает, естественно, не только единство истины, но также веру Актона в универсальную значимость нравственных стандартов. В связи с этим я напомню вам знаменитый отрывок из инаугуральной лекции, где он говорит, что Этот аргумент Актон более подробно развивает в письме к коллеге-историку, которое я хотел бы процитировать полностью, но могу себе позволить зачитать только одну--две фразы. Здесь он выступает против посылки, что великие исторические фигуры следует судить И он заключает: "На мой взгляд, именно в негибкой целостности морального кодекса заключается секрет авторитета, достоинства и полезности истории" [Ibid., p. 384 -- амер. изд.]. Выбранные мною цитаты, иллюстрирующие политическую философию Актона, должны бы быть еще менее систематическими и более отрывочными, поскольку выбрал я подходящее к нынешней ситуации и к уже сказанному мною. Я приведу без комментариев несколько цитат не столь заезженных, как вышеприведенные. Может быть, недавние события облегчат оценку значимости некоторых утверждений, вроде следующего размышления о том, что мы теперь называем "тоталитаризмом": Или возьмите следующее: Или: И наконец: Может быть, важнейший аргумент Актон развил в эссе о национальности, где он мужественно противопоставляет господствующей доктрине (выраженной Д.С. Миллем: "в общем случае для существования свободных учреждений необходимо, чтобы границы государства в основном совпадали с границами нации" [John Stuart Mill, Considerations on Representative Government <1861>, в Essays on Politics and Society, vol. 19 of the Collected Works of John Stuart Mill (Toronto: University of Toronto Press; London: Routledge & Kegan Paul, 1965), pp. 371--577, esp. p. 548 -- амер. изд.]) противоположное воззрение, согласно которому "сосуществование нескольких наций в одном государстве есть проверка и, одновременно, лучшая гарантия свободы. Это также один из главных инструментов цивилизации; а поскольку это так, то это естественный и благоприятный порядок, который свидетельствует о более высоком развитии, чем единство нации, ставшее идеалом современного либерализма" [Acton, "Nationality", op. cit., p. 425 -- амер. изд.]. Никто из знающих центральную Европу не станет отрицать ни того, что здесь нельзя рассчитывать на устойчивый мир и продвижение цивилизации до тех пор, пока эти идеи, наконец, не одержат верх, ни того, что наиболее практичным решением проблем этой части мира является федерализм того типа, который выдвигал Актон. Не говорите, что это утопические идеалы, для которых нет смысла трудиться. Именно потому, что эти идеалы могут быть реализованы только в более или менее отдаленном будущем, историк может руководствоваться ими, без риска вовлечься в партийные страсти. Будучи учителем, -- а историк не может не быть политическим учителем будущих поколений, он не должен подчиняться соображениям о быстро достижимом; руководствоваться нужно тем, что считают желаемым достойные люди, но что выглядит нереализуемым при существующем состоянии общественного мнения. Именно потому, что историк, желает он того или нет, формирует политические идеалы будущего, он сам должен руководствоваться высочайшими идеалами и сохранять независимость от текущих политических дискуссий. Чем выше его политические идеалы, и чем менее он связан с текущими политическими движениями, тем больше у него оснований надеяться, что в длительной перспективе он сделает осуществимым то, к чему мир сегодня еще не готов. Я даже подозреваю, что ориентация на дальние цели обеспечивает большее влияние на современников, чем это доступно модному сейчас типу "крутого реалиста". У меня почти нет сомнений, что заметная группа историков или, лучше сказать, исследователей общества, приверженных идеалам лорда Актона, может стать источником великого блага. Вы можете спросить, но что может здесь сделать любая формальная организация, вроде предлагаемого мною общества Актона? На это отвечу, что я не стал бы уж очень многого ожидать от деятельности самой организации, но рассчитывал бы на то, что она в ближайшем будущем послужит орудием восстановления многочисленных контактов между отдельными людьми, живущими в разных странах. Нет нужды еще раз подчеркивать, почему я считаю столь важным, чтобы возможные помощь или сотрудничество не концентрировались главным образом в правительственных или официальных каналах. Но отдельному человеку еще очень долгое время будет трудно добиться чего-либо в изоляции. Чисто технические трудности поиска по другую сторону границы того, с кем хотелось бы сотрудничать, будут еще более значительными. Во всем этом такого рода общество (а может быть это должен быть своего рода клуб с ограниченным доступом) будет серьезной помощью. Но хотя в качестве самой важной задачи я рассматриваю облегчение контактов между отдельными людьми, и хотя едва ли возможно детально обрисовать, чем же может быть коллективная деятельность общества, я убежден, что для нее есть далеко не ничтожные возможности, в первую очередь в сфере издательства. Много может быть сделано для воскрешения и популяризации работ тех немецких политических писателей, которые в прошлом представляли политическую философию более согласующуюся с нашими идеалами, чем та, которая господствовала в последние 70 лет. Может оказаться весьма благоприятным делом даже издание журнала, посвященного обсуждению проблем недавней истории, поскольку он мог бы направить дискуссии в направлении более перспективном, чем распространенные после предыдущей войны перебранки о "виновниках войны". Возможно что и в этой стране и в Германии журнал, посвященный не собственно результатам исторических исследований, но ориентированный на широкую публику, может оказаться и успешным и действенным, если его возглавят ответственные историки. Разумеется, нельзя и предположить, что общество как таковое сможет разрешить какие-либо противоречивые вопросы, но оно сможет выполнить очень полезную роль, если обеспечит форум для обсуждения и возможности для сотрудничества между историками разных стран. Но мне не следует пускаться в обсуждение подробностей. Моей задачей было не завоевать поддержку для некоего проекта, но представить его на вашу критику. Поскольку чем больше я размышляю о том, какую пользу могло бы принести такое общество, тем больше меня привлекает эта идея, нет смысла и дальше предаваться этому занятию, а надо испытать идею на других. Так что если вы согласитесь, что попытка в этом направлении имеет смысл, и если имя лорда Актона кажется вам подходящим символом для создания такой ассоциации, то вы, тем самым, сильно поможете мне решить, стоит ли и дальше работать с этой идеей, или ее нужно отбросить. [Хайек, конечно же, не бросил эту идею. Он подготовил конференцию в Швейцарии, на которой образовалось общество Монт Пелерин. См. его выступление на открытии конференции в главе 12.] Глава девять. Возрождение: О лорде Актоне (1834-1902)
Опубликовано как "The Actonian Revival", обзор работ Gertrude Himmelfarb, Lord Acton: A Study on Conscience and Politics (Chicago: University of Chicago Press, 1952), и G.E. Fasnacht, Acton's Political Philosophy: An Analysis (New York: Viking, 1953), в The Freeman, March 23, 1953, pp. 461--462. -- амер. изд. Инстинктивно понимая источник силы своих противников, покойный профессор Гарольд Ласки однажды написал, что "примером непостижимой власти ... является воззрение, что <де Токвиль> и лорд Актон были основными либералами 19 века" [Harold J. Lasky, "Alexis de Tocqueville and Democracy", в F.J.C. Hearnshaw, ed., The Social and Political Ideas of Some Representative Thinkers of the Victorian Age (London: George C. Harap, 1933), p. 100; Гарольд Ласки (1893--1950), профессор политических наук в Лондонской школе экономической теории с 1920 по 1950 год, председатель лейбористской партии Британии -- амер. изд.]. Теперь все большее число людей признают, что это, по крайней мере отчасти, верно. Представленная в них традиция Вигов, британский элемент в той невообразимой смеси, которой являлся европейский либерализм, постепенно отделяется от элементов французской интеллектуалистской демократии, которая скрывала многие самые ценные ее черты. По мере того, как тоталитарные свойства этой французской традиции делаются все более отчетливо видимыми [см. важное исследование J.L. Talmon, The origins of Totalitarian Democracy (London: Secker and Warburg, 1952)], оказывается все более важным обнаружить источники великой традиции, которую держал в уме лорд Актон, когда он написал: "Лучшие черты Берка являют лучшие черты Англии". Похоже, что спустя 100 с лишним лет наконец признана фундаментальная истина, которую в своем эссе об "Anglican and Galican Liberty" так блистательно выразил великий американец Френсис Лайебер [Francis Lieber, Civil Liberty and Self-Government <1849>, третье издание, ed. Theodore D. Woolsey (London: J.B. Lippincott, 1881), pp. 51--55 and 279--296 -- амер. ред.]. Лорд Актон приобрел такое значение сегодня как последний представитель традиции английских вигов и важнейшего из ее порождений -- американской революции. Он сам превосходно осознавал свою интеллектуальную родословную, и большая часть характернейших его высказываний легко возводится к источникам XVII и XVIII столетий (сравни, например, опасения Мильтона, что "длительное пребывание у власти может коррумпировать искреннейшего человека" [The Readie and Easie Way to Establish a Free Commonwealth <1660>, в The Complete Prose Works of John Milton, ed. Harold Kollmeir (New Haven, Conn.: Yale University Press, 1980), vol. 7, p. 434, line 20 -- амер. изд.]). Хотя сам Актон так никогда и не удосужился систематически изложить свои взгляды, собрание его исторических эссе и лекций является, пожалуй, самой полной экспозицией этого истинного либерализма, который мне по прежнему представляется лучшей совокупностью ценностей, рожденных западной цивилизацией, и столь резко отличающихся от того радикализма, который привел к социализму. Европейский континент был бы избавлен от несчетных страданий, если бы возобладала эта традиция, а не интеллектуальная версия либерализма, которая своей яростью и религиозной нетерпимостью безнадежно разделила Европу на два лагеря. Широкое возрождение интереса к писаниям лорда Актона -- и де Токвилля -- является долгожданным и обещающим знаком. В последние несколько лет помимо статей в научных журналах появились исследования епископа Матфея о молодости Актона, ценное эссе о нем профессора Герберта Баттерфилда и подготовленный мисс Химмельфарб сборник статей Актона, изданный в 1948 году под заглавием Свобода и власть [David Mathew, Acton, the Formative Years (London: Eyre & Spottiswoode, 1946); Herbert Butterfield, Lord Acton, Pamphlets of the English Historical Saaociation, no.69 (London: G. Philip,1948); Acton, Essays on Freedom and Power, selected and with introduction by Gertrude Himmelfarb (Boston: Beacon Press, 1948) -- амер. изд.]. Было объявлено издание полного собрания сочинений Актона [Но до сих пор не опубликовано. Может быть использовано издание J. Rufus Fears, ed., Selected Writings of Lord Acton, op. cit. -- амер. изд.], и одновременно с двумя рецензируемыми книгами появилось долгожданное издание его Эссе о церкви и государстве, подготовленное м-ром Дугласом Вудрафом [Douglas Woodruff, ed., Essays on Church and State (London: Hollis & Carter, 1952) -- амер. изд.]. Тем не менее две рецензируемых книги -- мисс Химмелфарб Lord Acton: A Study on Conscience and Politics, и Д.Е. Фаснахта Acton's Political Philosophy: An Analysis -- являются первыми образцами удовлетворительного изложения его идей в целом. Более того, они не конкурируют между собой, а дополняют друг друга. Мисс Химмельфарб подготовила очень толковый обзор эволюции идей лорда Актона, а м-р Фаснахт предпринял систематический, тему за темой, обзор этих идей. Оба автора основательно поработали над хранящимся в библиотеке Кембриджского университета собранием рукописей Актона и благодаря этому бросили новый свет на многие идеи Актона, которые получили лишь афористическое выражение в отдельных публикациях. Хотя я и сам долгое время был последователем и поклонником Актона, я должен с признательностью отметить, что только благодаря сочувственному описанию м-с Химмельфарб процесса медленного роста и постепенного изменения его взглядов я смог разрешить многие внешние противоречия в его высказываниях. Кроме того, на основании имеющихся документов она реконструирует наиболее критические эпизоды жизни Актона, его реакцию на провозглашение Советом Ватикана в 1870 году принципа непогрешимости папы, о которой до сих пор не было известно из-за сокрытия соответствующих писем этого периода [см. Lord Acton on Papal Power, составитель H.A. MacDougal (London: Sheed & Ward, 1973) -- амер. изд.]. Нет сомнения, что эта книга представляет собой наилучшее вводное чтение для изучающих идеи Актона, даже несмотря на то, что автор, по-видимому, несколько преувеличивает степень отхода Актона от характерной для Вигов позиции раннего Берка; может быть, именно поэтому ее привел в недоумение тот факт, что Актон, который всецело и постоянно одобрял американскую революцию, был весьма критичен к французской. Подготовленный вводной книгой м-с Химмельфарб, читатель с пользой для себя обратится к не столь легкой для чтения, но не менее тщательно и научно составленной книге м-ра Фаснахта, посвященной зрелому периоду мышления Актона. Здесь он встретит прямое, зачастую даже собственными словами Актона, изложение его мыслей. Хотя м-р Фаснахт хорошо представляет себе динамику развития идей Актона, он взялся продемонстрировать, что они представляют собой внутренне согласованную систему, и для этого он приводит максимальное количество материалов, так что появляется возможность устранить провалы, возникающие из-за фрагментарности высказываний самого Актона. Результатом стал восхитительный источник для исследования. Сюда вошли многие записи из сотен библиографических ящиков, в которых Актон накапливал материалы для своей "Истории свободы", "величайшей из ненаписанных книг". Здесь опубликованы материалы не только для множества докторских диссертаций, но и для нескольких хороших книг, которые, я надеюсь, будут со временем написаны. Вдумчивый читатель найдет здесь много возможностей поупражнять собственную проницательность на труднейших проблемах политической философии. Глава десять. Существует ли германская нация?
Рецензия на книгу Edmond Vermeil, Germany's Three Reichs (London: A. Dakers, 1944), опубликована в Time amd Tide, March 24, 1945, pp. 249--250. Хайек отмечает, что "при цитировании я везде опускал курсив, изобилие которого является единственным серьезным недостатком этой во всех остальных отношениях замечательной работы". -- амер. изд. Обычному человеку очень трудно поверить, что все, что он слышал о немцах, может быть правдой, и это почти невозможно для тех, кто непосредственно знаком с определенными сторонами жизни Германии. Тем, кто имеет достоверное представление о преступлениях, совершенных десятками тысяч немцев во время <Второй мировой> войны, трудно поверить, что в этом не проявилась общая природа немецкого народа, и они нередко пытаются забыть все иное, что они знают о Германии. С другой стороны, те, кто когда-либо близко соприкасался с лучшими свойствами немецкой жизни, вопреки всей очевидности пытаются уверить себя, что все, что мы слышим сейчас, есть плод жуткого преувеличения и деяния очень немногих. Все попытки опустить какие-либо факты ради стройности понимания пагубны для понимания проблемы Германии. Любое истинное изображение этого народа должно начинаться с осознания того, что оно включает и крайние противоположности. Громадным достоинством нового обзора немецкой истории, предпринятого профессором Вермейлем, является отсутствие искажений, создаваемых стремлением к фальшивой последовательности. Его книга, представляющая собой последний и наиболее зрелый плод великой сорбонской школы германистики, замечательна во многих отношениях. Она замечательна своим духом, всеобъемлюща по своему интересу, в ней проявлена почти невероятная осведомленность о мельчайших событиях немецкой истории и литературы, и она изумительна способностью проявлять симпатию к довольно-таки странным явлениям. В очень сжатом виде здесь рассмотрен огромный материал, а изобилие кратких напоминаний о мало известных фигурах и событиях есть высокий вклад в образование французского читателя, для которого книга и была написана. Такого рода путеводитель по лесной чаще, который то и дело останавливает нас, чтобы при быстром передвижении мы все-таки могли заметить характерные детали, не может быть легким чтением. Возникающая картина напоминает порой части сложной мозаики, слишком большой, чтобы всю ее можно было охватить взглядом. При всех видимых недостатках, это, может быть, самое подлинное изображение того, что, возможно, не является подлинной целостностью. О чисто исторической части книги нечего сказать за исключением того, что здесь есть все основные ингредиенты современной Германии: от "великолепного, но короткого расцвета городов" в XIV и XV веках до принудительного развития хозяйства при Бисмарке, который на место не существовавшей буржуазии поставил класс nouveaux riches, "отчаянно пытавшихся обрести отсутствовавшие традиции"; интеллектуальное развитие от великой эпохи Лейбница и Баха, или Гете и Бетховена до поздних работ Ницше и Х.С. Чемберлена [Houston Stewart Chamberlain (1855--1297), автор Die Grundlagen des neunzehnten Jahrhunderts (Munich: F. Bruckmann, 1899), переведено на английский как Foundations of the Nineteenth Century (London and New York: John Lane, 1910) -- амер. изд.]; и религиозное развитие от лютеранства до религиозного безразличия, так что объектом обманутого и разочарованного религиозного инстинкта стали "наука, искусство, литература или, наконец, народ, понятый как имперская общность". Даже в тех случаях, когда высказывания ставят в тупик, как, например, замечание о послушном большинстве, на которое Бисмарк рассчитывал, но которого он никогда не имел, или о Гитлере, как о "человеке компромисса, который в этом отношении, быть может, явился преемником Бисмарка", -- по некотором размышлении они оказываются одновременно и верными и поучительными. История Германии, однако, представляет собой только рамку, которая нужна профессору Вермейлю для достижения его главной цели -- "объяснить принципиальную агрессивность" третьего Рейха. Он не облегчает свою задачу, и он определенно не слеп к возвышенным и привлекательным чертам истории Германии. Он даже подчеркивает, что "всегда существовала, и за фасадом гитлеровской империи продолжает существовать гуманистическая Германия", и что "большинство немцев ненавидят превозносимую меньшинством войну, хотя и принимают ее и участвуют в ней". Но все это есть лишь часть аргумента, объясняющего, почему "немцы в качестве организованной нации делаются невыносимыми". Некоторые отвергнут книгу как раз из-за той строгой справедливости, с которой профессор Вермейль признает и даже подчеркивает все хорошие качества немцев. Но для меня подлинная картина того, как смесь с таким изобилием хороших элементов произвела нацистский ужас, является и более поучительной и более страшной, чем если бы все было нарисовано только черной краской. Заключительная часть книги, под названием "Психологический очерк и будущие перспективы", с описанием характерных различий между германскими племенами и весьма глубоким сравнением Германии и России, представляет собой маленький шедевр, который следовало бы прочесть даже тем, кому не хватит времени на всю книгу. Но самые глубокие размышления появляются в тексте по мере постепенного продвижения к выводам. Одним из самых плодотворных является короткое рассуждение, в котором профессор Вермейль ставит на место обычного для немцев противопоставления между "цивилизацией" и "культурой" истинную оппозицию цивилизации и политики. Мне бы хотелось процитировать множество других, столь же кратких и значительных высказываний, но придется ограничиться лишь одним. Мне кажется, что я верно толкую профессора Вермейля, когда выделяю в качестве главного вывода книги то довольно рано появляющееся заключение, что "Германия никогда не могла быть, не была, а в силу обстоятельств заведомо никогда не будет подлинно национальным государством". Может быть мне лучше проиллюстрировать значение этого вывода указанием на факт, пониманием которым я косвенно обязан профессору Вермейлю, сделавшему для меня наконец ясным то, что я прежде лишь смутно сознавал. Речь идет о фундаментальном различии между национальными чувствами немцев и большинства других народов, по крайней мере, всех более старых народов. Если англичанин, француз или американец по какой либо причине захочет быть в большей степени англичанином, французом или американцем, он посмотрит на близких и постарается быть похожим на них. С немцем все иначе: он строит теорию того, чем должен быть немец, а затем пытается подняться (или опуститься) до своего идеала -- сколь бы этот идеал ни был отличен от близких ему людей. Это звучит абсурдно, но вопрос ведь стоит так: а что еще он может сделать? Все было бы просто, если бы он попытался быть баварцем, швабом или пруссаком. Но что представляют или представляли собой характерные черты, общие для большинства немцев? Бесспорно, за последние 70 лет многие качества, которые принято было считать специально прусскими, стали довольно распространенными по всей Германии. Но это не сделало их популярными или желательными даже в Германии, и если они и распространились, то только лишь в силу отчаянного стремления к выработке общего национального характера, которое привело даже тех немцев, которые не принимали ничего в программе Гитлера, к признанию, что есть "кое-что хорошее" в нацистском движении. Именно это отсутствие общих свойств объясняет, почему почти нельзя найти такой добродетели, которую какой-нибудь немец не объявил бы чертой национального характера, и едва ли есть такой грех, который бы они не посчитали своим собственным, если только от этого у них появляется что-то общее. Это страстное стремление стать народом представляется единственной общей чертой современных немцев. Ужасно думать, что, может быть, действительно Гитлер впервые в истории создал единый немецкий народ. Но не следует опасаться, что этого результата уже не изменить, и что восторг перед новым объединителем будет вечной опасностью. Конечно, новый длительный раскол Германии почти наверное поведет к новой вспышке страсти к объединению. Но ведь возможны и лучшие методы предотвращения того, чтобы объединенная Германия не стала вновь невыносимой. Если любое центральное правительство, которое будет в Германии после поражения, на долгое время останется под контролем союзников, и развитие глубокой автономии ее земель сделается для них единственным путем к независимости, и если для этих земель перспектива принятия в западную семью народов будет зависеть от успехов в создании устойчивых представительских институтов, тогда вполне реальна надежда, что без каких-либо формальных запретов на воссоединение они в конце концов удовлетворятся слабыми федеральными узами. Но это будет в конце концов зависеть от схемы организации, которую предложит Западная Европа, то есть от того, в какой степени европейцы сумеют за это время привести в порядок свой общий дом. Глава одиннадцать. План для Германии
Опубликовано с подзаголовком "Децентрализация создает основу для независимости", The Saturday Review of Literature, June 23, 1945, pp. 7--9, 39--40 -- амер. изд. Ни буква закона, ни ложный гуманизм не должны помешать полному возмездию по отношению к виновным немцам. Тысячи, может быть десятки тысяч заслуживают смерти; и никогда в истории поиск виновных не был столь легким. Положение в нацистской иерархии почти заведомо свидетельствует об уровне виновности. Союзникам следует лишь решить, сколь многих они готовы казнить. Если они начнут с главарей нацизма, то почти наверняка они смогут хладнокровно расстрелять гораздо меньше людей, чем следовало бы. Но с точки зрения будущего Германии, да и всего мира, опасность в том, что мы можем дрогнуть перед этой задачей, и, неудовлетворенные местью, мы позволим желанию возмездия влиять на нашу долгосрочную политику, тогда как значение будет иметь только ее эффективность. Немцы ведь так и останутся многочисленным народом, живущим в сердце Европы; и если мы не сможем завоевать их для западной цивилизации, война в длительной перспективе окажется проигранной. Если Германия останется тоталитарной, за ней последует весь европейский континент. Долгосрочная политика возвращения немцев в лоно Западной цивилизации имеет три основных аспекта: политический, экономический и образовательный, или психологический. Последний является, видимо, самым важным. И если я все-таки начинаю с обсуждения желательного политического и экономического устройства, то лишь потому, что убежден, что к проблеме переобучения нужно подходить только косвенно. Но прежде чем приступить к этому, необходимо явным образом отклонить некоторые бытующие заблуждения, в силу которых многие популярные дискуссии тяготеют к крайним, равно неверным решениям. Так же как неверно, что испорченность немецкого ума затрагивает только нацистское меньшинство, или что она есть порождение развития, имевшего место после предыдущей войны, ошибочно и то, что немцы всегда были такими. Существующее состояние умов было создано длительным и постепенным процессом, который для большинства немцев начался 75 лет назад с того, что Бисмарк создал империю. Было бы трудно отрицать, что сотню лет назад большая часть Германии все еще была составной частью западной цивилизации, как правило, неотличимой от других. Но мы должны видеть и тот факт, что сейчас большинство немцев окажутся в той или иной степени зараженными нацистскими идеалами, в том числе большая часть тех, кто уверен, что они-то сделали все, чтобы избежать воздействия нацистской пропаганды. Трудно сомневаться, что в Германии мы почти везде будем находить моральную и интеллектуальную пустыню. В ней обнаружатся изолированные оазисы, малые группы прямых и отважных людей, которые разделяют в основном наши мнения, и при этом их убежденность подверглась таким испытаниям, которых никто из нас не знал. Но эти немногие мужчины и женщины окажутся почти полностью изолированными друг от друга. Для остальной части народа проблемой будут, скорее всего, не какие-либо определенные убеждения, но отсутствие каких-либо убеждений, глубокий скептицизм и цинизм по отношению к любым политическим идеалам, и потрясающее невежество относительно того, что же действительно произошло, и это-то и будет главной проблемой. В начале, по крайней мере, будут в изобилии добрая воля и готовность начать все заново. Заметнее всего окажется бессилие благих намерений, лишенных того объединяющего элемента общих моральных и политических традиций, которые мы воспринимаем как данность, но которые в последние 12 лет были в Германии разрушены так, как трудно себе представить. Это трудное, но не безнадежное положение. Оно было бы безнадежным, если бы в Германии не было ни мужчин, ни женщин, по прежнему приверженных тем взглядам, которым мы желаем победы. Но если в последние два года не все они были убиты, есть все основания полагать, что мы найдем в Германии таких мужчин и таких женщин, и будет их, конечно, немного, но ненамного меньше, чем бывает независимо мыслящих людей в любом народе. На них должна покоиться наша надежда, и для них мы должны создать возможности и условия для возвращения их народа назад в лоно общей европейской цивилизации. Политическая проблема заключается главным образом в том, чтобы отвратить честолюбие немцев от идеала централизованного германского рейха, от идеала нации, объединенной для общего действия -- ведь уже до 1914 года немцы были объединены как ни один другой цивилизованный народ. Кажется, нет сомнений, что мы должны предотвратить повторное возникновение такого высоко централизованного германского рейха, поскольку централизованная и сильно интегрированная Германия всегда будет опасностью для мира. Но здесь мы сталкиваемся с серьезной дилеммой. В длительной перспективе программа непосредственного расчленения Германии и запрета на ее объединение почти непременно обречена на провал. Это был бы надежнейший способ вновь возбудить самый свирепый национализм и превратить воссоединение и централизацию Германии в главную цель всех немцев. Некоторое время мы сможем отражать этот натиск. Но, в конечном счете, обречены на провал любые меры, не опирающиеся на согласие немцев; нам следует подчинить все решения одному основному правилу -- любое успешное установление должно сохраниться и тогда, когда мы не сможем больше поддерживать его силой. Представляется, что эта трудность может быть решена только одним способом: заявить немцам, что любое центральное правительство, которое у них установится, в течение неопределенного времени будет находиться под контролем союзников; что развивая институты представительной демократии в землях, составляющих рейх, они смогут постепенно освободиться от этого контроля; что в ближайшем будущем это останется единственным путем к независимости; и что только от них зависит, когда они смогут этого достичь. Эти отдельные германские государства должны, конечно, включить как те, которые уже давно поглощены Пруссией, так и те, которые сохраняли некоторую автономию до 1933 года. Мало того, что нет никаких возражений против расчленения Пруссии и возрождения таких государств как Ганновер, Вестфалия или Рейнланд, но это расчленение является существенным залогом успеха любого плана. Не следует бояться, что это породит националистическую реакцию того же рода, что и при непосредственном расчленении самого Рейха. Большая часть граждан этих государств будет приветствовать дезинтеграцию, и традиции независимости там далеко не мертвы. Сроки обретения независимости от прямого контроля со стороны союзников будут, скорее всего, очень различны для разных государств Германии. Расположенные на западе и юго-западе государства вроде Бадена и Вюртемберга, а также старые ганзейские города вроде Гамбурга и Бремена еще хранят достаточный запас демократических традиций и достигнут успеха, скорее всего, в несколько лет. Другим понадобится много больше времени, а некоторым, вроде старой Пруссии, у которой практически нет таких традиций, потребуется очень долгий срок. Сама постепенность процесса, разрыв между сроками обретения независимости различными государствами, будет очень важна. Этот процесс эмансипации должен будет двигаться к такому состоянию дел, при котором контроль союзников все больше будет сводиться к роли правительства федерации или даже конфедерации. Важность этого постепенного процесса передачи власти отдельным государствам в том, что в противном случае контроль со стороны союзников просто поможет подготовить другую крайне централизованную систему управления, которая в конечном итоге будет передана немцам. Такого рода контролируемому союзниками центральному правительству не долго придется полагаться на большую оккупационную армию. Все, что ему понадобится, -- правда, понадобится до тех пор, пока оно будет существовать -- это сравнительно небольшие и эффективные ударные силы, для обеспечения покорности не подчиняющихся государств. Нет нужды объявлять что-либо вроде запрета на окончательное объединение германских государств. Тот факт, что они будут созревать для освобождения от контроля союзников в разные сроки, и что большинству из них придется создавать новый порядок самим по себе, когда немалая часть остальных немецких территорий все еще будет под контролем союзников, сам по себе сработает в правильном направлении. Можно надеяться, что к тому времени, когда первое из независимых государств созреет для эмансипации, ему уже не нужно будет превращаться в совершенно независимое государство. Вполне удовлетворительным решением было бы создание к тому времени некой федерации европейских государств, которая была бы готова принимать в свой состав эти государства. Тогда снятие контроля со стороны союзников означало бы просто переход из квази федерации, в которой администрация союзников надзирала за осуществлением "федеральной" власти, в федерацию с негерманскими государствами, в которой равными членами стали бы и германские государства. Таким образом, западные германские государства могли бы постепенно перейти в федерацию, состоящую, скажем, из Бельгии, Голландии и скандинавских стран. Некоторым другим германским государствам можно было бы для начала позволить образовать схожие отношения с Чехословакией, Австрией и, быть может, Швейцарией. Со временем, по мере достижения соответствующего статуса все большим числом германских государств, для сохранения баланса понадобится гораздо более объемлющая европейская федерация с участием Франции и Италии. Но даже если бы эти надежды оказались утопическими, есть хорошие причины ожидать, что после периода раздельного существования отдельные германские государства будут далеки от стремления еще раз растворить свои индивидуальности в высоко централизованном Рейхе. На это можно рассчитывать уже при том условии, что политика союзников, особенно их экономическая политика в переходный период, преуспеет в как можно более тесном соединении отдельных государств с их негерманскими соседями. Это поднимает крайне важную проблему экономической политики и экономического контроля. Похоже, что и здесь существует только один вид эффективного и осуществимого в длительной перспективе контроля: наложить на всю Германию режим свободной торговли. Это существенная часть всего плана, без которого он не сработает; и она решает многие проблемы, которые в противном случае оказываются неразрешимыми. Когда я уподобил власть подчиненного союзникам центрального правительства федеральному правительству, я предполагал, естественно, что оно будет контролировать и торговую политику. Оставить в руках отдельных государств возможность устанавливать условия внешней торговли означало бы предоставление им слишком большой власти над своими системами хозяйства. С другой стороны, сохранить общую тарифную систему для всей немецкой экономики означало бы воссоздание заново централизованной и самодостаточной системы, то есть как раз того, что мы должны предотвратить. Мы хотели бы достичь того, чтобы Германия специализировалась в тех областях, где она сможет внести наибольший вклад в процветание всего мира, и при этом ее хозяйство должно таким образом переплестись с хозяйственными системами других стран, чтобы ее процветание начало непосредственно зависеть от непрерывного обмена товарами с внешним миром. Именно это должен обеспечить режим свободной торговли -- и это должно быть обеспечено с помощью единственной системы контроля, которую невозможно обойти. Таким образом, Германия получит возможность нового процветания, но без того, чтобы опять стать опасной. Ей придется пойти на зависимость от импорта продуктов питания, за которые придется расплачиваться экспортом продуктов обрабатывающей промышленности. Даже если в отдельных отраслях обрабатывающей промышленности германское правительство сможет с помощью тайных субсидий подрывать воздействие режима свободной торговли, оно не сможет осуществлять это для всех важнейших пищевых и сырьевых материалов, которые в условиях свободной торговли производить внутри страны не удастся. А единственная сфера контроля, где невозможно действовать тайно, это контроль импорта -- осуществляется ли он с помощью тарифов или других ограничений, поскольку страны, экспорт которых будет подорван, в силу необходимости первыми это заметят. Хотя создание условий, поощряющих развитие Германии в желательном направлении, крайне важно, это решит лишь часть проблем. Существует также реальная задача переобучения, задача чрезвычайно трудная и деликатная, и именно в этой сфере большинство существующих сейчас проектов способны породить результаты противоположные желаемым. Представление, что можно заставить немцев мыслить так, как этого хотелось бы союзникам, и что этого можно достичь поставляя подходящие учебники для обучения будущих поколений немцев, и заменив новым официальным символом веры прежний -- представляет собой не только тоталитарную иллюзию: это ребячески глупая идея, способная лишь дискредитировать то мировоззрение, которые мы хотели бы распространить. Нет, чтобы достичь устойчивого изменения господствующих в Германии нравственных и политических доктрин, необходим идущий изнутри постепенный процесс, которым должны руководить те немцы, которые поняли природу поразившей их страну порчи. Даже если таких людей окажется много меньше, чем я предполагаю, в них наша единственная надежда. Нам следует стремиться не к распространению новых учений, но к возрождению веры в то, что истина и объективные моральные критерии возможны и необходимы не только в частной жизни, но и в политике. Нужно возродить готовность принимать и исследовать новые идеи, а этого не достичь, вбивая людям в глотку готовые наборы принципов. Этот процесс, как и всегда бывает с распространением идеалов, должен быть постепенным, нисходящим по интеллектуальной лестнице от людей, научившихся мыслить критически, к тем, кто просто принимает устное или печатное слово. Проблема будет в том, чтобы найти мужчин и женщин Германии, способных начать этот процесс, и помочь им, стараясь при этом не дискредитировать их в глазах собственного народа, что неизбежно случится, если они окажутся орудиями иностранных правительств. Но прежде, чем рассматривать возможные здесь практические меры, нужно определить главные цели всех этих усилий. Необходимо усвоить уроки того, как постепенно моральные и политические стандарты Германии отошли от общей западной традиции, каким образом были сформированы представления и идеалы современной Германии. Процесс, который за последние 70 лет отдалил политические и общественные нравы Германии от того, что мы считаем нормой цивилизованной жизни, было запущен в ходе борьбы за объединение Германии. Достижения Бисмарка настолько ослепили даже западных историков, не способных увидеть его ответственность за начало движения, окончившегося нацизмом, что стоит припомнить ряд характерных событий того периода, тем более, что нам прежде всего нужно установить -- в какой степени достижения Бисмарка следует считать незыблемыми, либо -- сколь далеко нужно вернуться вспять. Последняя и лучшая из опубликованных биографий Бисмарка ясно показывает, в какой степени его крайняя неразборчивость в средствах повлияла на нравственные критерии Германии. [Erich Eyck, Bismarck, 3 vols (Erlenbach-Zurich: Eugen Rentsch, 1941--1944). <Сокращенное английское издание Bismarck and the German Empire (London: Allen & Unwin, 1950). Хайек отрецензировал немецкое издание в статье "The Historian's Responsibility" для журнала Time and Tide, January 13, 1945, pp. 27--28, откуда и заимствовано нижеследующее рассуждение о Бисмарке. Не вошедшие в текст части рецензии даны в виде примечаний к этой главе. -- амер. изд.>]Особенно поучительна история 1865--1871 гг., когда Бисмарк достиг наивысших успехов и обратил своих самых суровых критиков в восторженнейших поклонников. До 1865 года большинство просвещенных людей как в Германии, так и в других странах видели в нем нечто вроде беспринципного авантюриста. Успехи в деле объединения Германии полностью изменили общественное мнение. Позднее, когда в нем начали видеть главную опору мира в Европе, все -- не только самые откровенные критики в Германии, но и иностранные наблюдатели -- забыли о подлости его ранней политики настолько, что даже сейчас такая характеристика его политики может показаться преувеличением. Пока еще успех не стал оправданием его методов, многие немцы, ставшие позднее его самыми преданными поклонниками, пользовались не менее сильными выражениями. Это было, когда парламент Пруссии вел с Бисмарком одну из ожесточеннейших в немецкой истории схваток по поводу законодательства, -- и Бисмарк обыграл закон с помощью армии, которая разгромила Австрию и Францию. Если тогда лишь подозревали, что его политика совершенно двулична, теперь в этом не может быть сомнений. Читая перехваченный отчет одного из одураченных им иностранных послов, в котором последний сообщал об официальных заверениях, полученных им только что от самого Бисмарка, этот человек был способен написать на полях: "Он в это действительно поверил!", -- этот мастер подкупа, на многие десятилетия вперед развративший германскую прессу с помощью тайных фондов, заслуживает все, что о нем говорилось. Сейчас практически забыто, что Бисмарк чуть ли не превзошел нацистов, когда он пригрозил расстрелом невинных заложников в Богемии. Забыт дикий инцидент с демократическим Франкфуртом, когда он, угрожая бомбардировкой, осадой и грабежом принудил к уплате грандиозной контрибуции немецкий город, никогда не поднимавший оружия. И только недавно была вполне понята история того, как он спровоцировал конфликт с Францией -- только ради того, чтобы заставить южную Германию забыть о своем отвращении к Прусской военной диктатуре. Поначалу поступки Бисмарка вызвали в Германии широко распространенное искреннее отвращение, которое открыто высказывалось даже в среде прусских консерваторов. Историк Зибель, позднее ставший одним из главных панегиристов Бисмарка, отзывался о нем как о "поверхностно-беспринципном", Густав Фрейтаг [Gustav Freytag (1816--1895), романист и историк -- амер. изд.] -- как о "жалком и постыдно бесчестном", а юрист Ихеринг [Rudolf von Ihering (1818--1892), профессор права в Геттингенском университете -- амер. изд.] говорил о его "отвратительном бесстыдстве" и "чудовищной легкомысленности". Всего лишь через несколько лет большинство этих же людей присоединились к хору безмерной хвалы, и один из них публично признал, что за такого человека действия готов отдать сотню людей, обладающих бессильной честностью. Хотя иностранные наблюдатели оказались столь же уязвимыми к коррумпирующему влиянию успеха, их ошибки носили временный характер и не могли породить такого же разрушения нравственных критериев в их странах, как это случилось в Германии. Здесь стоял вопрос об объединении в единую нацию; была достигнута цель, к которой стремились поколения немцев, и эта цель оказалась в неразрывной связи с методами ее достижения. Эти методы не могут быть оправданы без грубого искажения фактов, либо без узаконения измены и лжи, подкупа и жестокого террора. Пришлось выбирать между истиной или моральной правотой, с одной стороны, и тем, что рассматривали как патриотический долг, и патриотизм оказался сильнее. Утвердилось убеждение, что цель оправдывает средства, и что поступки в общественной жизни не могут поверяться нравственными критериями, но должны оцениваться только их адекватностью поставленным целям. [В рецензии на Эйка Хайек продолжает: "Потребовалось, тем не менее, немало времени, пока весь народ не научился видеть общественные дела иными глазами, и с точки зрения будущего переобучения немцев стоит уделить внимание тому, как распространялись принципы Бисмарковской Realpolitik. Сам Бисмарк действовал, конечно, не только личным примером, но и через свои мемуары (Gedanken und Erinnerungen (New York and Stuttgart: Cotta,1898), которые явились первым политическим бестселлером в Германии и были (за исключением, быть может, появившейся годом позже книги Х.С. Чемберлена Foundations of the Nineteenth Century) единственной книгой, которую по распространенности и влиянию можно сравнить с Mein Kampf. Но главная ответственность лежит все же на других. Массы принимают свои мнения уже готовыми, и в первую очередь историки устанавливают критерии оценки крупных исторических событий, особенно в Германии с ее культом учености. Прежняя роль историков в этом деле указывает на очень важную задачу, которую им предстоит выполнить в будущем." -- амер. изд.] У меня нет здесь возможности разбираться в других важных подробностях истории Бисмарка, в том, как после объединения Рейха он мастерски использовал приманку хозяйственных выгод, чтобы сколотить из рабочих и капиталистов обще германские хозяйственные организации по прусскому образцу, как при нем начались целенаправленные усилия, имевшие целью не только политическое объединение Германии, но и выработку общей идеологии. Но следует кое-что еще сказать о процессе, в результате которого близкие ему политические и моральные взгляды постепенно завладели умами немцев. Я особенно хочу подчеркнуть ключевую роль -- столь отчетливо различимую в истории всего этого периода -- усилий немецких историков, стремившихся оправдать и защитить Бисмарка, и как они при этом распространили идеи преклонения перед государственной властью и государственным экспансионизмом, столь характерные для современной Германии. Никто не сказал об этом отчетливее, чем великий английский историк лорд Актон, знавший Германию не хуже, чем свою собственную страну, который уже в 1886 году смог сказать об этом "гарнизоне выдающихся историков, который подготовил господство Пруссии и самих себя, и теперь засел в Берлине как в крепости", об этой группе, которая "почти безраздельно предана принципам, ради отхода от которых мир заплатил столь большую цену" [Acton, "German Schools of History", op. cit., pp. 352, 355--356 -- амер. изд.]. Именно лорд Актон при всей своей любви ко многим сторонам немецкой жизни смог пятьдесят лет назад предвидеть, что могущественная власть, созданная в Берлине усилиями очень способных умов, представляет собой "величайшую опасность, с которой еще предстоит столкнуться англосаксонской расе". [Здесь Хайек добавляет: "Влияние историков далеко не ограничивается толкованием событий, наиболее тесно связанных с судьбой страны. Лучшей иллюстрацией этого является занятное изменение отношения немецких историков к знаменитому эпизоду борьбы Филиппа Македонского с греками. В их глазах Филипп стал своего рода классическим Бисмарком, который трудился над объединением греческого народа, а позиция Демосфена, отстаивавшего независимость Афин, была представлена как близорукий и достойный порицания партикуляризм, объяснимый исключительно недостойными мотивами. Вот так даже классическое образование было превращено в средство приучения молодых к новым критериям политической нравственности." -- амер. изд.] Эти исторические экскурсы необходимы, если мы хотим понять ту особенно важную задачу, которая ляжет на плечи историков и преподавателей истории в деле переобучения немцев. Конечно, не им одним придется потрудиться ради этого, но их положение настолько важно, что было бы оправданно в практических проблемах применять термин "исторический" ко всем тем исследователям и авторам в сфере гуманитарного знания, которые формулируют идеи, определяющие долгосрочные перспективы развития общества. Проблема в том, как организовать действенную помощь тем немцам, с влиянием которых связаны наши надежды на лучшее будущее Германии. А им вполне определенно потребуется и материальная и, еще в большей степени, моральная помощь. Прежде всего, этим изолированным людям будет нужна уверенность в том, что в моральном плане они не являются изгоями, что они стремятся к тем же целям, что и множество других людей по всему миру. Хотя существует множество немецких ученых, с которыми нам никогда больше не следует иметь никаких дел, было бы пагубнейшей ошибкой распространить этот остракизм на всех, в том числе на тех, кому мы хотели бы помочь. Но когда тебе приходится подозревать всех, за исключением тех немногих, кого ты знаешь лично, это может оказаться просто следствием трудности сбора информации о поведении различных людей, если только не будут предприняты сознательные усилия по облегчению контактов. Если мы хотим, чтобы эти люди опять стали активными участниками западной цивилизации, следует предоставить им возможность обмениваться мнениями, получать книги и периодические издания, и даже путешествовать, что еще долгое время будет неосуществимо для большинства немцев. Трудность не только в том, чтобы найти этих людей. Еще труднее организовать помощь так, чтобы она не дискредитировала их в глазах остального народа. В первую очередь явно необходимо соединить в одном месте ту информацию об отдельных немецких ученых, которой располагают их коллеги в странах-победительницах. Во-вторых, следует иметь в виду, что этих людей не следует превращать в инструмент западных правительств. Чтобы иметь хоть какие-либо шансы на успех, нельзя давать ни малейших оснований подозревать их в том, что они просто служат иной, чем их враги, власти, и не должно быть ни малейших сомнений, что они привержены одной только истине. Скорее всего, им понадобится не только положительная помощь, но и защита от благонамеренных, но не осторожных попыток использовать их на службе правительственного аппарата союзников. Единственным практическим решением этой проблемы представляется создание независимыми учеными международной академии или общества ученых, где активно вовлеченные в эти проблемы западные ученые объединились бы с отдельными немцами, которых сочтут достойными поддержки [см. главу 12 -- амер. изд.]. Такое общество смогло бы объединить тех, кто заслуживает доверия своим прошлым поведением и готов служить двум великим идеалам: исторической истине и сохранению моральных стандартов в политике. Эти общие идеи придется, конечно, определить более точно, поскольку цель общества предполагает согласие его членов по общим фундаментальным принципам западного либерализма, к сохранению которого мы и стремимся. Едва ли есть смысл в особом манифесте с выражением этих принципов. После долгих размышлений о разных возможностях, я чувствую, что лучше всего было бы использовать имена одного или двух великих людей, являющихся выдающимися представителями этой философии. И мне кажется, что два имени, наилучшим образом символизирующих эти идеалы и задачи такого общества -- это английский историк лорд Актон и его французский коллега Алексис де Токвиль. Оба они олицетворяли лучшие черты либеральной философии, и оба соединяли страсть к истине с глубоким уважением к нравственным силам исторического развития. В то время как англичанин лорд Актон знал хорошие и дурные стороны немцев не хуже, чем он знал своих соотечественников, француз де Токвиль был, бесспорно, величайшим исследователем и поклонником американской демократии. Мне кажется, что наилучшим способом выразить идеалы такой международной академии, было бы назвать ее обществом Актона-Токвиля. Это название способно привлечь тех мужчин и женщин, которые знают, что значат эти имена, и готовы бороться за идеалы этих двух людей. На этой стадии нет нужды в детальном описании функций такого общества. Я не утверждаю, что такого рода организация будет непременно наилучшей. Но я убежден, что существуют крупные проблемы, нуждающиеся в тщательном осмыслении, и не изучаемые сейчас должным образом просто потому, что их невозможно разрешить в рамках правительственной деятельности. Инициативу должны взять на себя независимые ученые и мыслители; и следует помнить, что нельзя терять времени, если мы не хотим упустить открывшиеся великие возможности. Приложение: будущее Австрии Сегодня, когда русские армии стоят у ворот Вены, вопрос о будущем Австрии стал жгучей проблемой. О множестве факторов, которые определят судьбу страны, известно сейчас настолько мало, что не удивительны скудость и неопределенность официальных высказываний. Но эта неопределенность не распространяется на вопрос, который казался первоочередным еще совсем недавно. Что Австрия будет навсегда отделена от Германии, не есть только результат решения союзников; можно уверенно утверждать, что таково желание австрийского народа, и оно не изменится -- если не будут совершены серьезнейшие ошибки. Важно понять, что движение в пользу присоединения к Германии в гораздо меньшей степени основывалось на националистических сантиментах, чем на совершенно рациональных расчетах: это была надежда бедной и слабой страны на выигрыш от присоединения к процветающему соседу. Мало вероятно, что через некоторое время идея присоединения к Германии опять станет привлекательной с чисто экономической точки зрения. Ни один из тех, кто хоть как-то знаком с Австрией периода оккупации, не может усомниться, что эмоциональная основа такого желания сейчас имеет противоположное направление. Но это только начало проблемы. Хотя никогда нельзя было положительно утверждать, что при сложившихся между двумя войнами условиях Австрия не способна поддерживать свое население, но она могла делать это на очень низком уровне. Неразрешимой дилеммой этого периода было то, что как раз когда Австрия очень обеднела, ее работники впервые приобрели громадную силу и использовали ее для существенного повышения уровня своей жизни. Сначала им сопутствовал успех, и они принудили нанимателей израсходовать накопленный капитал, но результатом этого стал развал финансовой системы Австрии и скупка ее промышленной собственности Германией. Но если даже на какое-то время после этой войны австрийцы согласятся на очень скромный уровень жизни, не приходится ожидать, что масса весьма образованного промышленного населения, которое до 1934 года было организовано лучше всех в Европе (а лидеры его принадлежали к числу самых радикальных), надолго удовлетворится такими перспективами. Эта проблема, перед войной затрагивавшая главным образом саму Вену и ее ближайшие окрестности, сильно обострилась в результате недавнего развития. Вдоль восточной границы Австрии нацисты создали новые промышленные районы (в том числе вокруг вновь открытых нефтяных полей), где работают, главным образом, иностранные рабочие, не все из которых пожелают вернуться в свои страны. Стабильность Австрии будет, в конечном счете, зависеть от экономических перспектив этих промышленных районов (крупнейших в Центральной Европе). Здесь возникнет множество всяких проблем, в том числе проблемы собственности и управления этими предприятиями в стране, где и всегда-то незначительную старую буржуазию большей частью изгнали или дискредитировали. Здесь мы можем рассмотреть только более широкие политические проблемы. Противодействие России мешает единственному разумному решению этой и многих других проблем Центральной Европы: созданию широкой федерации, которая бы включила не только территорию бывшей Австро-Венгрии, но также Югославию, Румынию и, быть может, Болгарию (желательно с включением в качестве отдельных государств-участников таких спорных территорий, как Трансильвания, Хорватия или Словакия). Что касается другого, хотя и менее выигрышного решения -- объединения Австрии и Чехословакии, которые могли бы составить ядро будущей более широкой федерации, -- далеко идущая ориентация Чехословакии на Россию может оттолкнуть как австрийских социал-демократов, так и католиков. Так что Австрия вполне может оказаться еще раз не только зависимой, но и лишенной доступа к внешним ресурсам, что не создает хороших перспектив для ее сравнительно большого промышленного населения. Изменением границ здесь многого не достигнешь. Единственное, что можно и непременно нужно сделать, это вернуть Австрии Южный Тироль (то есть немецкоязычный район Бозена (Bozen), но ни в коем случае не итало-язычный Трентино). Это важно не только по экономическим причинам, но еще сильнее потому, что австрийцы всегда были патриотами отдельных земель, и отделение сердца старого Тироля оставило тирольцев без естественного центра притяжения, и, тем самым, запустило центробежные силы. (По той же самой причине было бы роковой ошибкой удовлетворение новых югославских притязаний на те части Каринтии, которые 26 лет назад на плебисците подавляющим большинством высказались за присоединение к Австрии). Может быть, следует серьезно рассмотреть недавнее предложение о передаче Австрии вклинивающейся территории Берхтесгадена, поскольку это не только существенно укоротит важнейшую ветвь внутренних коммуникаций, но также предотвратит онемечивание Берхтесгадена. Другая проблема -- доступ к морским портам. Передача Триеста Австрии, хотя и была бы в интересах обеих сторон, не выглядит ни желательной, ни практичной. Но, может быть, разумным было бы превращение Триеста в вольный город под международным управлением наподобие Данцига, с гарантированным доступом к морю для Австрии и Чехословакии. Ни одно из этих возможных изменений, однако, существенно не переменит экономические проблемы Австрии. Но есть и иной выход, если Вена, как часто предлагалось, станет местом размещения новой Лиги Наций, или как там будет называться соответствующая организация. С учетом возникающих очертаний новой Европы Вена вполне может оказаться наиболее удобным нейтральным местом, на границе между тем, что, вероятнее всего, станет сферами влияния Запада и России. Это само по себе разрешит многие специфические проблемы Вены. Но можно сделать еще один шаг и превратить Вену с прилегающими промышленными районами в действительно нейтральную зону, располагающую полной внутренней автономией, но с международным контролем над ее международными связями. Это сделает возможным превращение ее в подлинную зону свободной торговли, от чего промышленная Вена только выиграет, но чего она не смогла бы достичь, оставаясь частью небольшой сельскохозяйственной страны. В остальной части Австрии останется достаточно промышленности, чтобы она не превратилась в чисто сельскохозяйственную страну; но эта чрезмерно развитая городская и промышленная агломерация, которой слишком тесно в рамках маленькой страны, получит достаточное пространство для развития, и при этом никому не придется опасаться, что экономический подъем этой территории приведет к возрождению политического влияния. Многие читатели могут спросить, заслуживает ли Австрия столь большого внимания, какое ей здесь уделено. Недавно с благословения м-ра Идена [Энтони Иден (1897--1977), позднее лорд Эвон, министр иностранных дел Британии с 1931 по 1938 год, сменил Уинстона Черчилля на посту премьер-министра в 1955 году, ушел в отставку после Суэцкого кризиса в 1957 году -- амер. изд.] распространился аргумент, что австрийцам еще следует заслужить, чтобы к ним относились иначе, чем к немцам. Предположение, что австрийцы способны организовать восстание, выдает неверное понимание положения страны, которую немцам было позволено захватить за 18 месяцев до начала войны. У австрийцев гораздо меньше возможностей организовать действенное сопротивление, чем, скажем, у чехов или норвежцев. Мало того, что существенно большая часть австрийской молодежи не находилась дома, что они были призваны в армию, когда не было никаких перспектив на иностранную помощь, и что они были рассеяны среди немецких частей; есть еще один фактор, делающий положение особенно трудным. Ни приходится сомневаться, что в любой оккупированной стране число квислингов было бы во много раз большим, если бы они имели возможность рядиться в тогу националистов, как это было в Австрии. А ведь рост числа потенциальных предателей от, скажем, 1 на 500 до 1 на 50 представляет собой уже не количественное, а качественное различие. При таких условиях попытка создания тайной организации сопротивления перестает быть разумным риском, а делается чистым самоубийством. Молодежь, которая могла бы решиться на самопожертвование -- далеко от страны; а пожилые люди может быть правы, когда решают, что для них важнее не погибнуть в бессмысленной демонстрации, а выжить -- чтобы помочь в строительстве новой Австрии. И все-таки число таких людей велико. Сколь бы ни был основателен сам вопрос, существенно то, что отношение к Австрии как к партнеру Германии, есть, вероятно, лучший способ заставить ее вести себя как сторонник Германии. Это особенно важно в вопросе о репарациях. В Австрии обнаружится немецкая собственность, на которую союзники вполне правомерно заявят права; но требование больших репараций привело бы к роковому ослаблению страны, в которой политическая нестабильность всегда имела причиной ее экономическую слабость. Грубо говоря, в Австрии, как может быть и в любой другой стране, не скрепляемой узами языкового или исторического единства, независимость, чтобы быть длительной, должна представлять собой некую экономическую ценность. Глава двенадцать. Вступительное слово на конференции в Монт Перелин
Выступление состоялось 1 апреля 1947 года в Монт Перелин, около Веве, в Швейцарии, было опубликовано в Studies in Philosophy, Politics and Economics, op.cit., pp.148--159 -- амер. изд. Я должен признаться, что сейчас, когда настал этот долгожданный момент, мою признательность к вам подавляет чувство изумления перед собственной смелостью, с какой я привел все это в движение, и тревожное чувство ответственности, легшей на меня после того, как я пригласил вас отдать столь много времени и энергии на то, что вполне можно расценить как безумный эксперимент. Я ограничусь здесь простым и глубоко искренним "спасибо". Но прежде чем я уступлю это место, столь нескромно мною занятое, и предоставлю вам возможность заняться тем, чему я сумел положить начало благодаря благоприятным обстоятельствам, я должен подробнее описать те цели, ради которых я затеял эту встречу и составил программу наших работ. Я постараюсь не слишком испытывать ваше терпение, но даже самые краткие объяснения потребуют некоторого времени. Предпринимая эти усилия, я руководствовался верой в то, что нужно разрешить немалые интеллектуальные задачи, если мы хотим возрождения объединяющих нас идеалов, для которых, при всех злоупотреблениях этим термином, нет лучшего слова, чем -- либеральные. Мы должны не только очистить традиционную либеральную теорию от неких случайных наносов, появившихся со временем, но и встретиться с реальными проблемами, от которых в прошлом увиливал сверх упрощенный либерализм или, можно сказать, которые проявились только в силу того, что либерализм обратился в разновидность застывшего и не изменяющегося суеверия. Я окончательно убедился в том, что это так, глядя как в разных областях знания и в различных уголках мира люди, воспитанные в различных убеждениях, но одинаково безразличные к партийному либерализму, заново открывали для себя основные принципы либерализма и пытались заново воссоздать либеральную философию в таком виде, чтобы она могла выдержать претензии большинства наших современников, разочаровавшихся в возможностях прежнего либерализма. В последние два года у меня была возможность посетить различные части Европы и Америки, и меня поразило количество одиноких людей, которые повсюду работали над одними и теми же проблемами и двигались в очень сходном направлении. Работая в полной изоляции или в очень маленьких группах, они были принуждены постоянно отстаивать основные элементы своих убеждений, и редко имели возможность обмениваться мнениями о более конкретных проблемах, поскольку это возможно лишь с теми, кто разделяет тобой основные убеждения и идеалы. Мне представляется, что эффективная разработка общих принципов либерального порядка возможно только внутри группы людей, которые согласны в основном, которым не приходится на каждом шагу защищать базовые концепции. Но в наше время не только крайне мало число тех, кто в каждой отдельной стране соглашается с базовыми принципами либерализма, но и стоящие перед нами задачи чрезвычайно велики, и есть великая нужда опереться на самый разнообразный опыт. Для меня оказалось чрезвычайно поучительным наблюдение, что чем дальше продвигаешься на запад, туда, где либеральные институты сохранились пока еще наилучшим образом, и где сравнительно много людей, исповедующих либеральные убеждения, тем менее эти люди готовы подвергнуть исследованию собственные наблюдения, тем более они склонны к компромиссу и к принятию в качестве единственного образца родной им исторически случайной формы либерального общества. С другой стороны, я обнаружил, что в странах либо прямо переживших тоталитарный режим, либо приблизившихся к нему, отдельные люди извлекли из своего опыта куда более отчетливое представление об условиях и ценностях свободного общества. Чем больше я обсуждал эти проблемы с людьми в разных странах, тем сильнее я склонялся к убеждению, что истина не так проста, и что наблюдение за действительным распадом цивилизации преподало ряду независимых европейских мыслителей уроки, которые придется освоить и в Англии и в Америке, если эти страны не хотят испытать ту же судьбу. Выгоды и преимущества от обмена мнениями и от соединения сил поверх национальных границ могут получить не только исследователи экономики и политики. Я был поражен и тем, насколько более плодотворным может быть обсуждение крупных современных проблем с участием, скажем, экономиста и историка, или правоведа и политического философа, разделяющих некоторые общие предпосылки, чем в кругу коллег по профессии, различающихся своими основными ценностями. Конечно же, политическая философия не может основываться исключительно на экономической теории, и не может быть выражена исключительно в экономических терминах. Представляется, что предстоящие нам опасности являются результатом интеллектуального движения, которое проявилось во всех аспектах человеческой деятельности, и затронуло все ценностные установки. Но если в своей собственной профессиональной области каждый из нас мог научиться распознавать убеждения, способствующие движению к тоталитаризму, мы не можем быть уверенными, что будучи, например, экономистами, под влиянием общей атмосферы нашего времени мы не примем столь же некритично, как и все другие, те самые тоталитарные идеи в области философии или истории, учения о нравственности или праве, которым мы научились противостоять в нашей профессиональной области. Потребность в международной встрече представителей всех этих многоразличных профессий мне кажется особенно настоятельной потому, что в результате войны не только были надолго нарушены многие обычные связи, но даже в лучших из нас по неизбежности возникли эгоцентризм и национализм, которые плохо согласуются с истинно либеральным подходом к нашим проблемам. Что хуже всего, война и ее последствия создали новые препятствия для восстановления международных контактов, которые для живущих в менее богатых странах по-прежнему непреодолимы без внешней помощи, но, впрочем, достаточно серьезны и для всех остальных. Явно существует потребность в некоей организации, которая поможет заново связать между собой людей с общими убеждениями. Пока не будут созданы соответствующие частные организации, сохранится серьезная опасность все большей монополизации международных связей теми, кто так или иначе был связан с существующими правительственными или политическими механизмами и обслуживал господствующие идеологии. С самого начала было очевидно, что постоянно действующая организация такого рода не может быть создана без созыва пробной встречи, на которой может быть проверена полезность этой идеи. Но поскольку в нынешних обстоятельствах такое предприятие неосуществимо без значительных средств, я всего лишь рассказывал об этом плане каждому, кто соглашался слушать, пока к моему большому удивлению счастливый случай не сделал это возможным. Один из наших швейцарских друзей, д-р Хунольд, собрал средства для довольно похожего проекта, который в силу обстоятельств был оставлен, и он сумел убедить доноров направить собранные средства на наш проект. Только когда сама собой возникла эта уникальная возможность, я осознал, какая ответственность на меня легла, и что теперь я должен обеспечить созыв конференции и, что хуже всего, выбрать участников. Может быть, вы сумеете посочувствовать трудности и смущающей сложности легших на меня задач, и мне не придется извиняться за то, как я со всем этим справился. В этой связи мне нужно объяснить только одно: в соответствии с моим пониманием нашей задачи, недостаточно, чтобы наши члены обладали тем, что принято называть "здравыми" взглядами. Старый либерал, приверженный традиционным верованиям просто по традиции, плохо пригоден для наших целей -- при всей привлекательности его убеждений. Нам нужны люди, сталкивавшиеся с аргументами другой стороны, сражавшиеся с ними и сумевшие создать позиции, пригодные как для критического анализа враждебных взглядов, так и для защиты собственных. Таких людей на свете еще меньше, чем хороших либералов в старом смысле, а сейчас и последних достаточно мало. Но когда дело дошло до составления списка, я к своему приятному удивлению обнаружил, что число людей, которых я считаю достойными включения в этот список, намного больше, чем я ожидал и чем нужно для созыва конференции. В результате окончательный отбор участников оказался по необходимости произвольным. Мне остается только сожалеть, что по моей личной вине состав данной конференции несколько несбалансирован, и что историки и политические философы представляют собой относительно слабое меньшинство среди экономистов. Причина этого отчасти в том, что мои личные контакты в этой профессиональной группе более ограничены, да и среди приглашенных не смогли прибыть на конференцию особенно много не-экономистов, а кроме того представляется, что в данной конкретной ситуации экономисты в целом лучше осознают природу непосредственной опасности и настоятельности интеллектуальных проблем, которые следует разрешить, если мы хотим получить шанс на то, чтобы направить развитие в более желательном направлении. Подобной же несбалансированностью отличается и национальный состав участников конференции, и я особенно сожалею об отсутствии представителей Бельгии и Голландии. Я не сомневаюсь, что помимо сознаваемых мною недостатков есть другие, может быть и более серьезные, допущенные мною невольно, и единственное, что мне остается, это просить вас о снисхождении и о помощи, чтобы в будущем у нас был полный список всех тех, на сочувственную и деятельную поддержку которых мы можем рассчитывать. Мне придает смелости то, что все приглашенные выразили сочувствие целям конференции и желание при возможности в ней участвовать. И если многие при всем этом не приехали, то только в силу тех или иных объективных трудностей. Возможно, вы захотите узнать имена тех, кто был бы рад при возможности участвовать в нашей конференции, и выразил свое сочувствие ее целям. [Затем я прочитал следующий список: Constantino Bresciani-Turroni (Рим); William H. Chamberlin (Нью Йорк); Rene Courtin (Париж); Max Eastmen (Нью-Йорк); Luigi Einaudi (Рим); Howard Ellis (Беркли, Калифорния); A.G.B. Fisher (Лондон); Eli Heckscher (Стокгольм); Hans Kohn (Нортхемптон, Массачусетс); Walter Lippmann (Нью Йорк); Friedrich Lutz (Принстон); Salvador de Madariaga (Оксфорд); Charles Morgan (Лондон); W.A. Orton (Нортхемтон, Массачусетс); Arnold Plant (Лондон); Charles Rist (Париж); Michael Roberts (Лондон); Jacques Rueff (Париж); Alexander Rustow (Стамбул); Franz Schnabel (Гейдельберг); W.J.H. Sprott (Ноттингем); Roger Truptil (Париж); D. Villey (Пуатье); E.L. Woodward (Оксфорд); H.M. Wriston (Провиданс, Род Айленд); G.M. Young (Лондон). Хотя они и не присутствовали на встрече в Монт Пелерин, все поименованные позднее согласились присоединиться к обществу в качестве членов-основателей.] Упомянув тех, кто по временным причинам не смог быть с нами, я должен также помянуть тех, на чью поддержку я особенно рассчитывал, но кто уже никогда не будет с нами. Те двое, с которыми я особенно подробно обсуждал план этой встречи, -- не дожили до реализации плана. Впервые я набросал план три года назад перед маленькой группой в Кембридже [см. главу 8 -- амер. изд.], где председательствовал сэр Джон Клэпхэм, проявивший большой интерес, но неожиданно умерший год назад. А менее года назад я обсуждал все подробности плана с другим человеком, вся жизнь которого была посвящена нашим идеалам и проблемам -- с Генри Саймонсом из Чикаго [см. оценку Саймонса в связи с этим у J. Bradford De Long, "In Defense of Henry Simons's Standing as a Classical Liberal", Cato Journal, vol. 9, no.3, Winter 1990, pp. 601--618 -- амер. изд.]. Несколько недель спустя его не стало. Если наряду с ними я упомяну гораздо более молодого человека, который также очень заинтересовался моими планами и которого, если бы он остался жить, я надеялся увидеть в роли нашего постоянного секретаря, для чего Этьен Манту был идеально подготовлен, -- вы поймете, сколь тяжелые потери понесла наша группа уже перед первой встречей. Если бы не эти трагические смерти, мне не пришлось бы в одиночестве открывать эту конференцию. Признаюсь, что в некий момент эти удары совершенно пошатнули мою готовность осуществлять план и дальше. Но когда появились возможности, я почувствовал, что обязан сделать, что смогу. Следует отметить еще один момент, связанный с участием в конференции. Среди нас присутствуют ряд постоянных авторов периодических изданий -- не ради того, чтобы опубликовать репортаж о встрече, но потому что у них есть наилучшие возможности для распространения идей, которым мы все преданы. Чтобы устранить возможные сомнения, должен заметить, что если только и до тех пор, пока вы не решите иначе, все это следует рассматривать как частное собрание, и все произнесенное в ходе дискуссий будет "не для записи". Из предметов, предложенных мной для систематического обсуждения на этой конференции и, как представляется, одобренных большинством членов, первым является отношение между тем, что называют "свободным предприятием" и действительно конкурентным порядком. Мне представляется, что это самая большая и некоим образом самая важная проблема, и я надеюсь, что ей будет посвящена значительная часть наших дискуссий. Для нас важнее всего достичь ясности и прийти к согласию относительно повсеместно желательной программы экономической политики именно в этой области. Представляется, что именно эта совокупность проблем сильнее всего привлекает большинство присутствующих, и прежде всего здесь требуется соединение результатов независимых параллельных исследований, осуществлявшихся в различных концах мира. Число конкретных проблем здесь практически бесконечно, поскольку адекватная их трактовка и представляет собой завершенную программу либеральной экономической политики. Вполне вероятно, что после обсуждения общих проблем в этой области вы предпочтете обсуждать более частные вопросы в отдельных секциях. Быть может, таким образом мы сумеем дополнительно обсудить ряд тем, о которых я упоминал в одном из циркуляров, либо проблему инфляционного хозяйства, которое, как справедливо отмечали некоторые из присутствующих, является в данный момент в большинстве стран основным инструментом насаждения коллективизма. Может быть лучше всего посвятить одно-два заседания общим вопросам, а в конце выделить полчаса для определения дальнейшего плана действий. Я предлагаю посвятить сегодня послеполуденное время и весь вечер рассмотрению общих вопросов, и быть может, вы позволите мне сегодня после полудня сказать об этом еще несколько слов. Я взял на себя смелость попросить профессора Аарона Директора из Чикаго, профессора Вальтера Ойкена из Фрейбурга и профессора Мориса Аллэ из Парижа выступить со вступительными докладами, и я уверен, что после этого у нас будет предостаточно пищи для дискуссий. При всей чрезвычайной важности принципов экономической организации общества, по ряду причин я надеюсь, что еще в первой части конференции мы найдем время для ряда других вопросов. Возможно, все согласятся, что корни предстоящих нам политических и социальных опасностей не являются чисто экономическими, и что необходимо пересмотреть также и неэкономические концепции, доминировавшие в нашем поколении, если мы действительно хотим сохранить свободное общество. Я уверен, что если в самом начале конференции мы охватим более широкий круг вопросов и посмотрим на наши проблемы с разных точек зрения, прежде чем перейдем к более техническим или частным вопросам, мы сможем быстрее войти в суть проблем. Возможно, вы согласитесь, что истолкование истории и преподавание ее на протяжении жизни последних двух поколений были среди главных инструментов распространения преимущественно антилиберального понимания дел человеческих: распространенный фатализм, рассматривающий все происшедшее как неизбежное следствие великих законов необходимого исторического развития; исторический релятивизм, отрицающий любые нравственные критерии, за исключением результата -- успеха или неудачи; акцентирование массовых движений, противопоставляемых индивидуальным достижениям; подчеркивание того, что не власть идей, а материальная необходимость есть сила, определяющая будущее, -- все это различные грани проблемы не менее важной и почти столь же широкой, как и проблема экономики. В качестве отдельного предмета для дискуссий я предложил только один аспект из этой широкой области -- отношение между историографией и политическим образованием, но отсюда идет переход к более широкой проблеме. Я счастлив, что мисс Веджвуд и профессор Энтони согласились открыть дискуссию на эту тему. Мне представляется очень важным полностью осознать, что многие элементы распространенной формы либерализма (на континенте и в Америке в большей степени, чем в Англии), с одной стороны -- напрямую уводили своих последователей в тенета социализма или национализма, а с другой -- отпугивали многих из тех, кто разделял основные ценности индивидуальной свободы, но кого отталкивал агрессивный рационализм, не признающий никаких ценностей, если их полезность (относительно совершенно неясной конечной цели) не может быть удостоверена индивидуальным разумом, и предполагающий, что наука может говорить нам не только о сущем, но и о должном. Лично я убежден, что этот ложный рационализм, приобретший влияние в годы французской революции, а в последнее столетие воздействовавший на умы главным образом через родственные движения позитивизма и гегельянства, порожден интеллектуальным высокомерием, противостоящим тому интеллектуальному смирению, которое является сущностью истинного либерализма, благоговейно взирающего на те спонтанные социальные силы, через которые индивидуум творит вещи, недоступные его пониманию. Именно этот нетерпимый и свирепый либерализм является той основной силой, которая, особенно на континенте, нередко выталкивала религиозных людей в не очень-то подходящий им лагерь реакции. Я убежден, что пока не будет положен конец вражде между истинно либеральными и религиозными убеждениями, нет надежды на возрождение сил либерализма. В Европе есть много признаков того, что такое примирение сегодня достижимей, чем когда-либо прежде, и что многие люди с этим связывают надежду на сохранение идеалов западной цивилизации. Именно по этой причине я особо побеспокоился, чтобы вопрос об отношении между либерализмом и христианством стал отдельным предметом в наших дискуссиях; и хотя не приходится рассчитывать, что мы сумеем в этот раз далеко продвинуться в этом вопросе, важно отчетливо поставить перед собой эту проблему. Также мной предложены для дискуссии вопросы о практическом применении наших принципов к проблемам современности (в отличие от вопросов о самих принципах). Насущность проблемы будущего Германии и вопрос о возможности и перспективах европейской федерации таковы, что обойти их не может никакая международная группа исследователей политики, даже если мы в результате обмена мнениями всего лишь несколько прочистим наши представления. В обоих этих вопросах, больше чем в любых других, современное общественное мнение является главной помехой любому разумному рассмотрению, и наш долг не уклониться от их обсуждения. Признаком чрезвычайной сложности этих проблем является то, что лишь с величайшим трудом мне удалось найти желающих открыть дискуссию по этим двум вопросам. Есть еще одна тема, которую я считал бы нужным обсудить, поскольку она представляется центральной для нашей проблемы -- что представляет собой господство правовых принципов (rule of law) и каких условий оно требует. Я оставил ее в стороне, потому что для ее адекватного обсуждения пришлось бы расширить круг приглашенных за счет юристов. Этому помешала, опять-таки, моя недостаточная осведомленность, и сейчас я упомянул эту проблему только чтобы показать, сколь широко нам следует раскинуть сети, чтобы постоянно действующая организация могла достаточно компетентно подходить ко всем возможным аспектам наших проблем. Похоже, что предложенная программа уже достаточна для этой одной конференции, и теперь я хочу кратко затронуть еще пару вопросов. Что касается формальной организации конференции, я не думаю, что нам нужно обременять себя сколь-нибудь обширным аппаратом. Для председательства на первой встрече нельзя и пожелать более квалифицированного человека, чем профессор Раппард, и я уверен, что вы позволите мне от вашего имени поблагодарить его за согласие. Но не следует взваливать бремя постоянного председательства на него или на кого-либо другого. Лучшим выходом была бы ротация, и если вы согласны, мы на первом заседании выберем председательствующих на несколько последующих заседаний. Если вы согласны с программой первой части конференции, то до обсуждения программы второй части, то есть до специального вечернего заседания в понедельник, у нас почти не будет организационных проблем. Вероятно, было бы разумно на этом заседании выбрать небольшой оргкомитет из 5 или 6 человек, который бы детализировал согласованную нами программу и, по обстоятельствам, вносил в нее необходимые изменения. Может быть, желательно назначить секретаря конференции или, что еще лучше, двух секретарей, чтобы один следил за соблюдением программы, а другой отвечал за общие организационные вопросы. Полагаю, на данной стадии этого было бы вполне достаточно. Есть еще один организационный момент, о котором я, пожалуй, упомяну сейчас. Я, естественно, понимаю, что сейчас забираю время у деловой части дискуссии. Но ведь ничего не было подготовлено, да и выглядело это неуместным, для получения стенограммы обсуждений. Помимо технических трудностей, это нарушило бы частный и неформальный характер наших дискуссий. Я надеюсь, что участники сами кратко зафиксируют свои выступления, так что если конференция решит в какой-либо форме опубликовать основные результаты обсуждений, им будет несложно изложить на бумаге существо своих высказываний. Есть также вопрос о языке. В предварительной переписке я неявно предполагал, что все знают английский, а поскольку для большинства это так и есть, нашу работу сильно облегчит использование главным образом английского. Мы не так богаты, как официальные международные организации, которые располагают штатами переводчиков. Мне кажется разумным, чтобы каждый участник использовал тот язык, на котором он будет лучше понят остальными. Непосредственной целью этой конференции является, естественно, помощь сравнительно небольшой группе тех, кого в разных концах мира привлекают одинаковые идеалы, в установлении личных контактов, в обмене опытом и, быть может, во взаимном ободрении. Я уверен, что если через десять дней мы достигнем хотя бы этого, то вы согласитесь со мной в том, что встречу стоило организовать. Но я надеюсь и на большее, на то, что этот опыт сотрудничества окажется настолько успешным, что мы захотим продолжить его в той или иной форме. Сколь бы малым ни было число людей, разделяющих наше мировоззрение, среди них есть гораздо больше компетентных в очерченных мною проблемах ученых, чем находится сегодня здесь. Я и сам мог бы составить список в два или три раза более длинный, а исходя из уже полученных предложений видно, что все вместе мы можем без труда составить список , включающий несколько сот живущих в разных странах мужчин и женщин, которые разделяют наши убеждения и хотели бы работать ради них. Я надеюсь, что мы, тщательно отбирая имена, составим такой список и придумаем, как облегчить им общение между собой. Начало такого списка я кладу на стол, и надеюсь, что вы добавите сюда столько имен, сколько сочтете нужным, а также обозначите своею подписью, какие из предложенных другими кандидатур вы хотели бы поддержать и сообщите мне, может быть в частном порядке, кого из включенных в список вы считаете неподходящим участником постоянной организации. Может быть, мы будем включать имена только тех, кого поддержат двое или трое из участников сегодняшнего заседания, и может оказаться желательным в дальнейшем создать небольшой отборочный комитет, который подготовит окончательный список. Я предполагаю, что в этот список будут включены все приглашенные, но не смогшие прибыть на конференцию. Существует множество форм организации такого рода регулярных контактов. Когда в одном из моих циркуляров я использовал несколько высокопарное выражение "Международная академия политической философии", я намеревался с помощью термина "академия" подчеркнуть один аспект, представляющийся мне существенным для достижения целей такой постоянной организации: она должна оставаться закрытым обществом, открытым не всем и каждому, но только тем, кто разделяет наши общие убеждения. Для этого нужно, чтобы новые члены принимались только в результате выборов, и чтобы мы воспринимали принадлежность к нашему кругу столь же серьезно, как это свойственно великим научным академиям. Я не предлагаю вам назвать нас академией. Если вы решите образовать общество, то вам и выбирать для него имя. Меня привлекала идея назвать его Обществом Актона-Токвилля, а кто-то предложил добавить имя Якоба Буркхардта в качестве третьего святого покровителя. Но на данной стадии этот вопрос можно и не рассматривать. Помимо того важного момента, что наше создание должно иметь форму закрытого общества, у меня нет идей по поводу организации. Есть основания настаивать, чтобы, по крайней мере вначале, организация была минимально формальной, может быть не более, чем своего рода общество по переписке, в котором членский список служит всего лишь облегчению взаимных контактов. Если бы было возможно -- боюсь, что нет -- устроить так, чтобы каждый участник обеспечивал всех других репринтами или мимеокопиями собственных работ, это во многих отношениях было бы наилучшим из всего возможного. С одной стороны, мы избежали бы сопутствующей всякому специализированному журналу опасности обращаться лишь к уже обращенным, а с другой -- мы узнавали бы о параллельной или дополняющей деятельности всех остальных. Но следует достичь обоих желательных результатов: плоды нашей деятельности должны доходить до широкой публики и не ограничиваться лишь теми, кто уже с нами, а в то же время члены группы должны знать о достижениях всех остальных. Это значит, что нам следует, по крайней мере, рассмотреть возможность того, что рано или поздно мы будем издавать журнал. Может придти момент, когда мы не в силах будем достичь большего, чем такая неформальная организация, поскольку на большее мы просто не соберем денег. При наличии больших средств, можно было бы сделать многое. Но при всей желательности этого, я буду удовлетворен и таким скромным началом, если для большего придется как-либо ограничить нашу независимость. Сама эта конференция показывает, как стремление к нашей цели зависит от доступности некоторых финансовых средств, и мы не можем рассчитывать на постоянную удачу в добывании денег, как в этот раз, когда деньги безо всяких условий или ограничений поступили из швейцарских, главным образом, и американских -- в виде оплаты транспортных расходов американских участников -- источников. Я хотел как можно раньше уверить вас в этом отношении и, одновременно, выразить нашу величайшую признательность д-ру Хунольду, который собирал деньги в Швейцарии, и м-ру В.Г. Лухноу из благотворительного фонда Уильяма Волкера в Канзас-сити, сделавшего возможным участие наших американских друзей, за их помощь в этом отношении. Мы еще в долгу у д-ра Хунольда за хлопоты по устройству всего этого: благодаря его заботам и предусмотрительности мы пользуемся всеми этими удобствами. Мне кажется, что лучше не начинать обсуждение упомянутых мною практических задач пока мы не познакомимся друг с другом получше и не осознаем возможности взаимного сотрудничества. Я надеюсь, что в ближайшие дни в частных беседах эти вопросы будут обсуждены и наши идеи постепенно откристаллизуются. Когда после трех дней работы и еще трех дней менее формального общения мы возобновим рабочие заседания, одно из них, быть может, мы посвятим систематическому обсуждению этих возможностей. До этого момента я откладываю попытки убедить вас в преимуществах имени, предложенного мною для названия общества, так же как любые обсуждения принципов и целей, которым должна подчиняться наша деятельность. А в данное время мы являемся просто конференцией Монт Пелерин, и вам нужно установить правила ее проведения. Теперь все процедуры и судьба конференции в ваших руках. Глава тринадцать. Трагедия организованного человечества: д’Ювенел о власти
Рецензия на книгу Bertran de Jouvenel, Power: The Natural History of its Growth (London and New York: Hutchinson, 1948). Была опубликована как "The Tragedy of Organised Humanity", в журнале Time and Tide, November 6, 1949, p. 119 -- амер. изд. Хоть это осознают еще немногие, мы начинаем расплачиваться за одно из самых пагубных заблуждений в истории политической эволюции. Около сотни лет назад политическая мудрость, воспитанная веками горького опыта, научилась ценить важность многочисленных сдержек и барьеров, препятствующих расширению власти. Но когда показалось, что власть попала в руки народных масс, возникла неожиданная мысль, что теперь нет нужды в ограничениях власти. Возникла иллюзия, которую лорд Актон описал фразой не менее глубокой, но не столь популярной, как повсеместно цитируемая: "благодаря представлению о народе, как источнике власти, абсолютная власть может стать столь же легитимной, как и конституционная свобода" [здесь аллюзия на знаменитую фразу Актона "власть развращает, и абсолютная власть развращает абсолютно"; об Актоне см. главы 8 и 9 -- амер. изд.] Но власти свойственна внутренняя склонность к расширению, и при отсутствии естественных ограничений она будет расти безгранично, будет ли она осуществляться от имени народа или от имени немногих. На деле есть основания опасаться, что неограниченная власть в руках народа будет более обширной и более пагубной, чем власть осуществляемая немногими. Такова трагическая тема книги, написанной господином д'Ювенелом. Эта тема всегда занимала глубоких политических мыслителей, и в несколько последних десятилетий виднейшие из них посвятили зрелую мудрость преклонных лет ее исследованию. Немногим более 20 лет назад экономист Фридрих фон Визер завершил выдающуюся карьеру трактатом Das Gesetz der Macht [Friedrich von Wieser, Das Gesetz der Macht (Vienna: J. Springer, 1926); о Визере, учителе Хайека в Венском университете, см. главу 3 -- амер. изд.], который до сих пор так и не нашел своего читателя, готового к обсуждению проблемы. Примерно десять лет спустя историк Гуглиелмо Ферреро сходным образом посвятил одну из последних своих работ короткому и плодотворному исследованию Pouvoir [книга Guglielmo Ferrero, Pouvoir впервые была опубликована в английском переводе под названием The Principles of Power (New York: G. Putnam's Sons, 1942), хотя написана была несколькими годами раньше -- амер. изд.]. Еще позднее Бертран Рассел дал нам содержательную книгу о Власти [Bertrand Russell, Power: A New Social Analysis (London: Allen & Unwin, 1938) -- амер. изд.]. То, что гораздо более молодой автор дал нам монументальное исследование того же предмета, которое сдержанной страстью и очевидной соотнесенностью с текущими событиями производит более сильное впечатление, чем плоды зрелой мудрости, может являться как признаком растущей неотложности проблемы, так и свидетельством исключительной одаренности автора. Видимо, в силу обстоятельств времени, каждый последующий из наших авторов был незнаком с предыдущими работами. Но тот факт, что книги настолько разнятся друг от друга, скорее всего есть результат бесконечного разнообразия предмета, все аспекты которого не могут быть рассмотрены ни в одной отдельной работе. Работа г-на д'Ювенела, однако, удивительно близка к идеальной полноте. Он достигает этого не через создание теоретической системы, а через привлечение чрезвычайного количества фактов. Он пытается привести нас к пониманию феномена власти не через строгие теоретические построения, а с помощью последовательно накапливающегося изображения всех многоразличных граней власти. Это вполне сознательный прием. Он небезосновательно чувствует, что при такой попытке "абстрактные идеи не должны быть чрезмерно точными, иначе станет невозможно включение новых деталей". Созданная им картина одной из величайших исторических сил является, как и должно быть, произведением искусства не в меньшей, если не в большей степени, чем научным трактатом. Возможно, чрезмерная разработка деталей привела к известной размытости контуров. Есть определенная опасность, что множество блистательных высказываний и суждений способны отвлечь внимание от главной цели работы. Рецензенту трудно удержаться от соблазна усилить это впечатление с помощью подборки наиболее поразительных obiter dicta <попутных замечаний -- лат.>. Но это создало бы неверное впечатление о книге. Метод г-на д"Ювенела не только вполне сознателен, но также выражает более фундаментальную установку " его недоверие к тому поверхностному рационализму, который предпочтет скорее втиснуть сложные факты в простую схему, которая вполне может быть охвачена нашим ограниченным разумом, чем когда-либо признает, что сам разум свидетельствует об ограниченности собственной власти. И он вполне оправданно возлагает немалую ответственность за трагический поворот истории на эту предубежденность интеллектуалов: До тех пор, пока интеллектуал воображает /возможность/ упрощенного порядка вещей, он служит росту власти. Ведь существующий порядок -- здесь и повсюду -- сложен и покоится на целом множестве самых разнообразных видов власти, чувств, поддержек и установлений. Если решено возложить на одну пружину работу столь многих, сколь ужасающе сильна должна быть упругость ее витков; или если одна колонна должна отныне поддерживать то, что прежде опиралось на множество колонн, то какова же должна быть ее крепость! Только власть может быть в роли такой пружины или такой колонны -- и что же это должна быть за власть! Просто потому, что спекулятивное мышление склонно пренебрегать полезностью множества вторичных факторов, участвующих в созидании порядка, оно с неизбежностью ведет к усилению центральной власти, и так это происходит особенно в тех случаях, когда оно подрывает все виды власти, в том числе центральной; ведь власть должна существовать, и когда она возникает опять, то с неизбежностью принимает форму максимально концентрированной власти. Вот так доверчивое племя философов работает на пользу власти, превознося ее достоинства до тех пор, пока не наступает отрезвление; порой, это верно, они срываются в проклятия, но опять-таки по-прежнему служат власти в целом, поскольку при этом возлагают все свои надежды на радикальное и систематическое приложение собственных принципов, а ведь это может обеспечить только очень обширная власть. Через последовательность таких мгновенных зарисовок звеньев процесса, созидающего власть, д'Ювенел создает мастерскую и пугающую картину безличного механизма экспансии власти, норовящей поглотить все общество. Мало кто из прочитавших работу сможет забыть эту картину, и текущие события слишком часто будут им напоминать о ней. Он достиг успеха, и при этом избег всех интеллектуальных ловушек, сопутствующих такого рода попыткам. Хотя язык книги отчасти персонифицирует власть, она нигде не принимает антропоморфного вида, но всегда выражается через то, чем она и является: безличная сила, возникающая из проблем сотрудничества между людьми, из их индивидуальных потребностей, желаний и верований, зачастую вполне невинных и почти всегда свойственных большинству людей. Хотя язык книги порой поднимается почти до поэтического парения, основной ее характеристикой остается тяжелый реализм, почти пугающая свобода от иллюзий и трезвое описание социальных процессов во всей их подлинной наготе. Почти невозможно выделить какую-либо часть книги как более значительную или важную, чем другие. Но для тех, кто до перехода к систематическому изучению хотел бы ознакомиться с книгой, я особенно рекомендую блистательную 13 главу "Imperium et Democratie" ("Владычество и демократия") (этот заголовок представляет собой один из немногих случаев, когда опытный переводчик не смог найти адекватное выражение для французского оборота),а также чрезвычайно интересное обсуждение Руссо и принципов верховенства права -- отчасти неожиданное, но поучительное истолкование Руссо, которое автор уже после этого развил в Предисловии к превосходному изданию "Общественного договора" [Jean-Jacques Rousseau, Du contrat social, precede d'un essai sur la politique de Rousseau, par Bertrand de Jouvenele (Geneva: Editions du Chevalaile, 1947) -- амер. изд.]. Благодаря ему я убедился, что Руссо понимал смысл верховенства права лучше, чем любой другой известный мне автор. Одним из результатов реакции г-на д'Ювенела против сверх рационализма, господствовавшего в последние два столетия, стало то, что он сосредоточился почти исключительно на внешних механизмах власти и склонен недооценивать роль мнений. Исключением могут быть сочтены очень немногие высказывания, если не считать такого рода примечаний -- "извращение доктрин, сколь бы непостижимым оно ни казалось идеологам, представляется достаточно естественным наблюдателю социального механизма". На абстрактном уровне это, возможно, не более чем легкое изменение акцентов, хотя это различие чревато важнейшими последствиями. Если я не заблуждаюсь, именно в силу этого различия можно от очень близких исходных позиций перейти либо к относительно оптимистическому либерализму в старом смысле слова, либо к консервативным и весьма пессимистическим установкам. И мне кажется, что именно скептицизм относительно роли мнений ведет г-на д'Ювенела в конце концов к более консервативной позиции, чем этого требует его пылкая любовь к свободе, и в силу того же скептицизма он считает неизбежными гораздо большее число политических бедствий, чем это представляется оправданным. Но следует признать, что я не знаю ни одного исследователя власти, который бы не приходил к сходным пессимистическим заключениям. Глава четырнадцать. Бруно Леони (1913-1967) и Леонард Рид (1898-1983)
Бруно Леони: ученый
Даже через три месяца после трагического события трудно поверить, что среди нас нет Бруно Леони. Любящий и энергичный, он жил с такой интенсивностью, что, казалось, воплощал саму жизнь. Жестокая судьба забрала его в расцвете сил, когда его огромные достижения заставляли ожидать еще больших свершений. Природа столь богато одарила его, что даже после многих лет дружбы мне приходилось открывать новые и неожиданные грани большой личности того типа, который порой заставляет нас завидовать прошлым векам и столь редко встречается в наше время. Возможно, это судьба Италии -- по-прежнему порождать такие фигуры, которые напоминают нам о Ренессансе. Среди граждан мира, к которым он присоединился и среди которых я его встречал, он был уникален. Хотя этот лекционный зал будит живые воспоминания о том, как менее 4 лет назад мне выпала удача выступать здесь на заседании под председательством Бруно Леони -- и наслаждаться его и г-жи Леони гостеприимством в их доме в Турине -- но большей частью я встречал его в отдаленных уголках мира: в Соединенных Штатах и в Японии, а также в различных городах Европы [на встречах общества Монт Пелерин -- амер. изд.]. Поэтому мне нечего сказать о большей части его жизни в Павии, Турине и Сардинии, о чем вы знаете гораздо больше меня. Мне приходится ограничить себя рассказом о Бруно Леони как об ученом и международной фигуре, о человеке, который вызывал уважение и преданность там, где он появлялся, и я горжусь возможностью говорить о нем как от имени наших общих друзей во всем мире, так и от своего собственного. Мы все скоро обнаружили, что в этом человеке, которого мы знали как выдающегося ученого, стойкого приверженца свободы, неутомимого и изобретательного организатора, скрывается много всего другого. Мы скоро заметили проблески глубокого понимания искусств и музыки, особенно восточных искусств и восточной философии -- в том числе искусства жизни; мы обнаружили энергию и умение наслаждаться всеми утонченными и прекрасными вещами, которые способен предложить мир. Об этих многообразных гранях личности Бруно Леони, которые делали его общество столь привлекательным, я знаю не настолько много, чтобы подробно о них говорить. Ниже мне придется ограничиться тремя аспектами его работы, в которых в течении 10 или 12 лет наши усилия были параллельны, а в результате я узнал его довольно хорошо. Во-первых, это его усилия преодолеть раздробленность социальных наук, а в особенности попытки навести мост через ров, отделяющий исследования в области права от теоретических социальных наук. Во-вторых, его усилия создать удовлетворительные интеллектуальные основы для защиты индивидуальной свободы, в которую он так сильно верил. Третьим пунктом будут важные предложения, выдвинутые в его писаниях, которые, как мне представляется, указывают путь разрешения неких центральных интеллектуальных затруднений политической теории, которые Бруно Леони из-за нехватки времени не смог довести до конца, и которые останутся на долю тем, кто захочет почтить его память, продолжив работу с того места, где он остановился. Но прежде, чем я обращусь к моей главной задаче, я должен сказать несколько слов о природе наших отношений. Честь, оказанная мне вашим почтенным университетом, который попросил меня выступить по этому грустному поводу, требует объяснить ограниченность моих возможностей. Впервые я встретил Бруно Леони 14 лет назад в Чикагском университете, где я тогда преподавал [с 1950 по 1962 год Хайек входил в Комитет по социальной мысли Чикагского университета, где он вел регулярный семинар по разным проблемам социальных наук -- амер. изд.], а он туда приехал, я полагаю, чтобы, главным образом, основательнее познакомиться с англо-американским правом и политическими институтами. Мы вскоре обнаружили, что по множеству пунктов наши интересы и идеалы сходятся, а в результате он вошел в эту международную организацию ученых и публицистов, исследующую условия сохранения индивидуальной свободы, в общество Монт Пелерин, которое я организовал за несколько лет до этого и которому он впоследствии посвятил так много времени и энергии. Лет десять назад мы еще раз столкнулись в Калифорнии, в колледже Клермонт, на семинаре по проблемам свободы, где он читал курс лекций Свобода и право, о котором я расскажу затем подробнее. [Это был семинар института свободы и конкурентного предпринимательства в июне 1958 года. Лекции были изданы -- Freedom and the Law (Princeton, N.J.: D.Van Nostrand, 1961; reprinted, Los Angeles: Nash, 1972). -- амер. изд.] Тогда я впервые увидел способность Бруно Леони вдохновлять аудиторию, его неустанную готовность день и ночь обсуждать интеллектуальные проблемы, и его страстный интерес к жизни, который заставлял его использовать все предлагаемые обстоятельствами возможности для учебы и наслаждения. В связи с этим я позволю себе припомнить небольшой эпизод. Мы, преподаватели семинара, были достаточно заняты и ценили те три часа после полуденного приема пищи, когда у нас не было определенных обязанностей. Когда Бруно Леони стал регулярно исчезать в эти часы, мы сделали естественный вывод. Но как мы были неправы! Он нашел возможность брать уроки пилотирования на соседнем аэродроме и использовал часы отдыха для управления самолетом! Вскоре после этого я опять пересекся в Соединенных Штатах с Бруно Леони, на этот раз не лично, а в качестве преемника, наблюдавшего оставленное им глубокое впечатление: в 1961 году я сменил его в качестве заслуженного внештатного профессора в Центре исследований по политической экономии имени Томаса Джеферсона Виргинского университета. Но еще прежде мы тесно сошлись благодаря бесценным услугам, оказанным им в период кризиса уже упомянутому мною международному обществу, для которого он стал и оставался до своей смерти движущей силой. Поскольку Бруно Леони не имел отношения к началу конфликта, я не буду здесь говорить о природе этого кризиса, который возник, как это может случиться в любой группе, из-за некоторого несходства темпераментов, но в свое время угрожал разрушением общества. Избранный секретарем в разгар конфликта, и некоторое время после отставки президента будучи ответственным за дела, он твердой рукой ввел его в более спокойные воды и в новый период расцвета деятельности. Организованные им ежегодные собрания в Турине, в Кнок-сюр-мер в Бельгии, в Семмеринге в Австрии, в Стреза, в Токио и в Виши были самыми успешными из всех. Только 6 месяцев назад на последней встрече в Виши он был под общие приветственные возгласы избран президентом, став преемником Фридриха Лутца, Джона Джейкеса, Вильгельма Рёпке и меня. Каким ценным приобретением он был для общества, мы начинаем понимать только теперь, когда перед нами столь трагично встала задача найти ему преемника. Теперь я должен обратиться к его научной и литературной деятельности, из которых я хорошо знаю только опубликованное на английском и, лишь немного, на итальянском. Бруно Леони был одним из тех все более редких людей, которые обладают мужеством для выхода за профессиональные границы и пытаются увидеть проблемы общества в целом. При его поразительной энергии и быстроте восприятия, он сумел избежать опасности дилетантизма, которая так часто сопутствует широте интересов. Конечно, в первую очередь он был юристом, и, насколько я понимаю, был очень удачлив в юридической практике. Но даже в области права он был философом, социологом и историком права не в меньшей степени, чем мастером права. Он был также видным исследователем политики, что совершенно естественно для такого как он учителя конституционного права, столь интересующегося историей идей. Он также внес вклад в развитие политической науки в Италии и за рубежом основав обзорный журнал "Il politico", редактором которого он был многие годы. Но это никоим образом не исчерпывает широту его любознательности; я могу свидетельствовать, что он был далеко не посредственным экономическим теоретиком, и показал глубокое понимание некоторых методологических трудностей, созданных в этой области современным развитием. Это, конечно, было тесно связано с другим его главным занятием, которое я оставил напоследок -- с общей философией науки. Если я не ошибаюсь, он был одним из основных организаторов и одним из активнейших деятелей Centro di Studi Metodologici, и работа здесь привела его к фундаментальным проблемам общей философии. Список публикаций показывает всю широту его интересов. В лежащем передо мной списке больше 80 публикаций, из которых более 70 относятся к последним 20 годам. Большая их часть трудно доступна иностранцу и я с ними не знаком. Я надеюсь, что кто-нибудь соберет наиболее важные публикации в один том, чтобы почтить его имя. [Сборник работ Леони был подготовлен Pasquale Scaramozzino и опубликован в Италии как Omaggio a Bruno Leoni (Milan: A.Giuffre, 1969). -- амер. изд.] Следует особенно пожалеть, что он не нашел времени подготовить к публикации оригинальный и многообещающий первый том Lezioni di Filosofia del Diritto, изданный им на мимеографе в 1949 году для своих студентов, который посвящен истории мысли в классической античности. Особенно интересным и заслуживающим развития мне представляется его трактовка отношения между "physis"и "nomos" в мышлении древних греков. Судя по моему неполному знанию его работ, представляется, что наиболее важной была та, которая пока что опубликована только на английском и испанском [Имеется в виду Freedom and the Law, op. cit. Испанское издание La Libertad y la Ley (Buenos Aires: Centtro de Estudios Sobre la Libertad, 1961). Английское издание 1972 года с предисловием Артура Кемпа содержит некоторые дополнительные биографические материалы о Леони. -- амер. изд.]; здесь открыто и намеками определено будущее развитие, подняты вопросы, на которые теперь придется отвечать нам, его друзьям и поклонникам. В этой главной книге так много неординарного, и даже прямо противоположного общепринятому, что есть опасность, что она не будет принята с той серьезностью, которой заслуживает, или будет вовсе отвергнута, как капризная спекуляция человека, который был не в ладу со своим временем. Утверждение, что изобретение законодательства было ошибкой и что миру следовало бы отказаться от законодательства и полагаться исключительно на право, вырабатываемое судьями и юристами, как, собственно, и развивалось право в древнем Риме и обычное право в Англии -- искажает его главный тезис. Хотя ряд изолированных высказываний и тяготеет к такой интерпретации, Бруно Леони отчетливо ее отверг. Как мне представляется, он пытался высказать чрезвычайно важную мысль, что право, возникающее в ходе судебных разбирательств и в результате деятельности юристов, с неизбежностью обладает некоторыми свойствами, которые могут быть необходимы продукту законодательной работы, но которые там не всегда наличествуют -- при всей их существенности для сохранения индивидуальной свободы. В явном виде он выделил только некоторые из свойств, со природных праву, порождаемому судами, которые должны быть принадлежностью всех законов в обществе свободных людей. Он убедительно доказывает, и убедил в этом меня, что хотя кодификация права была предпринята ради большей определенности законов, она в лучшем случае увеличила определенность законов в краткосрочной перспективе (а я теперь не уверен, что и этого удалось добиться), но при этом привычка изменять закон с помощью механизмов законодательства явным образом уменьшила определенность законов в долгосрочной перспективе. Далее он показал, что характеристикой правил справедливого поведения, возникавших в ходе спонтанного процесса созидания права, было то, что эти правила были в сущности негативны, они очерчивали защищенное пространство каждого индивидуума и благодаря этому являлись эффективной гарантией индивидуальной свободы. Как и многие другие глубокие мыслители, он видел задачу права не столько в утверждении справедливости, сколько в предотвращении несправедливости. Он считал, что золотое правило этики -- "не делай другим того, чего бы ты не хотел по отношению к себе" -- наличествующее и в конфуцианстве и в христианстве -- должно бы служить негативным тестом для оценки справедливости правил поведения, и последовательное применение этого правила смогло бы приблизить нас к справедливости. Возможно, что богатство этой книги вполне откроется только тем, кто уже работает в близком направлении. Бруно Леони последним стал бы отрицать, что он просто указал путь, и что впереди еще много трудов, прежде чем семена новых идей зацветут. Внезапное окончание этой богатой жизни тем трагичнее, что мы видим, сколь многим он еще мог бы одарить нас. Я счел своей главной задачей сегодня рассказать о Бруно Леони, как об ученом, не только потому, что я лучше всего знал его именно с этой стороны, но и потому, что раз его работа осталась незавершенной, есть опасность, что она не будет воспринята должным образом. Но для тех, кто был близок к нему, это покажется лишь малой частью Бруно Леони -- человека. Даже для тех, кто знал его главным образом по профессиональным контактам, этот мир без него обеднеет. Я могу представить, что эта потеря должна значить для его учеников, которым он уделял столь много своей преданности и энергии. Но наше глубочайшее сочувствие должно быть отдано тем, для кого он был центром жизни, для кого он создал не только красивый и гармоничный дом, но и отдал всю доброту своего благородного сердца, и где он оставил невосполнимую пустоту. Мы знаем, что он был много больше, чем ученый; но мы надеемся, что дань нашего сожаления о Бруно Леони как об ученом, хотя бы отчасти утешит тех, кого он здесь оставил. Леонард Рид Институт, созданный Леонардом Ридом, позволяющий ему оказывать столь широкое влияние, носит скромное и прозаическое имя -- Фонд экономического образования [The Foundation for Economic Education, Irvington-on-Hudson, New York. FEE продолжает образовательную работу и публикует ежемесячный журнал The Freeman -- амер. изд.]. Я уверен, что, при его безошибочном чутье на такого рода вещи, он выбрал имя, наиболее способствующее процветанию. При этом я намерен утверждать, что это имя обрисовывает цели организации -- и работы Леонарда Рида -- слишком узко, что он ставил перед собой гораздо более высокие цели. Мне представляется, что при такого рода оказии нам следует попытаться с большей полнотой произнести -- что же собой представляет то, о чем он, и, полагаю, все собравшиеся здесь сегодня вечером, так заботятся. Мне не справиться с этой задачей в немногих словах, но я постараюсь занять меньше времени, чем мне отведено. Впрочем, я попытаюсь выразить основную идею в восьми словах. Сначала я кратко сформулирую идею, а затем прокомментирую ее по частям. Я убежден, что Фонд экономического образования и Леонард Рид как его глава, также как все его соратники и друзья привержены не более и не менее, как защите нашей цивилизации от ошибок интеллекта (The defence of our civilisation against intellectual error). Это не просто высокопарная фраза, которую нередко заготавливают для такого рода событий. Я сказал то, что буквально имел в виду, и считаю это лучшим выражением нашей общей задачи. Я тщательно выбрал каждое из этих слов и теперь попытаюсь объяснить, что я имел в виду. Во-первых, я хотел подчеркнуть, что существующие политические тенденции угрожают не просто экономическому процветанию, не только лишь нашему комфорту или темпам экономического роста. Под угрозой нечто гораздо большее. Вот почему здесь сказано "наша цивилизация". Современный человек гордится тем, что он построил эту цивилизацию, как если бы он при этом осуществил некий заранее задуманный план. Фактом, конечно, является то, что если бы когда-либо в прошлом человек на базе существовавших тогда знаний создал план будущего и затем осуществил его, мы не были бы там, где сейчас находимся. Мы были бы не только гораздо более бедными, мы не только были бы менее разумными, но мы также были бы менее любезными и менее нравственными: на деле, нам пришлось бы и сейчас жестоко воевать друг с другом просто ради сохранения собственной жизни. Не только ростом наших знаний, но и совершенствованием наших нравов -- а я полагаю, что они таки усовершенствовались, и в особенности возросла забота о наших ближних -- мы обязаны не тому, что кто-то запланировал такое развитие, но тому, что в преимущественно свободном обществе возобладали определенные тенденции просто потому, что они вели к мирному, упорядоченному и прогрессирующему обществу. Этот процесс роста, которому мы обязаны возникновением того, что мы больше всего ценим, включая рост наших собственных ценностей, сегодня нередко изображается как нечто недостойное разумных существ, поскольку он не направлялся отчетливым проектом, учитывающим цели людей. Но наша цивилизация является, преимущественно, непредвиденным и ненамеренным результатом нашей приверженности определенным моральным и правовым нормам, которые никогда и никем не были для этого "изобретены", но возникли потому, что общества, которые шаг за шагом развивали эти нормы, на каждом шагу оказывались сильнее других групп, где действовали иные правила, менее способствующие росту цивилизации. Рационалистический конструктивизм, столь характерный для нашего времени, восстает как раз против этого факта, которому мы обязаны большинством наших достижений. Со времен так называемого Века разума, все возрастающему числу людей кажется, что недостойно разумному существу подчиняться в своих действиях моральным и правовым нормам, которые он не вполне понимает; возникло требование, что нам не следует рассматривать какие-либо правила как обязательные для себя, если только они ясно и осознанно не служат достижению определенных, предвидимых целей. Бесспорно, что мы очень медленно и постепенно начинаем понимать, каким образом правила, которым мы традиционно подчиняемся, формируют социальный порядок, в котором возникла цивилизация. Но к настоящему времени безрассудная критика того, что представляется "не рациональным", принесла такой вред, что порой мне кажется, что то, что я склонен назвать разрушением ценностей в силу научной ошибки, было великой трагедией нашего времени. Ошибки такого рода почти неизбежны, если исходить из концепции, что человек сознательно создал, или, по крайней мере, должен был создать свою цивилизацию. Но, тем не менее, они являются интеллектуальными ошибками, которые обещают разрушить ценности, роли которых мы так и не понимаем, но которые при этом являются неотъемлемыми основами нашей цивилизации. Это приводит нас ко второй части моего определения нашей задачи. Когда я подчеркнул, что мы должны бороться против искренней интеллектуальной ошибки, я хотел подчеркнуть, что мы не должны забывать, что наши оппоненты зачастую являются высокой пробы идеалистами, и их злотворные учения вдохновлены благородными идеалами. Мне представляется, что худшая ошибка, которую может совершить борец за наши идеалы, это приписать нашим оппонентам бесчестные или аморальные цели. Я знаю, что иногда трудно не прийти в раздражение из-за чувства, что в большинстве своем это просто сброд безответственных демагогов, которым следовало бы быть поразумнее. Но хотя многие из последователей тех, кого мы считаем лжепророками, являются либо явными глупцами, либо вредными смутьянами -- следует сознавать, что они заимствовали свои концепции у серьезных мыслителей, конечные идеалы которых не так уж сильно отличаются от наших собственных, и которые разнятся от нас не столько ценностными ориентациями, сколько средствами их реализации. Я и в самом деле глубоко убежден, что различие между нами и нашими оппонентами относительно подлежащих реализации конечных ценностей не столь уж велико, как принято думать, и что главное несходство между нами -- в интеллектуальных различиях. Мы, по крайней мере, убеждены, что у нас есть отсутствующее у наших оппонентов понимание сил, сформировавших цивилизацию. Но если нам еще не удалось убедить их, то может быть причина в том, что наши аргументы недостаточно хороши, что мы еще не смогли сделать явными основания, на которых покоятся наши выводы. А значит нашей главной задачей по-прежнему должно быть совершенствование аргументов, на которых покоится наша приверженность свободному обществу. Впрочем, мое выступление не должно превращаться в лекцию. Я затронул эти чисто интеллектуальные проблемы просто, чтобы сказать, что хотя среди нас есть некоторое число тех, кто посвятил себя исключительно этим интеллектуальным проблемам -- и часто выражают результаты в форме, понятной только специалистам, и есть немало практических деятелей, которые верно и отчетливо видят, что не все в порядке с господствующими ныне убеждениями, вряд ли найдется другой человек, который бы видел главные проблемы нашего времени как проблемы интеллектуальные и, одновременно, был бы настолько знаком с мышлением людей практики, чтобы суметь изложить решающие аргументы на языке, внятном мирянам. Положение Леонарда Рида, пожалуй, уникально как раз потому, что он обладает обоими этими свойствами. Охотно признаюсь, что я только постепенно и медленно обнаружил это. Когда 21 год назад ряд друзей помог мне организовать это собрание на Монт-Пелерин в Швейцарии, некоторые из них сказали мне, что в Соединенных Штатах есть человек, поразительно искусный в изложении либертарианских идей для широкой публики. А поскольку целью этой группы с самого начала было не ограничивать свой круг одними теоретиками, но включить и тех, кто сможет истолковать их выводы для широкой публики, Леонард Рид показался мне идеальным кандидатом в наше общество. Он безусловно выполнил все, что от него ожидали, но начав смотреть на него под этим углом зрения, я еще некоторое время продолжал видеть в нем исключительно истолкователя, а не оригинального мыслителя -- в конце концов, всегда находится кто-нибудь, кто способен изложить вещи простыми словами. Я хочу использовать этот случай для публичного признания, что мое представление о Леонарде Риде было ошибочным, и что за прошедшие двадцать с лишним лет мое мнение о нем постоянно менялось. Я обнаружил, что он не только гораздо больше большинства из нас знал о мнениях, управляющих текущей политикой, а значит, гораздо лучше обнаруживал заблуждения общественного мнения -- я-то лишь стремился к этому, но не знал, как этого достичь. Но я обнаружил также, что он был глубоким и оригинальным мыслителем, который скрывал глубину своих выводов, облекая их в слова домашнего, повседневного языка, а те из нас, кто временами, и не без снисходительности, видели в нем популяризатора, обнаружили, что они много чему могут у него поучиться. В нашем кругу, где не академические люди все еще составляют малое меньшинство, Леонард Рид стал не только одним из любимых, но и одним из самых уважаемых членов, которому доверяли не только распространение благой вести, но и участие в развитии идей. Поэтому ничто не доставляет мне большего удовольствия, чем возможность присоединиться к этому чествованию его достижений. И будучи младше его всего лишь на несколько месяцев, могу позволить себе личное замечание, что особенно радует здесь возможность ожидать от него в будущем еще большего, чем он достиг в прошлом. Комментарии (5)Последние темы:
Глава шесть. Шамс (1899-1955) и Ричард фон Стригл (1891-1942) | Судьбы Либерализма | Издательское предисловие |
Все темы
|
| Московский Либертариум, 1994-2020 |