 |
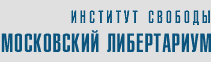 |
|
||
Часть 2. Может ли капитализм выжить?ОглавлениеПролог
Может ли капитализм выжить? Нет, не думаю. Но мое мнение -как и мнение любого другого экономиста, высказывавшегося на эту тему, само по себе не представляет никакого интереса. В любом прогнозе общественного развития мы ценим не положительный или отрицательный вывод, сделанный на основе определенных фактов и аргументов, а только сами эти факты и аргументы. Именно в них содержится все научное, что есть в окончательном выводе. Все остальное — это не наука, а пророчество. Экономический или любой другой анализ может лишь обнаружить тенденции, характерные для наблюдаемого объекта, мы не можем узнать с его помощью, что случится с этим объектом в будущем, в наших силах лишь предположить, что мажет случиться, если тенденции сохранятся такими же, как в период наблюдения, а никакие иные факторы не будут вмешиваться. В этом, и ни в чем другом, состоит всякая "неизбежность" или "необходимость". Все это следует иметь в виду, читая то, что будет изложено ниже. Но надежность результатов нашего исследования ограничена и другими обстоятельствами. Общественная жизнь зависит от множества переменных, большое число которых вовсе не поддается измерению. В этих условиях весьма сомнительна даже возможность правильного диагноза, не говоря уже о прогнозе. Однако эти сложности тоже не следует преувеличивать. Впоследствии мы убедимся, что основные черты современного общества соответствуют некоторым выводам, которые, хотя и требуют многочисленных уточнений и оговорок, не могут быть отвергнуты на том основании, что их нельзя так же строго доказать, как теоремы Эвклида. И еще один момент, прежде чем мы приступим к делу. Тезис, который я постараюсь доказать, заключается в том, что капиталистическая система не погибает от экономического краха, но зато сам ее успех подрывает защищающие ее общественные институты и "неизбежно" создает условия, в которых она не сможет выжить и уступит место социализму. Таким образом, мой конечный вывод не отличается от того, что пишут большинство социалистов и, в частности, все марксисты, хотя моя аргументация совсем не такая, как у них. Но из этого вовсе не следует, что я — социалист. Мой прогноз не подразумевает, что я приветствую такое развитие событий. Если врач говорит, что больной умирает, это не значит, что он желает такого исхода. Можно ненавидеть социализм или, по крайней мере, относиться к нему с холодным критицизмом, но все же предвидеть его приход. Так поступали и поступают многие консерваторы. С другой стороны, не всякий социалист может согласиться с нашим выводом. Можно любить социализм, верить в его экономическое, культурное и нравственное превосходство и в то же время не верить, что в капиталистическом обществе действует тенденция к саморазрушению. Есть и такие социалисты, которые верят в то, что капиталистический строй набирает силу и надежды на его крах совершенно беспочвенны. Глава 5. Темпы роста совокупного продукта
Окружающая капитализм атмосфера враждебности, существование которой мы сейчас объясним, сильно затрудняет рациональную оценку его экономических и культурных результатов. К настоящему времени общественное мнение настолько рассердилось на капитализм, что осуждение его, всего им созданного стало уже общим местом, чем-то вроде правила хорошего тона. Каждый писатель или оратор, каковы бы ни были его политические убеждения, стремится соответствовать этому этикету, подчеркивать свое критическое отношение, обеспокоенность, сомнение в достижениях капитализма, отвращение к капиталистическому интересу и солидарность с интересами антикапиталистическими. Всякая другая позиция признается не просто глупой, но и антиобщественной, считается аморальным раболепством. Это, конечно, совершенно естественно. Всякая новая религия утверждается именно таким образом. Но это, понятно, отнюдь не облегчает задачу аналитика: думаю, что в 300 году н.э. было бы непросто растолковать ярому приверженцу христианства, в чем заключаются достижения античной цивилизации. В такое время, с одной стороны, с порога отвергаются самые очевидные истины [Есть и другой способ отделаться от очевидной, но неудобной истины. Он состоит в том, чтобы презирать ее за тривиальность. Этого вполне достаточно для дискредитации истины, поскольку широкая публика обычно не сознает, что таким способом просто маскируется невозможность ее опровержения. Любопытный феномен социальной психологии!]. С другой стороны, терпимо воспринимаются или даже приветствуются очевидные глупости. Первым показателем состояния экономики является совокупный продукт — совокупность товаров и услуг, произведённых за единицу времени — год, квартал или месяц. Изменение этого показателя экономисты пытаются измерить с помощью индекса, который строится из показателей производства отдельных товаров. "Если бы мы придерживались строгой логики, никто не стал бы строить или использовать какой-либо индекс производства" [Burns А.F. Рroduction Тrends in the United States Since 1870. Р. 262.], поскольку не только данные и техника построения такого индекса, но и сама идея совокупного продукта, состоящего из разных товаров, удельный вес которых все время меняется, являются весьма сомнительными [Здесь мы не можем заняться этой проблемой. Кое-что будет сказано в следующей главе. Более полное изложение см. в моей книге "Business Сусles". Ch. IX]. Тем не менее я считаю, что этот метод достаточно надежен, если мы хотим получить самое общее представление. Для США достаточно надежные и многочисленные статистические ряды, позволяющие построить такой индекс, существуют со времен Гражданской войны. Используя так называемый индекс совокупного производства Дэя-Персонса [Рersons W. W. Forecasting Business Cycles.Сh. XI], мы можем установить, что с 1870 по 1930 г. среднегодовой темп прироста составил 3,7 %, а в обрабатывающем секторе — 4,3 %. Давайте сосредоточим свое внимание на первой цифре и постараемся наглядно представить себе, что она означает. Для начала нам придется скорректировать эту величину: поскольку удельный вес промышленного оборудования в совокупном продукте постоянно рос, то часть последнего, предназначенная для потребления, не могла расти тем же темпом, что и весь продукт. Это надо учесть. Я думаю, что поправка не должна составлять более 1,7 % [На самом деле эта поправка намного завышена. Ср. также оценки профессора Ф.К.Милла: 3,1 % ежегодного прироста в 1901-1913 гг. и 3,8 % — в 1922-1929 гг. (без учета продукции строительства; см. Мill F.С. Есоnomic Теndencies in the United States], таким образом получаем двухпроцентный годовой рост "располагаемого продукта" (сложные проценты). Теперь предположим, что капиталистическая машина продолжает производить продукт с тем же темпом прироста на протяжении следующей половины века начиная с 1928 г. Против этой предпосылки можно выдвинуть несколько возражений, которые будут рассмотрены впоследствии. Однако ее нельзя отвергнуть на том основании, что в период 1929-1939 гг. капитализм уже не мог выйти на этот уровень роста. Депрессия, продолжавшаяся с четвертого квартала 1929 г. по третий квартал 1932 г., не может означать, что механизм капиталистического производства сломался навсегда: депрессии такой силы регулярно случались в прошлом — примерно каждые 55 лет. Последствия одной из них (1873-1877 годов) были, естественно, учтены при вычислении среднего темпа прироста, равного 2 %. Медленное оживление (до 1935 г.), слабый подъем (до 1937 г.) и последующий спад можно легко объяснить трудностями приспособления к новой фискальной политике, новому трудовому законодательству и общему пересмотру государственной политики по отношению к частному предпринимательству. Влияние всех этих факторов можно в некотором смысле (см. ниже) отделить от функционирования производственного механизма как такового. Поскольку здесь особенно важно избежать недопонимания, я хочу подчеркнуть, что последний абзац вовсе не содержит ни критики "Нового курса" [Имеется в виду экономическая политика президента ФД.Рузвельта. — Прим. ред.], ни вывода, который я, кстати, считаю верным, но пока в нем не нуждаюсь, что политика такого типа в долгосрочном аспекте несовместима с эффективным функционированием системы свободного предпринимательства. Сейчас я хочу лишь сказать, — и думаю, в этом со мной должны и могут согласиться даже самые ревностные приверженцы "Нового курса", — что такие масштабные и резкие перемены в общественной жизни не могут не влиять на экономику в течение некоторого времени. Иначе я просто не могу объяснить, почему страна, у которой были наилучшие шансы на быстрое оживление, оказалась как раз в наихудшем положении. Наш вывод подтверждает в определенном смысле аналогичный пример Франции. Таким образом, события 1929-1939 гг. сами по себе не могут служить основанием для того, чтобы игнорировать наши аргументы, которые к тому же в любом случае могут оказаться полезными для понимания прошлых событий. Итак, если производство потребительских товаров и услуг в условиях капиталистического порядка шло бы после 1928 г. тем же темпом, что и раньше, т.е. возрастало бы в среднем на 2 % в год, то в 1978 г. оно примерно в 2,7 (точнее, в 2,6916) раза превысило бы уровень 1928 г. Для того чтобы определить, каким будет соответствующий прирост реального дохода на душу населения, вначале заметим, что наш темп прироста совокупного продукта можно примерно приравнять темпу прироста совокупного личного денежного дохода, идущего на потребление ["Потребление" включает приобретение потребительских товаров длительного пользования: автомобилей, холодильников, жилых домов. Мы не делаем различия между потребительскими товарами кратковременного пользования и так называемым "потребительским капиталом"], с поправкой на изменение покупательной способности доллара. Во-вторых, мы должны иметь какой-то прогноз ожидаемого роста населения. Мы выберем оценку Слоу-на: 160 млн. на 1978 г. Тогда среднедушевой доход возрастет за эти 50 лет более чем в 2 раза (в 1928 г. он составлял 650 долл.) и, значит, в 1978 г. он будет составлять около 1300 долл. покупательной силы 1928 г [Это означает, что реальный доход на душу населения будет увеличиваться на 1,375 % ежегодно. Выяснилось, что в Англии за сто лет, предшествовавших I мировой войне, этот показатель был точно таким же (см. расчеты лорда Стемпа в кн. Wealth and Тахаble Сараcity). Вряд ли это совпадение может что-то значить. Но, по крайней мере, оно показывает, что вычисленная нами цифра не является заведомо абсурдной. В 241-м номере "National Industrial Conference Воаrd Studies" (табл. 1, строки 6-7) мы обнаруживаем, что "реализованный подушевой национальный доход", вычисленный с учетом изменения индекса стоимости жизни Федерального резервного банка Нью-Йорка и National Industrial Conferenсе Воаrd, в 1929 г. был примерно в 4 раза больше, чем в 1829 г., — аналогичный результат, в надежности которого, правда, есть еще более серьезные сомнения]. Некоторые читатели, возможно, сочтут, что необходимо сказать несколько слов о распределении совокупного денежного дохода. До начала XX в. многие экономисты, как и Маркс, полагали, что капиталистический процесс изменяет долю различных слоев населения в общем доходе: богатые становятся богаче, а бедные беднее (хотя бы относительно). Однако такой тенденции не существует. Какие бы статистические показатели ни использовались, придется сделать вывод, что внешний вид пирамиды доходов существенно не изменился за период наблюдений, а для Англии он охватывает весь XIX в. [См. Stamp. Ор. cit. Тот же феномен можно наблюдать во всех странах, о которых есть статистические данные, если очистить последние от циклических колебаний различных периодов. Показатель распределения доходов или неравенства доходов, предложенный Вильфредо Парето, может быть подвергнут критике. Но факт остает ся фактом и не зависит от недостатков индекса]. Постоянной оставалась и доля в доходе заработной платы работающих по найму. Поэтому, рассуждая о том, что произойдет, если капиталистический механизм будет и в дальнейшем работать без постороннего вмешательства, мы не имеем никаких оснований предполагать, что в 1978 г. распределение доходов или их дисперсия относительно средней будут существенно отличаться от параметров 1928 г. Полученный нами результат можно интерпретировать следующим образом:если капитализм сможет еще 50 лет развиваться так же, как до сих пор, он покончит с тем, что сегодня называется бедностью, даже в самых низших слоях населения, за исключением отдельных патологических случаев. И это еще не все. Увеличение нашего индекса, каковы бы ни были его последствия, явно не полностью отражает будущий рост. Прежде всего при его расчете не учитывается благо под названием "добровольный отдых". Базой для исчисления индекса является производство основных потребительских и промежуточных продуктов, появление же новых благ отражается в нем неадекватно или не отражается вовсе. По той же причине не находит в нем отражения повышение качества продуктов, хотя во многих случаях прогресс достигается именно на этом направлении. Невозможно адекватно измерить разницу между автомобилем 1940-го и 1900-го годов и определить, насколько упала цена на единицу полезного эффекта. Может быть, легче было бы оценить степень использования данного количества сырья или полуфабрикатов: стальной слиток или тонна угля сегодня используются во много раз более эффективно, чем шестьдесять лет назад. Но в этом направлении сделано очень мало. Не знаю, насколько изменился бы наш индекс, если бы мы смогли его скорректировать с учетом всех этих факторов, но ясно одно: он бы увеличился, и это гарантирует наши оценки от какого-либо пересмотра в сторону уменьшения. К тому же, даже если бы мы располагали методом измерения технологической эффективности продуктов промышленности, это все равно не позволило бы нам учесть, какое значение это имело для человеческого достоинства, интенсивности и приятности человеческой жизни — словом; для всего того, что экономисты прошлого поколения называли "удовлетворением потребностей". Ведь в конце концов именно это имеет для нас решающее значение и является истинным "продуктом" капиталистического производства. Именно отсюда наша заинтересованность в индексе производства, составляющих его фунтах и галлонах, которые сами по себе вряд ли заслуживают нашего внимания. Но вернемся к нашим двум процентам. Для правильной интерпретации этой цифры важно еще одно обстоятельство. Я уже говорил о том, что доля отдельных групп населения в национальном доходе в течение последней сотни лет оставалась, грубо говоря, постоянной. Однако это справедливо лишь в денежном измерении, если же мерить в реальных величинах, то удельный вес групп с низкими доходами возрос. Капиталистический механизм — это прежде всего механизм массового производства, что означает также и производство для масс. Поднимаясь же вверх по шкале индивидуальных доходов, мы обнаружим, что все большая их часть расходуется на индивидуальные услуги и товары ручного производства, цены которых зависят прежде всего от ставки заработной платы. Доказать это очень просто. Современному рабочему доступно кое-что, чем с удовольствием владел бы, если бы мог, сам Людовик XIV, к примеру, услуги современного дантиста. Но в целом король-солнце вряд ли мог бы много выиграть от достижений капитализма. Даже скорость передвижения была не так уж важна для столь достойного джентльмена. Электрическое освещение не столь привлекательно для того, кто имеет деньги, чтобы купить достаточное количество свечей и заплатить слугам, которые за ними присматривают. Типичные достижения капитализма — это дешевая ткань: хлопчатобумажная и вискозная, дешевые ботинки, автомобили и т.д., а вовсе не такие усовершенствования, которые нужны богатым людям. У королевы Елизаветы [Естественно, автор имеет в виду Елизавету I (1533-1603). — Прим. ред.] были шелковые чулки. Капиталистическое развитие обычно состоит не в том, чтобы изготовить большое количество чулок для королевы, а в том, чтобы, затрачивая на их изготовление все меньше и меньше усилий, сделать их доступными для девушек-работниц. Этот факт предстанет перед нами еще более убедительно, если мы рассмотрим длинные волны экономической активности, анализ которых наилучшим образом раскрывает природу и механизм капиталистического процесса. Каждая такая волна состоит из какой-либо "промышленной революции" и периода освоения ее достижений. Например, даже располагая весьма скудной информацией, мы можем статистически и исторически выделить фазу подъема длинной волны в конце 1780-х годов, ее высшую точку около 1800 г., а затем спад и некоторое оживление, которое окончилось к началу 1840-х годов. Это и была "промышленная революция", столь близкая сердцам авторов учебников. Однако за ней последовала очередная революция, породившая очередную длинную волну, которая набирала силу в 40-е годы и достигла высшей точки незадолго до 1857 г., а затем убывала до 1897 г. За ней — еще одна, достигшая пика около 1911 г. и сходящая на нет в настоящее время [В литературе, посвященной экономическим циклам, эти "длинные волны" связаны прежде всего с именем Н.Д.Кондратьева]. Эти революции периодически обновляют структуру промышленности, внедряя новые методы производства: механизированные и электрифицированные фабрики, химический синтез и пр.; новые товары; услуги железных дорог, автомобили, электрическое оборудование; новые организационные формы — слияния компаний; новые источники сырья: шерсть с берегов Ла-Платы, американский хлопок, медь из Катанги; новые торговые пути и рынки сбыта. Изменения в промышленности порождают колебания, задающие общий тон деловой жизни: в начале этих перемен происходит оживление инвестиций и наступает "процветание", которое, конечно, прерывается спадом более короткого цикла, накладывающегося на фоновые долгосрочные колебания. Когда процесс изменений подходит к концу, а их результаты широким потоком поступают на рынок, устаревшие элементы промышленной структуры устраняются и господствует "депрессия". Так возникают продолжительные периоды роста или падения цен, процентных ставок, занятости и т.д., которые являются составной частью механизма постоянного обновления производственного аппарата. Этот процесс на первый взгляд ведет к хаосу, убыткам и безработице, однако он всякий раз порождает лавину потребительских благ, поток которых постоянно расширяется и углубляется, увеличивая тем самым реальные доходы потребителей. Хорошенько присмотревшись к этим лавинам, мы установим, что каждая из них состоит из товаров массового потребления и увеличивает покупательную способность каждого доллара заработной платы в большей степени, чем покупательную способность любого другого доллара. Иными словами, капиталистический процесс не случайно, а в силу самого своего механизма все более поднимает уровень жизни масс. Это происходит через цепь превратностей, тяжесть которых пропорциональна скорости продвижения вперед, но факт остается фактом: капиталистическое производство одну за другой успешно решает все проблемы обеспечения масс различными товарами [Это, разумеется, относится также к сельскохозяйственным продуктам, дешевое массовое производство которых целиком и полностью является заслугой крупных капиталистических предприятии: железных дорог, транспортных компаний, производителей сельскохозяйственных машин и удобрений]. Наиболее важная из остающихся — проблема жилья — также будет скоро решена посредством сооружения домов из готовых полуфабрикатов. Но и это еще не все. Наша оценка экономического строя была бы неполной, — и, кстати, немарксистской, — если бы мы остановились на продукте, который соответствующий экономический механизм доставляет различным группам общества, и не упомянули бы те явления, которые конвейер не производит сам, но доставляет для них экономические и политические средства, а также все достижения в области культуры, порождаемые капиталистическим менталитетом. Рассмотрение последних мы отложим до гл. XI, а сейчас обратимся к некоторым аспектам первых. Тактические соображения и ожесточенная атмосфера борьбы за социально ориентированное законодательство затрудняют понимание двух достаточно очевидных фактов. Во-первых, часть этого законодательства возможна только на базе успешного развития капитализма в предыдущий период (т.е. на основе богатства, созданного ранее капиталистическими предприятиями). Во-вторых, многое из того, что развито и обобщено в социально ориентированном законодательстве, было первоначально внедрено самим капиталистическим классом. Оба факта надо занести в актив капиталистической системе. Теперь давайте представим, что эта система продолжит свое развитие тем же темпом, что и в шестьдесят лет, предшествовавших 1928 г., и среднегодовой доход на душу населения действительно достигнет уровня 1300 долл. Совершенно очевидно, что в таких условиях все желания сторонников социальных реформ и даже многие их причуды будут исполнены либо автоматически, либо без заметного вмешательства в капиталистический процесс. В частности, полностью обеспечить безработных будет тогда не только возможно, но и легко. Конечно, безответственность, проявляющаяся в создании безработицы и в последующем финансировании ее за общественный счет, всегда будет порождать неразрешимые проблемы. Но при наличии элементарной предусмотрительности выделение в среднем 16 млрд. долл. в год на выплаты 16 миллионам безработных, включая членов их семей (10 % населения), не будет такой уж непосильной задачей, если национальный доход, идущий на потребление, составит порядка 200 млрд. долл. (в долларах 1928 года). Как известно, безработицу все считают одной из самых важных проблем капитализма, а некоторые критики даже основывают на этом показателе свой приговор капиталистической системе. Поэтому хотел бы объяснить читателю, почему это явление играет сравнительно небольшую роль в моих аргументах. Я не думаю, что безработица — одно из тех зол, которые может устранить само капиталистическое развитие (как, например, бедность). Не думаю также, что существует какая-либо долговременная тенденция роста безработицы. Единственный достаточно длительный статистический ряд — процент безработных среди членов английских тред-юнионов — покрывает 60 лет до I мировой войны. Это типично циклический показатель, не имеющий тренда [Его часто изображают на графиках и анализируют. См., например, Pigou А.С. Industrial Fluctuations или мою книгу "Business Сусles". Для любой страны можно выделить некоторый неустранимый минимум и циклические компоненты, наиболее существенный из которых имеет период колебаний 9-10 лет]. С точки зрения теории это также вполне объяснимо, и мы можем с полной уверенностью исходить из того, что такое поведение показателя безработицы было характерно для периода, предшествовавшего 1913 г. В послевоенный период в большинстве стран безработица превышала нормальный уровень даже до 1930 г. Но этот факт и тем более безработицу 30-х годов можно объяснить причинами, не имеющими ничего общего с какой-либо долговременной тенденцией к росту доли безработных, вытекающей из самого капиталистического механизма. Выше я уже упоминал о промышленных революциях, столь характерных для капиталистического процесса. Повышенный уровень безработицы присущ всякому периоду адаптации, который следует после "фазы процветания" этих революций. Так было в 1820-х и 1870-х, после 1920-х годов наступил очередной такой период. Это явление — чисто временное в том смысле, что из него нельзя сделать никаких выводов на будущее. Его усугубили другие факторы: влияние войны, нарушение внешнеторговых потоков, политика заработной платы, некоторые институциональные изменения, которые способствовали росту показателя безработицы, фискальная политика в Англии и Германии (а также с 1935 г. в США). Некоторые из них, без сомнения, являются признаками новой "атмосферы", в которой капитализм будет работать менее эффективно. Но это уже другой вопрос и его мы рассмотрим ниже. Разумеется, безработица была и остается бичом общества, будь то временная или длительная, возрастающая или неизменная. В следующей части книги мы отметим, что возможность ее устранения выдвигается в качестве одного из аргументов в пользу социалистического строя. Но настоящей трагедией, по-моему, является не безработица сама по себе, а безработица плюс невозможность обеспечить безработных, не ставя под угрозу условия дальнейшего экономического развития. Если бы безработица не отражалась на частной жизни безработных, все страдания и деградацию человека, разрушение его ценностей, которые мы связываем с безработицей, но не с растратой производственных ресурсов, можно было бы устранить, и безработица перестала бы быть таким пугалом. Приговор критиков гласит, что в прошлом примерно до конца XIX столетия капиталистический строй не только не желал, но и не мог обеспечить такой порядок вещей. Но если он сохранит свой прежний темп развития еще на полвека, то этот приговор отправится на склад забытых вещей вместе с детским трудом, 16-часовым рабочим днем и одной комнатой на пятерых. Все эти вещи уместно вспомнить, говоря о социальных издержках прошлого капиталистического развития, но их вовсе не обязательно учитывать, обсуждая альтернативы на будущее. Сейчас мы находимся на промежуточной ступени между немощью ранних стадий эволюции капитализма и мощью его зрелой стадии. По крайней мере, в этой стране [Здесь и далее имеются в виду США. — Прим. ред.] большая часть данной задачи может быть решена без чрезмерного перенапряжения всей экономической системы. Трудности, как мне кажется, заключаются не столько в нехватке средств для того, чтобы стереть наиболее мрачные тона картины, сколько в том, что, с одной стороны, антикапиталистическая политика в 30-е годы повела к дополнительному увеличению безработицы, а с другой стороны, в том, что общественное мнение, как только оно осознает проблему безработицы, тут же начинает настаивать на экономически иррациональных методах финансирования пособий и расточительных способах организации помощи безработным. Аналогичные аргументы можно отнести и к будущим, а в значительной степени и к настоящим возможностям, которые создает эволюция капитализма для заботы о больных и стариках, образования, гигиены и тд. Вполне разумно было бы также ожидать, что все большее число товаров будут покидать разряды экономических благ и становиться доступными практически для всех, обеспечивать полное удовлетворение потребностей. Этого можно достичь либо путем соглашения между государственными органами и промышленными концернами, либо путем национализации и муниципализации, которые, несомненно, будут прогрессировать, даже если в остальном экономическая система капитализма останется нетронутой. Глава 6. Возможность капитализма
Аргументы, изложенные в предыдущей главе, казалось бы, можно опровергнуть возражением, столь же убийственным, сколь и очевидным. Мы экстраполировали на будущее средние темпы прироста совокупного производства, полученные для 60 лет, предшествовавших 1928 г. До тех пор, пока с помощью этого приема я иллюстрировал значение прошлых достижений капитализма, это не смущало меня как статистика. Но предположив, что в ближайшие пятьдесять лет мы будем наблюдать примерно такие же темпы прироста, я, очевидно, совершил статистическое преступление: разумеется, состояние производства на протяжении некоего исторического периода само по себе вовсе не дает нам права на какую-либо экстраполяцию (тем более на 50 лет) [Это в принципе относится к любой исторической статистике, поскольку само понятие исторического процесса предполагает необратимые изменения в структуре экономики, которые неизменно должны были затронуть любые существующие в ней количественные закономерности. Поэтому даже самая скромная эстраполяция требует теоретического оправдания и, как правило, статистической обработки. Однако в нашем случае мы имеем то преимущество, что в рамках нашего всеохватывающего показателя причуды различных статистических рядов могут компенсировать друг друга]. Поэтому необходимо вновь подчеркнуть, что с помощью экстраполяции я вовсе не собираюсь прогнозировать будущее движение производства. Она предназначена лишь для того, чтобы, помимо показа прошлых достижений, дать понять, на что способна капиталистическая машина, если она и дальше будет работать в том же духе. Случится ли это в действительности — особый вопрос, и ответ на него будет дан независимо от экстраполяции. Для этого мы предпримем сейчас долгое и сложное исследование. Прежде чем обсуждать возможность капитализма повторить свои прошлые успехи, мы должны выяснить, в каком смысле достигнутые темпы прироста действительно отражают эти достижения. Безусловно, период, к которому относятся наши данные, — это период сравнительно беспрепятственного развития капитализма. Но из этого еще не следует, что между темпами роста и капиталистическим механизмом имеется существенная связь. Для того чтобы поверить в то, что это не просто совпадение, мы должны, во-первых, объяснить, какая связь существует между капиталистическим строем и наблюдавшимися темпами прироста производства, и, во-вторых, доказать, что данные темпы прироста следует отнести именно на счет этой связи, а не каких-либо благоприятных внешних условий, к капитализму никакого отношения не имеющих. Эти две проблемы надо решить до того, как вопрос о "возможности повторить прошлые результаты" вообще может быть поставлен. Лишь после этого имеет смысл обсуждать пункт третий: есть ли какие-либо причины, в силу которых в ближайшие сорок лет капитализм может не достигнуть своих прежних темпов развития. Обсудим все три пункта по очереди. Первую проблему мы можем сформулировать следующим образом. С одной стороны, у нас есть достаточно статистического материала, свидетельствующего о быстром "прогрессе", которому отдавали должное даже завзятые критики капитализма. С другой стороны, мы располагаем набором фактов о структуре и функционировании экономической системы того периода. Исходя из этих фактов, аналитики создали "модель" капиталистической реальности, т.е. обобщенную картину ее основных свойств. Нам надо узнать, была ли экономика такого типа благоприятной, нейтральной или неблагоприятной для экономического развития. Если же она была благоприятной, то какими ее свойствами можно адекватно объяснить темпы экономического развития. Избегая, насколько это возможно, технических деталей, мы ответим на эти вопросы с позиций здравого смысла. 1. В отличие от класса землевладельцев-феодалов торговая и промышленная буржуазия достигла высокого положения благодаря своим успехам в делах. Буржуазное общество построено на чисто экономических принципах: его фундамент, несущие конструкции, сигнальные огни — все это сделано из экономического материала. Это здание выходит фасадом на экономическую сторону жизни. Поощрения и наказания измеряются в деньгах. Подъем и спуск по общественной лестнице тождественны с приобретением или потерей денег. Этого, конечно, никто не станет отрицать. Но я хочу добавить, что в своих рамках это общественное устройство отличается или, во всяком слчае, отличалось необыкновенной эффективностъю. Оно обращается к мотивам, непревзойденным по простоте и cиле, а отчасти и само создает такие мотивы. Оно с безжалостной быстротой выполняет свои обещания богатства и угрозы нищеты. Всюду, где буржуазный образ жизни достаточно укрепляется и заглушает позывные других общественных порядков, эти мотивы являются достаточно сильными, чтобы привлечь подавляющее большинство людей высших интеллектуальных способностей и отождествить успех в жизни с успехом в делах. Нельзя сказать, что выигрыши здесь выпадают случайно, но при этом в их распределении есть и увлекательная прелесть счастливого случая: игра похожа скорее на покер, чем на рулетку. Награды достаются талантливым, энергичным, работоспособным, но если бы можно было измерить общий уровень конкретной способности или долю личного вклада в коммерческий успех, мы, наверно, установили бы, что полученный денежный выигрыш не пропорционален ни первому, ни второму показателю. Огромные премии, несоизмеримые с затратой сил, достаются незначительному меньшинству, что стимулирует активность подавляющего большинства бизнесменов, которые получают весьма скромное вознаграждение, либо вовсе ничего, либо даже убытки, но, несмотря на это, прилагают максимум усилий, потому что большие призы у них перед глазами, а свои шансы получить их они переоценивают. Более "справедливое" распределение выполняло бы эту стимулирующую функцию намного хуже. То же самое можно сказать и о наказаниях, которые грозят некомпетентным. Но наряду с устранением — иногда очень быстрым, иногда несколько запоздалым — некомпетентных людей и устаревших способов экономической деятельности банкротство угрожает и многим способным людям, эта угроза подстегивает всех, причем опять-таки более эффективно, чем более "справедливая", уравнительная система санкций. Наконец, и успех, и неудача в бизнесе определяются с идеальной точностью: их нельзя скрыть никакими словесами. В особенности следует подчеркнуть один момент, важный не только здесь, но и для будущего изложения. Описанным выше способом (а также некоторыми другими, о которых речь впереди) капиталистическое устройство общества, воплощенное в институте частного предприятия, весьма эффективно прикрепляет буржуазные слои к выполнению их экономической задачи. Но это еще не все, тот же самый механизм, требующий определеных результатов от индивидов и семей, составляющих буржуазный класс, одновременно отбирает индивидов и семьи, которые смогут вступить в этот класс или должны будут его покинуть. Это сочетание поощрения и наказаний с отбором — факт далеко не тривиальный. Большинство методов социального отбора ( в отличие от "методов" отбора естественного) не могут отобранный индивид. Именно в этом состоит одна из главных проблем социалистической организации общества, которую мы рассмотрим ниже.Пока достаточно заметить, что капиталистическая система замечательно решает эту проблему: в большинстве случаев человек, попадающий в класс бизнесменов и затем поднимающийся наверх в рамках этого класса, является способным бизнесменом и поднимается настолько высоко, насколько это позволяют его способности. Причина проста: в этой системе подниматься вверх и хорошо делать свое дело — это практически одно и то же. Этот факт, который неудачники так часто стараются отрицать в порядке самоутешения, гораздо больше значит для оценки капиталистического общества и капиталистической цивилизации, чем любые выводы из чистой теории капиталистического механизма. 2. Но разве наши выводы, основанные на "максимальных результатах оптимально отобранной группы", не обесцениваются тем фактом, что эти результаты служат не обществу (производство ради потребления), а деланию денег, что целью капиталистического производства является максимизация прибыли, а не благосостояния? Такая точка зрения всегда была популярна за пределами буржуазных кругов. Экономисты временами боролись с ней, а временами поддерживали ее. При этом они создавали нечто гораздо более ценное, чем итоговые выводы, которые в большинстве случаев отражали их социальное положение, интересы, симпатии или антипатии. Они постепенно накапливали факты и инструменты анализа, что позволяет нам сегодня давать на многие вопросы более правильные ответы (хотя и не такие простые и радикальные), чем давали наши предшественники. Не станем углубляться слишком далеко в прошлое. Так называемые экономисты классической школы [Термин "экономисты-классики" в этой книге обозначает английских экономистов, произведения которых вышли в свет с 1776 по 1848 г. Наиболее выдающиеся из них — Адам Смит, Рикардо, Мальтус, Сениор и Джон Стюарт Милль. Это необходимо иметь в виду, поскольку в последнее время этот термин стал употребляться в гораздо более широком значении] были практически единодушны: большинству из них не нравились современные им общественные институты и способы их функционирования. Они сражались с земельными собственниками и выступали за социальные реформы — прежде всего фабричное законодательство, — из которых далеко не все соответствовали идеям "laisser- faire". Но они были убеждены, что в системе институтов капитализма действия промышленников и торговцев, движимых собственным интересом, ведут к максимальному результату, который отвечает интересам всех. Столкнувшись с проблемой, которую мы здесь обсуждаем, они без всяких колебаний отнесли бы наблюдаемые темпы прироста совокупного продукта на счет сравнительно раскрепощенного предпринимательства и мотива извлечения прибыли. Может быть, они упомянули бы о "благоприятном законодательстве" как о необходимом условии, но под этим понималось бы именно снятие оков с производственной и коммерческой деятельности и прежде всего отмена или сокращение протекционистских пошлин в XIX в. В настоящее время очень трудно по достоинству оценить эти взгляды. Конечно, это были типичные взгляды английских буржуа: буржуазные шоры заметны на каждой странице, написанной классиками. Не менее очевидно присутствие шор другого рода: классики мыслили понятиями, характерными для данной исторической эпохи, опыт которой некритически идеализировали и абсолютизировали. Кроме того, большинство из них отстаивали интересы Англии того времени. Поэтому в других странах и в иные времена их теории вызывали антипатию, которая часто мешала их понять. Но отвергать их учение на этом основании было бы неуместно. Предубежденный человек тоже может говорить правду. Выводы, сделанные на основании какого-то частного случая, могут иметь и более широкое применение. Что же касается противников и преемников классиков, то у них были свои предрассудки и свои шоры, они рассматривали другие, но не менее частные случаи. С точки зрения экономического анализа главная заслуга классиков состоит в том, что наряду с другими серьёзными заблуждениями они опровергли наивную идею, согласно которой экономическая деятельность при капитализме, движимая мотивом прибыли, должна уже в силу этого факта противоречить интересам потребителей. Другими словами, делание денег обязательно отвлекает производство от общественных целей, а прибыль частных лиц как сама по себе, так и вследствие тех искажений, которые вносят этот мотив в экономический процесс, представляет собой чистый убыток для всех, кроме ее получателей, и поэтому составит чистый выигрыш при социализации. Если мы рассмотрим логику этой и подобных ей идей, которые никогда не защищал ни один серьезный экономист, нам покажется, что их опровержение было для классиков простой задачей. Но достаточно окинуть взглядом все теории и лозунги, сознательно или подсознательно основанные на этой идее и существующие уже в наши дни, чтобы мы отнеслись к их достижениям с большим почтением. Я хочу также добавить, что классики ясно видели (хотя и несколько преувеличивали) роль сбережений и накопления: они в принципе верно, хотя и не совсем точно установили связь между сбережениями и темпами экономического "прогресса". Их доктрине была свойственна житейская мудрость, серьезный, долгосрочный подход и мужественный тон, выгодно отличающийся от современных истерик. Но между осознанием того, что максимизация прибыли и максимизация результата производства могут не противоречить друг другу, и доказательством, что первое с необходимостью или в подавляющем большинстве случаев предполагает второе, — дистанция гораздо большая, чем это представлялось классикам, которые так и не смогли ее преодолеть. Изучая сегодня учение классиков, не устаешь удивляться, почему они удовлетворялись своими доводами и считали их доказательствами. В свете позднейших достижений в области экономического анализа их теория рассыпается как карточный домик, хотя в их видении много верного [Читатель, наверно, помнит различие, которое я проводил между теорией Маркса и его видением. Всегда важно помнить, что способность видеть веши в правильном свете и способность правильно рассуждать о них — это не одно и то же. Поэтому очень хороший теоретик может нести полную чушь, когда его просят оценить конкретную историческую ситуацию в целом]. 3. Из упомянутых последних достижений в области анализа мы рассмотрим два — в той мере, в какой они помогут прояснить нашу проблему. Первое из них относится к первому десятилетию нашего века, второе — к периоду после I мировой войны. Честно говоря, я не уверен, что этот материал будет понятен читателю-неэкономисту: как и всякая отрасль знания, экономическая наука по мере совершенствования ее аналитического аппарата неизбежно удаляется от той благословенной стадии, когда все проблемы, методы и результаты исследования доступны любому образованному человеку, не получившему специальной подготовки. Но я постараюсь выразиться как можно понятнее. Первое направление связано с именами двух великих экономистов, которые до сих пор пользуются почетом у многочисленных учеников, если только последние, как нередко бывает, не считают дурным тоном выражать уважение к кому-либо и чему-либо. Это Альфред Маршалл и Кнут Викселль [Я выделяю здесь "Принципы" Маршалла (первое издание — 1890 г.) и "Лекции" Викселля (первое шведское издание — 1901 г.. перевод на английский — 1934 г.) благодаря тому влиянию, которое они оказали на формирование многих ученых, и глубоко практическому подходу к экономической теории. С точки зрения чистой науки преимущество следует отдать работе Леона Вальраса. Среди американцев следует упомянуть Дж. Б.Кларка, Ирвинга Фишера и Ф.Тауссига]. Созданная ими теоретическая структура имеет мало общего с теорией классиков — как бы Маршалл не старался это скрыть, — но в ней сохраняется тезис классиков о том, что в условиях совершенной конкуренции стремление производителя к прибыли ведет к максимизации производства. Здесь можно найти даже почти удовлетворительное доказательство этого тезиса. Однако в процессе более корректного формулирования проблемы и самого доказательства тезис теряет большую часть своего содержания — в итоге он становится доказанным, но в каком-то истощенном, полуживом виде [Коротко поясню смысл сказанного (это пригодится нам в гл. VIII, пункт 6). Анализ механизма экономики, нацеленной на прибыль, позволил не только обнаружить исключение из принципа, согласно которому в конкурентных отраслях максимизиру ется выпуск продукции, но и выяснить, что для доказательства этого принципа требу ется принятие предпосылок, которые сводят его к банальности. В особенности обес ценивают его практическое значение следующие два соображения: 1) принцип можно доказать только применительно к состоянию статического равновесия. Капиталистическая же реальность — это прежде всего процесс изменения. Поэтому для оценки деятельности предприятия, находящегося в условиях конкурен ции, вопрос о том, будет ли оно максимизировать производство в условиях статического равновесия, не имеет почти никакого значения; 2) принцип в формулировке Викселля — а это то, что осталось от более амбициозного тезиса, который, хотя и редко, встречается у Маршалла, — представляет собой теорему о том, что конкурентная экономика приводит к максимальному удовлетворению потребностей. Но даже если мы абстрагируемся от серьезных возражений, которые вызывает употребление ненаблюдаемых психических величин, эта теорема быстро вырождается в тривиальное утверждение о том, что при любом институциональном устройстве общества человеческое действие, если оно рационально, всегда будет нацелено на достижение наилучшего результата. Фактически она вырождается в оп ределение рационального действия, что позволяет строить аналогичные теоремы и для социалистического общества. Но то же самое можно сказать и о принципе максимизации производства. В обоих случаях мы не можем доказать, что частное конку рентное предпринимательство обладает какими-то специфическими преимуществами. Это не означает, что таких преимуществ не существует, — просто они не вытекают из самой логики конкуренции]. Но все же в рамках общих предпосылок анализа Маршалла-Викселля можно показать, что фирмы, которые не могут своими действиями повлиять на цену продаваемого ими продукта или покупаемых факторов производства, — поэтому они не могут сетовать на то, что при увеличении производства первые цены падают, а вторые растут, — будут расширять производство до тех пор, пока добавочные издержки, необходимые для небольшого прироста продукта (предельные издержки), не уравняются с ценой этого прироста. Таким образом, эти фирмы будут наращивать производство до тех пор, пока это не станет приносить убытки. Можно показать, что достигнутый объем производства будет в общем случае равен "общественно предпочтительному". Говоря более формальным языком, в этом случае цены для отдельной фирмы являются не переменными, а параметрами. Всюду, где справедливо это допущение, существует состояние равновесия, для которого характерно то, что выпуск продукции находится на максимальном уровне и все факторы производства используются полностью. Эта ситуация обычно называется совершенной конкуренцией. Вспомнив о том, что было сказано выше о процессе отбора, который происходит между фирмами (и их управляющими), мы могли бы ждать прекрасных результатов от отобранной таким образом группы людей, которую мотив прибыли заставляет отдавать все силы максимизации производства и минимизации издержек. В частности, на первый взгляд может показаться, что в такой системе отсутствуют главные факторы, которые могли бы вызывать неэффективность. После некоторого размышления становится ясно, что последнее предложение — это просто другая формулировка предпоследнего. 4. Теперь о втором направлении развития экономического анализа. Теория Маршалла-Викселля, конечно, не обходила вниманием многие случаи, которые не описываются моделью совершенной конкуренции. Кстати, не упускали их из виду и классики. Они рассматривали случаи "монополии", и сам Адам Смит тщательно описал различные способы ограничения конкуренции [Разительно сходство между сегодняшними взглядами и его описанием противоречия между интересами отдельных профессий и общества в целом. Смит говорил даже о заговорах против общества, которые возникают на каждой встрече бизнесменов] и возникающие в результате их применения различия в гибкости цен. Но классики считали эти случаи исключениями и, более того, такими исключениями, которые с течением времени будут устранены. Примерно то же самое можно сказать и о Маршалле. Хотя он развил теорию монополии Курно [Augustin Cournot. Recherches sur les principes mathematiques de lа theorie des richesses. Р. 1838] и предвосхитил дальнейший прогресс анализа, обратив внимание на то, что большинство фирм продают свои товары на своем собственном специфическом рынке, на котором они могут сами устанавливать цены [Поэтому его можно считать предшественником позднейшей теории несовершенной конкуренции. Он не разрабатывал ее, но видел проблему гораздо правильнее, чем многие, кто ею специально занимался. В частности, он не преувеличивал ее значения], он, как и Викселль, сформулировал свои общие выводы для случая совершенной конкуренции. Таким образом, для него, как и для классиков, последняя была правилом. Ни Маршалл и Викселль, ни классики не видели, что на самом деле совершенная конкуренция является исключением. Более того, даже если бы она была правилом, то и тогда здесь не было бы особого повода для радости. Если мы внимательнее рассмотрим условия, необходимые для совершенной конкуренции, — не все из них были сформулированы и даже осознаны Маршаллом и Викселлем, — сразу же станет понятно, что такие условия редко встречаются за пределами массового производства сельскохозяйственных продуктов. Фермер, действительно, продает свой хлопок или пшеницу при этих условиях: с его точки зрения, цена хлопка или пшеницы — это заданная извне, хотя и сильно колеблющаяся величина. Он не может повлиять на нее своими действиями, а должен сам приспосабливать к ней объем выпуска своей продукции. Так как все фермеры ведут себя одинаково, то в конце концов цены и объемы производства будут соответствовать требованиям теории совершенной конкуренции. Однако так дело обстоит даже не со всеми сельскохозяйственными продуктами: например, к производству утиного мяса, колбасы, овощей и многих молочных продуктов модель неприменима. Что же касается практически всех конечных продуктов и услуг промышленности и торговли, то очевидно, что у каждого лавочника, хозяина бензоколонки, изготовителя перчаток, крема для бритья или ручных пил есть свой собственный небольшой рынок, который он пытается — по крайней мере должен пытаться — сохранить и расширить с помощью ценовой стратегии, стратегии качества ("дифференциации продукта") и рекламы. Здесь перед нами иная ситуация, которая никак не вписывается в схему совершенной конкуренции и гораздо больше напоминает случай монополии. В таких случаях принято говорить о "монополистической конкуренции". Теория монополистической конкуренции является одним из важнейших достижений послевоенной экономической науки [См. в особенности: Чемберлин Э. Теория монополистической конкуренции (М.: Изд-во иностр. лит-ры, 1959); Робинсон Дж. Экономическая теория несовершенной конкуренции. (М.: Прогресс, 1986)]. Остается рассмотреть большую группу относительно однородных продуктов, в основном это промышленное сырье и полуфабрикаты: стальные слитки, цемент, хлопковые полуфабрикаты и пр. В их производстве, кажется, отсутствуют предпосылки для монополистической конкуренции. В принципе это действительно так. Но на практике в этих отраслях господствуют гигантские фирмы, которые вместе или порознь в состоянии манипулировать ценами, даже не прибегая к дифференциации продукта, т.е. здесь существует "олигополия". И вновь модель монополии с соответствующими поправками гораздо лучше подходит к этому случаю, чем модель совершенной конкуренции. В тех случаях, когда преобладает монополистическая конкуренция или олигополия, или их комбинация, многие основные положения маршалловско-викселлевской школы либо становятся неприменимыми, либо нуждаются в гораздо более сложных доказательствах. Это относится прежде всего к основополагающему понятию равновесия, т.е. предопределенного состояния экономического организма, к которому он всегда стремится и которое обладает некоторыми простыми свойствами. В случае олигополии предопределенного состояния равновесия, как правило, вообще не существует. Здесь возможны бесконечные выпады и контрвыпады, военные действия между фирмами, которые неизвестно сколько будут продолжаться. Конечно, есть много специфических случаев, когда состояние равновесия теоретически существует и здесь. Но даже в этих случаях равновесия достичь гораздо труднее. Кроме того, на место "благотворной" конкуренции классиков здесь приходит "хищническая" борьба не на жизнь, а на смерть или состязание за контроль над финансовой сферой. Все это открывает массу возможностей для злоупотреблений и расточительства, а ведь надо учесть еще издержки на проведение рекламных кампаний, препятствия на пути новых методов производства (скупка патентов для того, чтобы их никто не использовал) и т.д. И наконец, самое важное: даже если в этих условиях чрезвычайно дорогостоящим способом нам удается добиться равновесия, это вовсе не гарантирует нам ни полной занятости, ни максимального выпуска продукции, как это было в случае совершенной конкуренции. Равновесие здесь может совмещаться с неполной занятостью. И, похоже, неизбежно подразумевает уровень производства, не достигающий максимума, поскольку стратегия сохранения прибыли, невозможная при совершенной конкуренции, в данном случае становится не только возможной, но и неизбежной. Ну что же, значит, мнение "человека с улицы" (если только это не бизнесмен) о частном предпринимательстве справедливо? Разве современный анализ не опроверг классическую доктрину и не оправдал точку зрения масс? Разве в конце концов мы не выяснили, что производство ради прибыли и производство ради потребления не часто идут параллельными курсами, а частное предприятие представляет собой не более чем средство для сокращения производства с целью извлечения прибылей, которые в свою очередь правильно характеризуются как результат поборов и вымогательства? Глава 7. Процесс "созидательного разрушения"
Теории монополистической и олигополистической конкуренции в их доступном варианте могут быть использованы двумя группами оппонентов капитализма. Одни могут утверждать, что капитализм никогда не благоприятствовал максимизации производства и экономический рост происходил вопреки постоянному саботажу со стороны буржуазии. Сторонникам этой точки зрения придется доказать, что наблюдавшиеся темпы экономического роста вызваны некоторой последовательностью благоприятных обстоятельств, не связанных с механизмом частного предпринимательства и достаточно сильных, чтобы победить сопротивление буржуазии. Этот вопрос мы подробно обсудим в гл. IX. Но приверженцы данного подхода имеют одно преимущество. В отличие от них представителям второй точки зрения надо объяснить, как капиталистическая действительность, которая вначале благоприятствовала максимальному или, по крайней мере, заметному росту производства, в дальнейшем под влиянием монополистических структур, убивающих конкуренцию, начала действовать в обратном направлении. Для этого, во-первых, требуется придумать воображаемый золотой век совершенной конкуренции, который в определенный момент превратился в монополистический век, хотя очевидно, что совершенная конкуренция всегда была всего лишь абстракцией. Во-вторых, следует учесть, что темпы прироста производства вовсе не сократились после 90-х годов прошлого века, начиная с которых мы можем отметить преобладание крупнейших концернов (во всяком случае, в обрабатывающей промышленности): никакого "перелома" в поведении показателей производства не отмечено. Самое же важное состоит в том, что современный уровень жизни масс сложился именно в эпоху сравнительно бесконтрольного господства "большого бизнеса". Если мы составим список предметов, покупка которых входит в потребительский бюджет современного рабочего, и проследим, как изменялись их цены начиная с 1899 г., но не в деньгах, а в часах оплаченного рабочего времени — т.е. индекс в деньгах, деленный на индекс почасовой заработной платы за соответствующие годы, мы будем поражены ростом материального благосостояния рабочих, который, если учесть еще и повышение качества товаров, не только не уступал, но превосходил все предыдущие показатели. Если бы мы, экономисты, меньше предавались догадкам и больше смотрели на факты, мы сразу же усомнились бы в достоинствах теории, которая предсказывала совершенно противоположные результаты. Но это еще не все. Как только мы посмотрим на показатели производства отдельных товаров, то выяснится, что наибольшего прогресса добились не фирмы, работающие в условиях сравнительно свободной конкуренции, а именно крупные концерны, которые к тому же способствовали прогрессу в конкурентном секторе (как, например, крупные производители сельскохозяйственной техники). В конце концов в наши души закрадывается ужасное подозрение: видимо, большой бизнес в гораздо большей степени способствовал повышению, чем снижению, уровня жизни. Таким образом, выводы, к которым мы пришли в конце предыдущей главы, оказались на поверку неправильными. Однако они следуют из наблюдений и теорем, которые почти безупречны [Именно почти. В частности, теория несовершенной конкуренции не может объяснить многочисленные и очень важные случаи, в которых даже на уровне статического анализа модели несовершенной и совершенной конкуренции показывают приблизительно одинаковые результаты (объемы производства). В других случаях такого совпадения не наблюдается, но несовершенная конкуренция, хотя и приводит к меньшему объему производства, в то же время производит некоторую компенсацию, которая не учитывается в индексе промышленного производства, но вносит свой вклад в то, что этот индекс в конечном счете призван измерять. Это, например, случаи, в которых фирма защищает свой рынок, создавая себе высокую репутацию как поставщика высококачественных товаров или услуг. Но чтобы упростить изложение, мы не будем останавливаться на слабых местах самой теории]. Дело в том, что экономисты и популяризаторы увидели какой-то аспект действительности. Они по большей части увидели его в правильном свете и сделали из этого формально правильные заключения. Но из такого фрагментарного анализа нельзя сделать никаких выводов о капиталистической действительности в целом. Если же мы сделаем такие выводы, то угадать можем только случайно. Такие попытки предпринимались, но счастливого случая так и не произошло. Важно понять, что, говоря о капитализме, мы имеем дело с эволюционным процессом. Кажется странным, что кто-то может не замечать столь очевидного факта, важность которого давно уже подчеркивал Карл Маркс. Однако фрагментарный анализ, из которого мы черпаем большую часть наших выводов о функционировании современного капитализма, упорно его игнорирует. Поясним сказанное и посмотрим, какое значение это имеет с точки зрения нашей проблемы. Капитализм по самой своей сути — это форма или метод экономических изменений, он никогда не бывает и не может быть стационарным состоянием. Эволюционный характер капиталистического процесса объясняется не только тем, что экономическая жизнь протекает в социальной и природной среде, которая изменяется и меняет тем самым параметры, при которых совершаются экономические действия. Этот факт очень важен, и эти изменения (войны, революции и т.д.) часто влияют на перемены в экономике, но не являются первоисточниками этих перемен. То же самое можно сказать и о квазиавтоматическом росте населения и капитала, и о причудах монетарной политики. Основной импульс, который приводит капиталистический механизм в движение и поддерживает его на ходу, исходит от новых потребительских благ, новых методов производства и транспортировки товаров, новых рынков и новых форм экономической организации, которые создают капиталистические предприятия. В предыдущей главе мы видели, что уровень жизни рабочего с 1760 по 1940 г. изменился в первую очередь не количественно, а качественно. Аналогична история развития сельского хозяйства. Начиная с первых попыток рационализировать севооборот, применить плуг и удобрения и кончая сегодняшними механизированными фермами, имеющими прочные связи с элеваторами и железными дорогами, — это история революций. То же самое можно сказать и об истории черной металлургии от печей, работавших на древесном угле, до наших современных печей, об истории энергетики от водяного колеса до современных электростанций, об истории транспорта от почтовой кареты до самолета. Открытие новых рынков, внутренних и внешних, и развитие экономической организации от ремесленной мастерской и фабрики до таких концернов, как "Ю.С.Стил", иллюстрируют все тот же процесс экономической мутации, — если можно употребить здесь биологический термин, — который непрерывно революционизирует [Строго говоря, эти революции происходят не непрерывно, а дискретно и отделяются друг от друга фазами относительного спокойствия. Но весь процесс в целом действительно непрерывен, т.е. в каждый данный момент происходит или революция, или усвоение ее результатов. Обе эти фазы, вместе взятые, образуют так называемый экономический цикл] экономическую структуру изнутри, разрушая старую структуру и создавая новую. Этот процесс "созидательного разрушения" является самой сущностью капитализма, в его рамках приходится существовать каждому капиталистическому концерну. Данный факт имеет двоякое отношение к нашей проблеме. Во-первых, поскольку мы имеем дело с процессом, каждый элемент которого требует значительного времени для того, чтобы определить его основные черты и окончательные последствия, бессмысленно оценивать результаты этого процесса на данный момент времени: мы должны делать это за период, состоящий из веков или десятилетий. Любая система — не только экономическая, — полностью использующая все свои возможности для получения наилучшего результата в каждый данный момент времени, может в долгосрочном аспекте уступить системе, которая не делает этого никогда, поскольку краткосрочные преимущества могут обернуться долгосрочными слабостями. Во-вторых, поскольку мы имеем дело с процессом органическим, то анализ того, что происходит в отдельном концерне или отрасли, может прояснить, как работают отдельные детали всего механизма, но не более того. Поведение того или иного предприятия следует оценивать только на фоне общего процесса, в контексте порожденной им ситуации. Необходимо выяснить его роль в постоянном потоке "созидательного разрушения", невозможно понять его вне этого потока или на основе гипотезы о неподвижности мира. Однако именно из этой гипотезы исходят современные экономисты, которые, исследуя, к примеру, ситуацию в олигополистической отрасли (т.е. отрасли, состоящей из нескольких крупных фирм), видят только хорошо известные меры и контрмеры, неизбежно ведущие к высоким ценам и ограничению производства. Они берут текущие величины параметров без учета прошлого и будущего и полагают, что они все поняли, если смогли объяснить по ведение этих фирм с помощью принципа максимизации прибыли в данный момент. В работах теоретиков и докладах правительственных комиссий поведение таких фирм практически никогда не рассматривается как результат прошлого и как попытка справиться с ситуацией, которая быстро меняется, попытка фирм устоять, когда почва уходит у них из-под ног. Иными словами, обычно проблему видят в том, как капитализм функционирует в рамках существующих структур, тогда как действительная проблема в данном случае состоит в том, как он создает и разрушает эти структуры. Пока исследователь не признает этого, его работа бессмысленна. Но как только он это признает, его взгляд на капиталистическую практику и ее социальные результаты претерпевает существенное изменение [Следует отметить, что изменению подвергается только наша оценка экономической эффективности капитализма, а не наше отношение к нему с точки зрения морали. Моральное одобрение или осуждение совершенно независимо от нашей оценки социальной (и любой другой) результативности системы, если только подобно утилитаристам мы не отождествим их по определению]. Прежде всего надо пересмотреть традиционную концепцию конкуренции. Сейчас экономисты начинают признавать не только ценовую конкуренцию, но и конкуренцию политики сбыта. Как только это происходит, ценовой параметр теряет свое доминирующее положение в экономической теории. Однако до сих пор в центре внимания экономистов все еще находится конкуренция, протекающая в рамках неизменных условий, в частности неизменных методов производства и организационных форм. Но вопреки учебникам в капиталистической действительности преобладающее значение имеет другая конкуренция, основанная на открытии нового товара, новой технологии, нового источника сырья, нового типа организации (например, крупнейших фирм). Эта конкуренция обеспечивает решительное сокращение затрат или повышение качества, она угрожает существующим фирмам не незначительным сокращением прибылей и выпуска, а полным банкротством. По своим последствиям такая конкуренция относится к традиционной как бомбардировка к взламыванию двери. В этих условиях степень развития традиционной конкуренции не так уж важна: мощный механизм, обеспечивающий прирост производства и снижение цен, все равно имеет иную природу. Едва ли необходимо упоминать о том, что конкуренция, о которой мы сейчас ведем речь, оказывает влияние не только тогда, когда она уже есть, но и тогда, когда она является всего лишь потенциальной угрозой. Можно сказать, что она дисциплинирует еще до своего наступления. Бизнесмен ощущает себя в конкурентной ситуации даже тогда, когда он является полным монополистом в своей отрасли или когда правительственные эксперты не обнаруживают действенной конкуренции между ним и другими фирмами в его отрасли или смежных областях и делают вывод о том, что он ссылается на наличие конкурентов только для отвода глаз. Во многих случаях, хотя и не всегда, такая ситуация в конце концов порождает поведение очень близкое к тому, которое соответствует модели совершенной конкуренции. Многие теоретики придерживаются противоположной точки зрения, которую легче всего проиллюстрировать на таком примере. Предположим, несколько розничных торговцев, действующих в одном районе, стремятся улучшить свои позиции, повышая качество обслуживания или создавая "дружескую атмосферу", но избегают ценовой конкуренции и торгуют по старинке, как принято в здешних местах. Если на этот рынок приходят новые торговцы, состояние квазиравновесия нарушается, но это вовсе не идет на пользу покупателям. Экономическое пространство для каждого из магазинов сокращается, их владельцам становится трудно свести концы с концами и они пытаются выйти из положения, повысив цены по тайному соглашению. Это еще более сократит их продажи и т.д. В итоге рост потенциального предложения будет сопровождаться ростом цен и падением продаж, а не наоборот. Такие случаи действительно встречаются и с ними стоит разобраться. Но на практике они встречаются в секторах, наименее типичных для капиталистической экономики [Ср. также теорему, которая часто фигурирует в теории несовершенной конкуренции: теорему о том, что в условиях несовершенной конкуренции производственные и торговые фирмы имеют иррационально малые размеры. Поскольку в то же время предполагается, что несовершенная конкуренция является наиболее характерным признаком современной экономики, нам остается только удивляться тому, каким видят мир экономисты. Очевидно, они имеют дело с миром, состоящим целиком из исключении]. Кроме того, они преходящи по самой своей природе. В нашем примере с розничной торговлей настоящая, ощутимая конкуренция возникает не от появления новых магазинов того же типа, а со стороны универмагов, сетей магазинов, торгующих по почте, и супермаркетов, которые рано или поздно разрушают старую отраслевую структуру [Однако угроза их вторжения не окажет на мелких лавочников обычного дисциплинирующего воздействия: их сильно ограничивает заданный уровень издержек. Как бы умело они ни вели свое хозяйство, они не смогут бороться с конкурентами, которые могут себе позволить продавать товар по цене, не превышающей закупочную цену мелких магазинов]. Теория, игнорирующая этот существенный аспект конкуренции, тем самым упускает из виду все, что в ней есть собственно капиталистического. Даже если она не противоречит логике и фактам, она похожа на постановку "Гамлета" без принца датского. Глава 8. Монополистическая практика
Сказанного выше вообще-то достаточно, чтобы читатель смог разобраться в подавляющем большинстве случаев, с которыми он сталкивается в повседневной жизни, и опровергнуть тех критиков капиталистической экономики, которые явно или неявно основывают свою аргументацию на отсутствии при капитализме совершенной конкуренции. Однако, поскольку связь между нашими доводами и взглядами некоторых из этих критиков не столь очевидна, несколько моментов следует разъяснить. 1. Мы только что установили, что.воздействие новшеств, например новых технологий, на существующие отраслевые структуры в долгосрочном аспекте препятствует стратегии ограничения производства, сохранению господствующих позиций и максимизации прибыли. Теперь мы узнаем, что такого рода ограничительная стратегия приобретает в процессе созидательного разрушения новое значение, которым она не обладает в стационарном состоянии или в состоянии медленного и сбалансированного роста. В двух последних случаях ограничительная стратегия ведет лишь к увеличению прибыли за счет покупателей, а в случае сбалансированного роста она может быть также самым простым и эффективным способом накопления средств для финансирования дополнительных инвестиций [Теоретики считают последнее положение грубой ошибкой. Они доказывают, что финансировать капиталовложения за счет кредитов, банков и частных лиц, а для государственных предприятий — за счет сбора подоходного налога гораздо более рационально, чем использовать для этого избыточную прибыль, полученную с помощью ограничительной политики. Для некоторых случаев это верно. Для других — совершенно неверно. Я считаю, что и капитализм, и коммунизм русского типа относятся ко второй категории. Но главное состоит в том, что с помощью одних лишь теоретических доводов, в особенности краткосрочного характера, мы не сможем решить проблему, с которой вновь столкнемся в следующей части]. В процессе же созидательного разрушения ограничительная стратегия может помочь стабилизировать корабль капиталистической экономики, облегчить временные трудности. Этот довод всегда всплывает во времена депрессии и, как известно, пользуется популярностью у правительств и их экономических советников (ср. опыт NRA) [National Recover Act — закон, легший в основу политики "Нового курса" администрации Ф.Д.Рузвельта. — Прим. ред]. Им много раз злоупотребляли, и это привело к таким неприятностям, что большинство экономистов всем сердцем презирают его. Однако даже те советники, которые им злоупотребляют [В частности, легко показать, что политика, направленная на сохранение "соот ношения цен", бессмысленна и во многом вредна], не видят более общих аргументов в его пользу. Практически каждое капиталовложение как необходимый элемент предпринимательского действия требует некоторых предохраняющих мер: страховки или хеджирования. Долгосрочное инвестирование в обстановке, которая быстро меняется или может измениться в любой момент из-за появления новых товаров или технологий, напоминает стрельбу по мишени, которая не только плохо видна, но и движется, причем движется рывками. Поэтому необходимо прибегать к таким средствам защиты, как патенты, сохранение на какое-то время технологических процессов в тайне, а в некоторых случаях — заключение контрактов на долгий срок. Но эти защитные средства, которые большинство экономистов считают обычным компонентом рационального менеджмента [Однако некоторые экономисты даже их считают препятствием на пути прогрес са, которые необходимы при капитализме, но исчезнут в социалистическом обществе. Доля правды в этом есть. Но это не опровергает того тезиса, что зашита, предоставляемая патентами и т.п. в условиях экономики, основанной на прибыли, в целом является прогрессивным, а не сдерживающим фактором], — это только частные случаи более широкого класса мер, многие из которых экономисты проклинают, хотя в сущности они ничем не отличаются от "признанных". Если, к примеру, существует возможность застраховаться на случай войны, никто не осудит фирму за то, что она включит стоимость страховки в цену своего продукта. Но риск войны входит в долгосрочные издержки и тогда, когда не существует соответствующих страховых институтов. Просто в этом случае стратегия фирмы будет включать в себя "необоснованное" ограничение производства и приведет к получению избыточной прибыли. Аналогично, если нельзя приобрести патент или если патентная защита неэффективна, фирма должна прибегнуть к другим средствам для того, чтобы обезопасить свои инвестиции. К этим средствам относится и такая ценовая политика, которая позволит списать основной капитал быстрее, чем требовалось бы, или дополнительные инвестиции, которые позволят создать избыточные мощности и на случай атаки или, напротив, обороны от потенциальных конкурентов. Опять-таки, если бы долгосрочные контракты нельзя было заключать заранее, пришлось бы изобрести другие средства для того, чтобы привязать к инвестирующей фирме будущих покупателей. Анализируя такие стратегии со статической точки зрения, экономист-исследователь или правительственный чиновник приходит к выводу, что такая ценовая стратегия является хищнической, а ограничение производства означает для общества чистую потерю. Он не видит, что в условиях непрерывного потока нововведений ограничения такого типа являются всего лишь моментами (часто неизбежными) долгосрочного процесса экспансии, который они скорее поддерживают, чем тормозят. Этот тезис не более парадоксален, чем, например, такой: автомобиль ездит быстрее, потому что у него есть тормоза. 2. Особенно ярко это проявляется в тех секторах экономики, в которых новые продукты и новые методы производства влияют на структуру отрасли постоянно. Для того чтобы живо и наглядно представить себе стратегию фирмы, лучше всего рассмотреть поведение новых концернов или даже новых отраслей, которые направлены на изготовление нового товара или внедрение новой технологии (например, алюминиевой промышленности) либо на частичную или полную реорганизацию существующей отрасли (например, прежняя "Стандард Ойл компани"). Как мы уже отмечали, такие концерны — агрессоры по природе, в их руках находятся эффективные орудия конкурентной борьбы. Лишь в редчайших случаях их вторжение не увеличивает количества и не повышает качества производимой продукции. Здесь сказывается как сам новый метод производства, — даже если он никогда не используется на полную мощность, — так и давление, которое он оказывает на уже действующие в отрасли фирмы. Но наступательное и оборонительное орудие агрессора включает не только цену и количество выпускаемого продукта, но и другие стратегические виды вооружений, воздействие которых сказывается за долгий срок, но в каждый дискретный момент времени сводится, как представляется на первый взгляд, лишь к ограничению производства и удерживанию высоких цен. С одной стороны, далеко идущие планы во многих случаях не смогли бы воплотиться в жизнь, если бы с самого начала не было известно, что потенциальных конкурентов отпугнет необходимость огромных вложений капитала, или недостаток опыта, или наличие в арсенале фирмы специальных средств для их отпугивания. Все это должно предоставить фирме время и пространство для дальнейших шагов. Даже завоевание финансового контроля над конкурентом, с которым не удается справиться иными способами, или приобретение привилегий, противоречащих общественному чувству справедливости, например льготные железнодорожные тарифы, предстают перед нами в новом свете постольку, поскольку речь идет об их долговременном влиянии на объем производства [Наше уточнение, как мне кажется, устраняет любые недоразумения, которые может вызвать такая формулировка. Если же его недостаточно, я еще раз повторю, что моральный аспект в данном случае, как и в любом другом, совершенно не затрагивается экономическими доводами. Кроме того, прошу читателя поразмышлять над тем, что, даже имея дело с бесспорными нарушениями закона, цивилизованный судья и цивилизованные присяжные принимают во внимание конечную цель, ради которой было совершено преступление, и общественные последствия, которые оно имело. Другое возражение имеет большее значение. Если предприятие может преуспеть только с помощью таких средств, не означает ли это, что оно не может принести пользу обществу? Этот тезис можно весьма просто доказать. Однако он имеет смысл только при весьма строгих оговорках, касающихся "прочих равных". Иными словами, этот довод справедлив только, если абстрагироваться от процесса созидательного разрушения, т.е. от капиталистической действительности. В том, что это действительно так, можно убедиться на аналогичном примере с патентами]: они могут устранять препятствия, которые институт частной собственности ставит на пути прогресса. В социалистическом обществе это время и пространство также понадобятся, но там их обеспечивает приказ центральных властей. С другой стороны, предприятие в большинстве случаев не сможет возникнуть, если с самого начала не будет известно, что в будущем его ждут исключительно благоприятные ситуации, которые при правильном манипулировании ценой, качеством и количеством продукта принесут столько прибыли, что она покроет убытки от исключительно неблагоприятных ситуаций, которые могут случиться при том же самом управлении. Это опять же требует стратегии, которая в краткосрочном аспекте является ограничительной. В большинстве удачных случаев такая стратегия с большим трудом достигает цели. Но в некоторых случаях прибыль бывает так велика и настолько превышает минимально необходимый уровень, что это привлекает новые инвестиции. Эти приманки завлекают капитал на неведомые дороги. Их наличие частично объясняет, почему такая большая часть капиталистов работает по существу бесплатно: в середине отмеченных процветанием 20-х годов около половины всех американских корпораций приносили убытки, нулевую прибыль или же такую прибыль, которая, если бы фирма могла ее предвидеть, никогда не побудила бы ее к сделанным усилиям и затратам. Однако наши аргументы относятся не только к новым концернам, технологиям и отраслям. Старые концерны и давно возникшие отрасли независимо от того, подвергаются они прямой атаке или нет, также испытывают на себе влияние потока нововведений. В процессе созидательного разрушения возникают ситуации, когда многие фирмы погибают, хотя если бы они пережили эту бурю, то смогли бы существовать и дальше с немалой пользой для общества. Помимо этих общих кризисов или депрессий, в отдельных отраслях также возникают ситуации, когда резкая перемена параметров, столь характерная для упомянутого процесса, временно дезорганизует отрасль, что ведет к бессмысленным потерям и безработице, которой можно было бы избежать. Конечно, не следует сохранять устаревшие отрасли бесконечно, но надо постараться избежать краха и превратить хаос, который может породить кумулятивную реакцию во всей экономике, в упорядоченное отступление. Аналогично в отраслях, которые уже "сняли сливки", но еще продолжают расширяться, может существовать такое явление, как упорядоченное наступление [Хорошим примером, как и для многих других наших общих положений, может послужить послевоенная история американской автомобильной промышленности и производства синтетических волокон. Первый пример хорошо иллюстрирует сущность и значение того явления, которое можно назвать "отредактированной" конкуренцией. Период процветания здесь подошел к концу около 1916 г. Тем не менее уже после этого рубежа в отрасль проникло много новых фирм, большинство которых к 1925 г. были ликвидированы. После жесткой борьбы не на жизнь, а на смерть образовались три концерна, к настоящему времени сосредоточившие в своих руках более 80 % продаж. Несмотря на твердые позиции в отрасли, прекрасную организацию сбыта и обслуживания, они находятся под постоянным давлением конкуренции, поскольку любое отставание в качестве продуктов или попытки установить в отрасли монополистическую структуру привлекут в нее новых конкурентов. Между собой три концерна поддерживают отношения, которые можно назвать скорее взаимно уважительными, чем конкурентными: они воздерживаются от некоторых агрессивных приемов (которые, кстати, существуют и в мире совершенной конкуренции), они стремятся держаться вровень друг с другом и набирают очки в пограничных стычках. Такая ситуация продолжается уже более пятнадцати лет. При этом вовсе не очевидно, что, если бы в этой отрасли господствовала совершенная конкуренция, покупатели получили бы лучшие по качеству или более дешевые машины, а рабочие — более высокую заработную плату и более устойчивую занятость. Страна, производящая синтетические волокна, пережила период расцвета в 1920-е годы. Этот пример еще более ярко показывает нам, что происходит, когда товар вторгается в отрасль, где все места ранее были заняты. Есть и несколько других различий. Но, по сути дела, это тот же случай. То, что объем производства и качество вискозы улучшились, известно всем. Но в ходе этого бума в каждый момент времени господствовала ограничительная политика]. Конечно, все это не более чем соображения элементарного здравого смысла. Но его не замечают столь упорно, что поневоле возникает подозрение в неискренности. А из всего сказанного следует, что в рамках процесса созидательного разрушения, все характеристики которого теоретики обычно отправляют в специальные монографии и разделы об экономических циклах, мы различали иную сторону экономической самоорганизации, нежели ту, которую созерцают упомянутые теоретики. Ограничения торговли картельного типа, как и неявная координация ценовой политики, могут быть эффективными мерами в условиях депрессии. В конце концов они могут привести не только к более устойчивому, но и более быстрому росту производства по сравнению с совершенно неконтролируемым движением вперед, которое обязательно сопровождается катастрофами. Конечно, можно утверждать, что эти катастрофы неминуемы в любом случае. Однако мы твердо знаем только то, что на самом деле произошло бы в отсутствие этих "ограждений", особенно если принять во внимание потрясающие темпы, которыми развивался процесс созидательного разрушения. Хотя мы развили и расширили нашу аргументацию, но, конечно, не охватили всех случаев применения ограничительной или регулирующей стратегии. Многие из них, без сомнения, оказывают на экономический рост долговременное вредное воздействие, которое некритически приписывается всем случаям без исключения. И даже в тех случаях, к которым имеют отношение наши аргументы, результирующее воздействие зависит от привходящих обстоятельств и от той степени, в которой отрасль поддается саморегулированию. Разумеется, можно представить себе такую ситуацию, когда всеохватывающая система картелей парализует всякий прогресс, но точно так же можно предположить, что она достигает всех целей, которых призвана достичь совершенная конкуренция, но с меньшими общественными и частными издержками. Поэтому наша аргументация вовсе не направлена против государственного антимонополистического регулирования. Мы лишь показали, что поддерживать любой трест столь же неуместно, как осуждать любое ограничение торговли. Рациональное в отличие от эмоционального государственное регулирование оказывается крайне деликатной задачей, которую можно доверить далеко не всякому государственному ведомству, а тем паче тому, которое громогласно обличает большой бизнес [К сожалению, эта откровенно нигилистическая позиция затрудняет достижение согласия по поводу государственной регулирующей политики. Дискуссия по этим вопросам приобретает ожесточенный характер. Политики, государственные служащие и экономисты могут легко выдержать радикальную оппозицию "экономических роялистов". Гораздо труднее им вынести сомнения в их компетентности, которые в изобилии возникают у нас, в особенности тогда, когда мы наблюдаем законотворческий процесс]. Из наших рассуждений, опровергающих господствующую теорию и сделанные из нее выводы о влиянии современного капитализма на темпы экономического роста, вытекает другая теория, т.е. иной взгляд на факты и иной принцип их интерпретации. Для наших целей этого достаточно. В остальном же пусть факты говорят сами за себя. 3. Теперь несколько слов о проблеме "жестких цен", которая активно обсуждается в последнее время. На самом деле, это один из аспектов той общей проблемы, которую мы здесь рассматривали. Жесткость цен мы определим следующим образом: цена является жесткой, если она менее чувствительна к изменениям спроса и предложения, чем предполагает модель совершенной конкуренции [Это определение достаточно для наших целей, но неудовлетворительно для других. См. статью Д.Д.Хамфри (Journal of Роlitical Есоnоmy. 1937. Осtober) и Э.С.Мейсона ( Review of Есоnomics аnd Statistics. 1938. Мау). Профессор Мейсон среди прочего показал, что, вопреки широко распространенному убеждению, жесткость цен не возрастает, во всяком случае она не увеличилась за последние сорок лет. Этот результат сам по себе опровергает некоторые выводы современной теории жестких цен]. Количественная оценка жесткости цен в нашем смысле зависит от выбора данных и метода измерения и поэтому ненадежна. Но при любых данных и любом методе измерения очевидно, что цены на самом деле не являются настолько жесткими, как это представляется. В силу многих причин некоторые изменения цен не учитываются в статистике и жесткость их оказывается мнимой. Я остановлюсь лишь на одной из этих причин, тесно связанной с такими фактами, которые лежат в центре нашего анализа. Я подчеркивал важность вторжения новых благ для капиталистического процесса вообще и механизма конкуренции в частности. Но новое благо может уничтожить существовавшую ранее отраслевую структуру и удовлетворить имеющуюся потребность по более низкой цене на единицу полезного эффекта (например, за перемещение груза на данное расстояние) без какого бы то ни было изменения цен существовавших благ, реальная гибкость цен может сочетаться с их формальной жесткостью. Есть и другие случаи, когда новый образец изделия внедряется только ради снижения цены, при этом цены на старые образцы остаются неизменными. Это еще один пример скрытого снижения цен. Далее, подавляющее большинство новых потребительских товаров, в частности все мелочи современного обихода, вначале появляются в несовершенном виде как опытные образцы. В таком виде они никогда не смогли бы покорить потенциальный рынок. Поэтому улучшение качества продуктов — это практически всеобщее явление, сопровождающее развитие отдельных концернов и отраслей. Независимо от того, связано это повышение качества с дополнительными издержками или нет, неизменные цены на единицу улучшаемого товара нельзя называть жесткими без дополнительных исследований. Разумеется, есть множество случаев, когда цены действительно являются жесткими: они держатся на постоянном уровне, поскольку этого требует политика фирмы или поскольку их вообще трудно изменить (например, цена, установленная участниками картеля после долгих и трудных переговоров). Для того чтобы оценить долговременное влияние этого факта на темпы прироста промышленного производства, надо прежде всего отдавать себе отчет в том, что жесткость цен по самой своей природе — краткосрочный феномен. Мы не сможем найти ни одного существенного примера длительной жесткости цен. Какую бы отрасль или группу товаров мы ни взяли, мы практически всегда установим, что, если взять сравнительно долгий период, цены всегда адаптируются к техническому прогрессу, — часто они при этом заметно падают [Как правило, их падение бывает меньше, чем предписывает модель совершенной конкуренции. Но это правило действует лишь при прочих равных, что лишает его всякого практического значения. Я уже упоминал об этом моменте выше и вернусь к нему ниже в пункте], — если только этому не препятствуют денежная политика или автономные изменения уровня заработной платы. Эти последние факторы, разумеется, следует учесть при корректировке данных так же, как и изменение качества продуктов [С точки зрения теории благосостояния целесообразно использовать определение, отличное от нашего, и измерять изменение цен в часах труда, необходимых для того, чтобы заработать на определенное количество потребительских товаров с учетом изменении в качестве. Мы уже делали так выше. При таком измерителе гибкость цен и процесс их постепенного снижения просматриваются наиболее ясно. Изменения общего уровня цен представляют собой отдельную проблему. Если они отражают чисто монетарные факторы, от них необходимо абстрагироваться при анализе жесткости цен. Но в той мере, в какой в них отражается общий эффект возросшей производительности во всех отраслях производства, их следует учесть]. Основу этой связи, действующей в процессе капиталистической эволюции, раскрывает весь наш предшествующий анализ. Целью проводимой фирмой стратегии жестких цен на самом деле является избежание сезонных, случайных и циклических колебаний цен, они должны меняться только в ответ на глубокие изменения в экономических условиях. Поскольку эти глубокие изменения проявляются не сразу, такая стратегия должна предусматривать дискретные пересмотры цен: цены поддерживаются на постоянном уровне, пока не станут различимы контуры новой экономической ситуации. Говоря формально, эта стратегия предполагает, что движение цен должно описываться ступенчатой функцией, приближающейся к тренду. В большинстве случаев истинная и сознательно осуществляемая политика жестких цен сводится именно к этому. Большая часть экономистов признает это хотя бы негласно. Дело в том, что, хотя некоторые их доводы применимы лишь к долгосрочному анализу, — например, аргументы, доказывающие, что жесткие цены мешают потребителям пользоваться плодами технического прогресса, — на практике экономисты измеряют и обсуждают прежде всего жесткость цен в цикле, и в особенности тот факт, что многие цены вовсе не падают или недостаточно быстро падают во время спада и депрессии. Таким образом, на самом деле вопрос должен ставиться так: как эта краткосрочная жесткость цен [Следует, однако, отметить, что "краткий срок" в данном случае может быть дольше, чем это обычно подразумевается, — десять лет или еще дольше. Существует не один цикл, а несколько, происходящих одновременно и имеющих различную длительность. Один из наиболее важных продолжается в среднем девять с половиной лет. Примерно за такой срок происходят и важные структурные сдвиги, требующие изменения цен. Полное воздействие особенно значительных структурных изменений проявляется на протяжении более длительных периодов. Чтобы разобраться в движении цен на алюминий, вискозу, автомобили, требуется изучить период около 45 лет] может повлиять на долгосрочный экономический рост. Причем единственный, на самом деле важный момент здесь состоит в следующем: цены, которые снижаются во время спада и депрессии, несомненно, влияют на экономическую ситуацию в этих фазах цикла. Если влияние это резко отрицательное, т.е. ухудшающее ситуацию по сравнению с состоянием совершенной конкуренции, то оно должно плохо сказаться и на последующих оживлениях и подъемах и в итоге темп прироста производства сократится ниже уровня, который существовал бы в отсутствие жестких цен. В оправдание такой точки зрения выдвигаются два довода. Чтобы как можно яснее изложить первый из них, предположим, что существует отрасль, в которой цены во время спада не понижаются, а количество произведенного продукта остается неизменным. В этом случае покупателям придется дополнительно раскошелиться на сумму, которая и составляет выигрыш отрасли от жесткости цен. Если же покупатели тратят все, что могут, а продавцы не расходуют поступившие к ним дополнительные средства, а сберегают их или выплачивают с их помощью долги банкам, то общая величина расходов в экономике сократится. В этом случае пострадают и другие отрасли и фирмы. Если же и они в свою очередь будут проводить ограничительную политику, то мы получим кумулятивный процесс распространения депрессивных явлений. Иными словами, жесткость цен сократит величину национального дохода или увеличит праздно лежащие денежные средства, которые не совсем корректно принято называть сбережениями. Такой случай в принципе возможен. Но читателю нетрудно убедиться в том, что практическая значимость его очень мала или вовсе отсутствует [Лучший способ убедиться в этом состоит в том, чтобы внимательно рассмотреть смысл всех используемых предпосылок не только в приведенном воображаемом случае, но и в более реалистических вариантах. Кроме того, не следует забывать, что прибыль, полученная от неснижения цен, может быть средством избежать банкротства или, по крайней мере, приостановки операций. И та, и другая напасть может породить "порочный круг" спада с гораздо большим "успехом", чем возможное сокращение совокупных расходов. См. также наши рассуждения по поводу второго аргумента]. Второй аргумент основан на том, что жесткость цен может привести к дополнительному сверхнормальному сокращению производства в отдельной отрасли или секторе экономики, что в свою очередь вызовет диспропорциональность. Поскольку наиболее важными механизмами в распространении этих эффектов являются рост безработицы — упрек в дестабилизации занятости вообще наиболее часто предъявляется жестким ценам — и соответствующее сокращение совокупных расходов, этот аргумент в дальнейшем совпадает с первым. Его практическую важность значительно сокращает — правда, экономисты расходятся в оценках, насколько значительно, — тот факт, что в наиболее ярких случаях жесткость цен мотивируется именно низкой чувствительностью спроса к краткосрочным изменениям цены в определенных рамках. Люди, которые во время спада беспокоятся о своем будущем, не станут покупать новый автомобиль, даже если он будет продаваться с 25-процентной скидкой, в особенности если покупку можно легко отложить, а падение цен, как ожидается, продолжится и в будущем. Однако независимо от всего этого данный аргумент неубедителен, поскольку его действие вновь оговорено предпосылкой о "прочих равных", которая неприменима к нашему процессу "созидательного разрушения". Из того факта (в той мере, в какой это действительно факт), что при более гибких ценах можно при прочих равных продать больше товаров, еще не следует, что выпуск данных товаров или совокупное производство и занятость возрастут. Мы предполагаем, что отказ от снижения цен усиливает позиции соответствующих отраслей, увеличивая получаемую ими прибыль или препятствуя хаосу на рынках, т.е. не является с их стороны простой ошибкой. Поэтому в результате этой политики на месте возможных очагов опустошения возникают крепости. Как мы уже убедились, рассматривая вопрос с более общей точки зрения, совокупное производство и занятость при ограничительной политике могут быть выше, чем в том случае, когда спад беспрепятственно нарушит установившуюся структуру цен [Теоретик сказал бы, что во время спада кривая спроса может сдвинуться вниз резче, если иэ-под всех цен будут убраны подпорки]. Иными словами, в условиях, созданных капиталистической эволюцией, полная и всеобщая гибкость цен во время спада может только дестабилизировать систему, а не наоборот, как считает общая теория. Это часто признают экономисты, симпатизирующие интересам какой-либо части общества, например рабочим или фермерам: они охотно соглашаются с тем, что за жесткостью цен на самом деле скрывается целенаправленная адаптация к новым условиям. Возможно, читатель несколько удивлен, что от столь знаменитой в последние годы теории осталось так мало. Ведь некоторые уже поверили, что жесткость цен представляет собой важный дефект капиталистической системы и чуть ли не главную причину спадов. Но удивляться здесь нечему. Люди и группы людей готовы ухватиться за любое "открытие", отвечающее современной политической тенденции. Теория жестких цен, содержащая некоторую долю истины, являет собой далеко не худший пример такого рода. 4. Другую доктрину можно коротко сформулировать так: в эпоху большого бизнеса главной целью предпринимательской деятельности становится сохранение ценности сделанных инвестиций — сохранение капитала. Это грозит положить конец всем усовершенствованиям, направленным на сокращение издержек. Следовательно, капиталистический строй оказывается несовместимым с прогрессом. Как мы убедились, прогресс подразумевает разрушение тех капитальных стоимостей, с которыми конкурирует новый товар или новый метод производства. В условиях современной конкуренции старые производственные мощности должны быть приспособлены к новым условиям (процесс, требующий дополнительных издержек) или уничтожены. Но в отраслях, где нет совершенной конкуренции и производство контролируется несколькими крупными концернами, у последних есть достаточно возможностей для того, чтобы отбить атаки, которым подвергаются их капиталы, и избежать убытков на капитальных счетах; короче говоря, они могут потягаться и с самим прогрессом. До тех пор, пока в этой доктрине речь идет об особом аспекте ограничительной стратегии, нам нет нужды добавлять что-либо к сказанному выше в этой главе. Это относится как к пределам данной стратегии, так и к ее функции в процессе созидательного разрушения. Это еще более очевидно, если мы отметим, что сохранить капитал — это то же самое, что сохранить прибыль. В современной теории понятие "текущая чистая стоимость активов" (или, что то же самое, капитальная стоимость) часто употребляется вместо понятия "прибыль". Разумеется, и стоимость активов, и прибыль не просто сохраняются, но и максимизируются. Но тезис о том, что современные концерны саботируют развитие сокращающих издержки технологий, все же нуждается в комментарии. Немного поразмышляв, мы поймем, что здесь достаточно рассмотреть пример концерна, контролирующего определенный вид технологии — скажем, защищенное патентом изобретение, использование которого вызывает обесценение и списывание полностью или частично имеющихся у фирмы машин и оборудования. Воздержится ли фирма от использования этого изобретения для того, чтобы сохранить свой капитал в случае, если ею управляют социалистические управляющие, движимые не капиталистическим интересом, которые могут и должны использовать это изобретение ради всеобщего блага? И вновь возникает естественное искушение обратиться к фактам. Как только современный концерн может себе это позволить, он тут же заводит исследовательский отдел, каждый сотрудник которого получает деньги за изобретение новых усовершенствований. Очевидно, здесь нет никакого стремления замедлить технический прогресс. Нам могут указать на то, что патенты, изобретаемые концернами, часто используются не сразу или не используются вовсе. Но на это могут быть свои причины: например, запатентованный процесс может оказаться не таким уж замечательным или, по крайней мере, не подходить для коммерческого употребления. Судить об этом не может ни сам изобретатель, ни исследователь-экономист, ни государственный чиновник: их мнения могут дать нам неадекватную оценку [Кстати, заметим, что ограничительная политика этого вида, если она представляет собой достаточно распространенное явление, оказывает положительное воздей ствие на общественное благосостояние. Ведь те же критики, которые любят говорить о саботаже прогресса, в то же время подчеркивают общественные издержки, в особенности безработицу, с которыми связан быстрый капиталистический прогресс и которые могут быть смягчены, если этот прогресс будет немного медленнее. В конце концов, они должны сами решать, что им больше нравится: ускорение или замедление технического прогресса]. Но нас интересуют теоретические вопросы. Каждый согласится с тем, что и частное, и социалистическое руководство предприятий будет внедрять новый метод производства, если он сокращает величину совокупных издержек, приходящихся на единицу продукта. Если же это условие не выполняется, то предполагается, что управляющий частного предприятия не станет внедрять метод, сокращающий издержки, пока имеющиеся машины и оборудование не будут целиком списаны, тогда как социалистический управляющий, действуя на благо общества и не обращая внимания на стоимость капитала, тут же внедрит любой сокращающий издержки метод. Однако это неверно [Следует заметить, что, даже если бы этот аргумент был правильным, с его помощью нельзя было бы доказать тезис о "несовместимости" капитализма с техниче ским прогрессом. Единственное, что можно было бы доказать с его помощью, это существование в некоторых случаях умеренной величины лага в процессе внедрения нового метода]. Частный управляющий, если им движет мотив прибыли, заинтересован в сохранении стоимости зданий и машин не более чем гипотетический социалистический управляющий. Частный управляющий стремится максимизировать текущую чистую стоимость совокупных активов, равную дисконтированной стоимости ожидаемых чистых доходов от них. Это означает, что он всегда внедрит новый метод производства, если он, как предполагается, даст больший поток будущего дохода на единицу будущих вложений — и та, и другая величина дисконтируется и приводится таким образом к настоящему моменту — по сравнению с тем методом, который используется ныне. Стоимость прошлых инвестиций, независимо от того, сопровождались ли они выпуском облигаций, задолженность по которым следует погасить, не интересует его вовсе или, по крайней мере, интересует не больше, чем социалистического управляющего в сходной ситуации. Возможно, что использование старых машин позволит сократить будущие издержки по сравнению с тем вариантом, когда новый метод вводится немедленно и полностью. В таком случае их остаточная производственная ценность, конечно, учитывается и капиталистическим, и социалистическим управляющим. Во всех остальных случаях старые инвестиции не учитываются ни тем, ни другим, и любая попытка сохранить их будет противоречить максимизации прибыли, так же как и правилам поведения социалистического управляющего. Неверно и то, что частные фирмы, оборудованию которых угрожает обесценение, если будет применен новый метод, который они же сами контролируют, — если не контролируют, то никаких проблем нет и повода для упреков тоже, — внедряют последний лишь тогда, когда совокупные издержки на единицу продукции при новом методе меньше, чем при старом, или тогда, когда старые производственные мощности полностью списаны в соответствии с нормой списания, существовавшей до появления нового метода. Ведь если новые машины, как ожидается, должны работать и по истечении первоначально рассчитанного срока работы старых, то их остаточная дисконтированная стоимость, приведенная к концу этого срока, является дополнительным активом, стоимость которого надо учитывать. По схожим причинам нельзя утверждать, что социалистический управляющий, действующий рационально, всегда незамедлительно внедрит любой новый метод, если он обещает снижение удельных издержек, и что это всегда принесет пользу обществу. И еще один момент [Разумеется, можно выделить и много других моментов, однако, рассматривая несколько принципиальных вопросов, мы не можем уделить должное внимание всем затронутым темам], который здесь важно учитывать и который, как правило, упускают из виду. Речь идет о том, что можно было бы назвать сохранением капитала ех ante в ожидании будущего улучшения дел. Часто, а может быть, всегда перед концерном не стоит вопрос, внедрять или не внедрять новый метод производства, который является оптимальным и может в данном виде просуществовать определенный период времени. Как правило, машина нового типа является лишь звеном в общей цепи усовершенствований и в любое время может устареть. Очевидно, что в подобных случаях было бы нерационально последовательно внедрять всю цепь, звено за звеном, не обращая внимание на потери капитала. Следовательно, главный вопрос состоит в том, с какого звена начать. Ответ на этот вопрос может быть лишь компромиссом между различными соображениями, основанными преимущественно на догадках. Как известно, для того, чтобы принять решение, требуется немного подождать, чтобы проследить за тем, как будет вести себя вся цепь. Но новичку, смотрящему со стороны, это выжидание может тем временем показаться попыткой удушить нововведение для того, чтобы сохранить стоимость существующего капитала. Однако самый терпеливый товарищ возмутился бы, если бы социалистический управляющий был настолько глуп, чтобы послушаться теоретика, предлагающего ему списывать все сооружения, машины и оборудование каждый год. 5. Большая часть этой главы посвящена фактам и проблемам, которые в обыденном словоупотреблении связываются с монополией и монополистическим поведением. Однако до сих пор я воздерживался от употребления этих терминов, предполагая обсудить их в специальном пункте, в котором, впрочем, читатель не найдет ничего такого, чего мы уже так или иначе не касались. (a) Начнем с самого термина. Монополист означает "единственный продавец". Следовательно, монополистом по определению является всякий, кто продает нечто, отличающееся по любому признаку (включая упаковку, расположение торговой точки и способ обслуживания) от того, что продают другие: любой лавочник или продавец мороженого, организационно не связанный с другими продавцами мороженого данного сорта. Однако, говоря о монополистах, мы имеем в виду нечто иное, а именно таких единственных продавцов, чьи рынки закрыты для потенциальных продавцов того же самого товара и имеющихся продавцов аналогичных товаров. Иными словами, речь идет о таких единственных продавцах, кривая спроса на продукцию которых не зависит ни от их собственных действий, ни от реакции на эти действия других фирм. Традиционная теория монополии Курно-Маршалла, развитая и дополненная более поздними авторами, справедлива только при данном определении. Называть же монополией что-то другое, к чему эта теория неприменима, видимо, не имеет смысла. Но при таком определении становится очевидным, что чистые явления длительной монополии крайне редки и даже приближенные к ней ситуации встречаются реже, чем случаи совершенной конкуренции. В условиях чистого капитализма возможность эксплуатировать по своему усмотрению неизменный уровень спроса — или уровень, изменение которого не зависит от действий монополиста и от реакции, которую они вызывают, — не может существовать достаточно долго, чтобы оказать влияние на общий объем производства, за исключением тех случаев, когда за такой монополией стоит государственная власть (например, фискальной монополии). Трудно найти или даже представить себе современный концерн, не пользующийся в полной мере государственной поддержкой (даже если он защищен импортными пошлинами или ограничениями), который обладал бы такой властью в течение длительного времени. Даже железнодорожные и энергетические концерны должны были вначале создать рынок для своих услуг, а затем защищать его от вторжения конкурентов. Что же касается других отраслей, то быть единственным продавцом и оставаться таковым в течение десятилетий можно лишь при условии, что не будешь вести себя как монополист. Что же касается краткосрочной монополии, то о ней будет сказано ниже. Откуда же взялись все эти разговоры о монополии? Ответ на этот вопрос небезынтересен для тех, кто изучает психологию политических дебатов. Разумеется, понятие монополии, как и любое другое понятие, часто употребляется не строго. Иногда говорят, что у данной страны есть монополия на что-то [Эти так называемые монополии недавно вышли на первый план в связи с предложениями не поставлять государствам-агрессорам определенные виды материалов. Уроки этой дискуссии по аналогии имеют некоторое отношение и к нашей проблеме. Сперва эффективность этих санкций считалась высокой, но затем было установлено, что список запрещенных к вывозу материалов сокращается, поскольку стало ясно, что лишь немногие из них не могут быть произведены или заменены субститутами в странах, подвергшихся санкциям. В конце концов возникло убеждение , что какое-либо воздействие может быть только краткосрочным, а долгосрочные процессы практически всегда позволяют обойти санкции], даже если соответствующая отрасль является вполне конкурентной и т.д. Но это еще не все. Экономисты, государственные служащие, журналисты и политики в этой стране любят употреблять это слово как жупел, способный, вызвать неизменно враждебное отношение общественности. В Англии и Америке монополию проклинали и связывали с бесплодной эксплуатацией еще с ХVI-ХVII вв., когда английская администрация создавала большое количество монополий, деятельность которых, с одной стороны, полностью соответствовала теоретической модели монополистического поведения, а с другой — по праву вызывала всеобщее возмущение, которое производило впечатление даже на саму великую Елизавету. У народов хорошая память. В наши дни мы можем убедиться в этом и на других, более важных примерах. Монополистическая деятельность елизаветинских времен сформировала у англоговорящих народов привычку приписывать этой зловещей силе практически все неприятное, что они находили в сфере бизнеса. Для типичного либерального буржуа монополия — прародительница всех пороков, его главный супостат. Адам Смит, имевший дело с монополиями тюдоровского и стюартовского типов, третировал их с позиций высокой морали [Это некритическое осуждение монополий Адамом Смитом и другими классиками можно оправдать тем, что в их время еще не существовало большого бизнеса в нашем смысле. Но и с учетом этого они заходили слишком далеко. Отчасти причиной является то, что классики не располагали удовлетворительной теорией монополии и использовали этот термин без разбора (Адам Смит и даже Сениор считали, к примеру, земельную ренту монопольным доходом). Они также считали, что власть монополиста практически безгранична, что, разумеется, неверно даже для наиболее одиозных случаев]. Сэр Роберт Пиль [Пиль Р. (1788-1850) — премьер-министр Англии в 1834-1835, 1841-1846 гг. от партии тори. В 1846 г. отменил протекционистские хлебные законы, что вызвало раскол в его партии], который, как и большинство консерваторов, иногда прибегал к демагогии, в своей знаменитой последней речи, так обидевшей его коллег, говорил о хлебной или пшеничной монополиях, хотя производство зерна в Англии, несмотря на протекционизм, было отраслью, где господствовала совершенная конкуренция [На этом примере заметно, как термин "монополия" используется совершенно неуместным образом. Протекционистская политика в области импорта сельскохозяй ственных продуктов и монополия на их продажу — это совершенно разные вещи. Борьба шла именно вокруг протекционизма, а не по поводу несуществующего конт роля земельных собственников или фермеров. Но чтобы победить протекционизм, на до было получить массовую поддержку, а для этого не было лучшего средства, чем обозвать его сторонников монополистами]. В США слово "монополия" стало практически синонимом крупной фирмы. (b) Теория учит нас, что за редким исключением монопольная цена должна быть выше конкурентной, а объем производства при монополии меньше, чем при конкуренции. Это верно в том случае, если способ производства, его организация и все остальное в обоих случаях одинаковы. На самом деле в распоряжении монополиста могут находиться способы производства, недоступные или труднодоступные для его конкурентов. Дело в том, что существуют преимущества, которых в принципе можно добиться и конкурентному предприятию, но гарантированы они только монополиям. Например, монополизация может увеличить сферу действия более умных людей и уменьшить сферу действия менее умных [Отметим, что, хотя это преимущество в принципе несомненно, менее умные управляющие, особенно если они не контролируются собственниками, отрицают его, в чем их поддерживают общественность и экономисты. Это, видимо, связано с недооценкой экономии на издержках и улучшения качества, присущих квазимонополистическим комбинациям. Эта недооценка столь же распространена сейчас, как завышен ная оценка в период создания этих комбинаций (ее обычно давали их организаторы)]. Монополия может также иметь на порядок более устойчивое финансовое положение. Всюду, где действуют эти преимущества, вышеупомянутый принцип не действует, иными словами, данный аргумент в пользу конкуренции не работает, потому что при разных уровнях производственной и организационной эффективности монопольные цены не обязательно выше конкурентных, а объем производства при монополии ниже, чем при конкуренции. Вряд ли можно сомневаться, что в наше время превосходство такого рода присуще типичной крупной единице контроля, хотя сам по себе размер не является ни необходимым, ни достаточным его условием. Эти единицы контроля не просто возникают в процессе созидательного разрушения и функционируют способом, совершенно не совпадающим со статической схемой: во многих важных случаях они создают предпосылки для достижений. Они часто сами создают преимущества, которые эксплуатируют. Поэтому общепринятый вывод об их долгосрочном воздействии на объем производства будет неверным, даже если они являются истинными монополистами в строгом смысле слова. Мотивация здесь безразлична. Даже если единственной целью производителя является возможность устанавливать монопольные цены, наличие усовершенствованных способов производства и большого управленческого аппарата сдвигает оптимальную для монополиста цену в сторону конкурентной цены в указанном выше смысле. Таким образом монополии частично или полностью выполняют функцию конкуренции, даже если объем производства ограничивается и налицо постоянный избыток производственных мощностей, а иногда справляются с этой функцией лучше, чем сам конкурентный механизм ["Американская алюминиевая компания" не является монополией в строгом смысле слова хотя бы потому, что ей пришлось самой создавать спрос на свою продукцию, а это никак не укладывается в модель Курно-Маршалла. Однако большинст во экономистов называют ее монополией, и мы за недостатком примеров частной монополии поступим так же, С 1890 по 1929 г. цена основного продукта, который прода ет этот единственный продавец, упала примерно на 12 % или, если сделать поправку на изменение общего уровня цен, на 8,8 %. При этом производство возросло с 30 до 103400 т. Срок патента истек в 1909 г. Экономисты, критикующие эту "монополию" за высокие издержки и большие прибыли, молчаливо предполагают, что множество кон курирующих фирм в данной отрасли смогли бы добиться не меньших успехов в сокращении издержек, внедрении наиболее экономичного производственного аппарата, исследовании новых областей применения алюминия и избежать разорительных банк ротств. Таким образом, эти критики абстрагируются от основной движущей силы современного капиталистического развития.] Разумеется, если при монополизации не усовершенствуются способы производства и его организации (как это обычно случается при образовании картелей), классическая теорема о монопольной цене и монопольном объеме производства вступает в свои права [См., однако, пункт 1 этой главы]. То же самое можно сказать и о другой популярной идее об "усыпляющем" воздействии монополизации. Нетрудно найти соответствующие примеры, но построить на них общую теорию нельзя. Монопольное положение, в особенности в обрабатывающей промышленности, — это не подушка, на которой удобно спать. Как приобрести, так и сохранить его невозможно без полной концентрации внимания и больших затрат энергии. Вялость современного бизнеса объясняется совсем другой причиной, о которой будет сказано ниже. (с) В краткосрочном аспекте мы гораздо чаще имеем дело с настоящими монопольными ситуациями или близкими к ним. Лавочник из деревушки на реке Огайо может быть истинным монополистом в течение нескольких часов или даже дней, когда наводнение отрежет деревню от остального мира. Каждый удачливый спекулянт в определенный момент является монополистом. Фирма, производящая бумажные этикетки для пивных бутылок, может оказаться в таком положении, — предположим, потенциальные конкуренты понимают, что если они войдут в отрасль, то прибыль тут же исчезнет, — в котором она по своему выбору может свободно передвигаться по некоторому конечному участку кривой спроса, по крайней мере до тех пор, пока внедрение металлических этикеток не разнесет эту кривую вдребезги. Новые способы производства и особенно новые товары сами по себе совсем не обязательно ведут к монополии, даже если их применяет или производит одна-единственная фирма. Продукт, произведенный новым способом, должен конкурировать с продуктом, изготовленным старыми способами, а новый товар надо еще продвинуть на рынок, т.е. создать на него спрос. Как правило, ни владения патентом, ни монополистического поведения недостаточно, чтобы решить эти задачи. Исключениями могут быть случаи, когда новая техника явно превосходит прежнюю (особенно если ее можно арендовать, как, например, станки для изготовления обуви) или когда устойчивый спрос на новый товар успевает сформироваться до того, как истечет срок патента. Таким образом, в предпринимательской прибыли, которую в капиталистическом обществе получает удачливый новатор, содержится или может содержаться элемент монопольного дохода. Однако количественная значимость этого элемента, его кратковременный характер и специфическая функция заставляют выделить его в особый класс. Основная ценность, которую представляет для концерна позиция единственного продавца, обеспечиваемая патентом или монополистической стратегией, состоит не столько в том, что концерн временно получает возможность вести себя как монополист, сколько в том, что эти условия страхуют его от возможной дезорганизации рынка и позволяют применить долгосрочное планирование. Здесь, однако, в наших аргументах начинает повторяться то, что уже было сказано. 6. Подводя итоги этой главы, мы должны сказать, что большая часть фактов и доводов, в ней приведенных, развеивает ореол вокруг совершенной конкуренции и заставляет нас в более благоприятном свете рассматривать ее альтернативу — монополию. Сейчас я переформулирую наши аргументы под этим углом зрения. Даже сама традиционная теория в рамках избранного ею предмета — стационарного состояния экономики или устойчивого роста — со времен Маршалла и Эджуорта обнаружила растущее число исключений из старых правил, касающихся совершенной конкуренции и в некоторой степени свободной торговли. Это поколебало безграничную веру в их достоинства, свойственную поколению экономистов от Рикардо до Маршалла — грубо говоря, поколению Дж.С.Милля в Англии и Франческо Феррары в континентальной Европе. В особенности ослабла прежняя вера в то, что система совершенной конкуренции наиболее экономично расходует ресурсы и распределяет их оптимальным при данном распределении дохода образом. Эта предпосылка тесно связана с проблемой движения объема производства [Поскольку мы не можем останавливаться на этом предмете более подробно, я отошлю читателя к статье Р.Ф.Кана (Каhn R.F. Some Notes on Ideal Output // Есоnomic Journal.1935. Маrch)]. Более серьезную брешь пробили недавние работы в области динамической теории (Фриш, Тинберген, Рус, Хикс и др.). Динамический анализ — это анализ временных последовательностей. Объясняя, почему некоторая экономическая величина, например цена, именно такова, как она есть, он учитывает не только уровень других экономических величин в данный момент, как это делает статическая теория, но и их прошлые, а также ожидаемые будущие значения. Исследуя взаимосвязи между величинами, относящимися к различным моментам времени [Термин "динамика" употребляется во многих значениях. Приведенное нами определение принадлежит Рагнару Фришу], мы первым делом убеждаемся, что, если равновесие по какой-либо причине нарушено, процесс установления нового равновесия протекает не так надежно, быстро и экономично, как утверждает старая теория совершенной конкуренции. Более того, возможно, что сами попытки адаптации приведут систему в еще более неравновесное состояние, чем раньше. Так произойдет в большинстве случаев, если возмущающее воздействие достаточно велико. Во многих случаях процесс адаптации с временным лагом неизбежно приведет к таким результатам. Сказанное я могу проиллюстрировать хорошо известным простейшим примером. Предположим, что на совершенном конкурентном рынке пшеницы спрос и ожидаемое предложение находятся в равновесии, но плохая погода сокращает урожай, а значит, и предложение относительно уровня, запланированного фермерами. Если цена повысится, а фермеры сочтут ее равновесной и увеличат производство, то в будущем году на рынке произойдет резкое падение цен. Тогда фермеры сократят производство, цена возрастет и может превысить уровень первого года. Это в свою очередь вызовет рост производства больший, чем во второй год. И так далее до бесконечности (по крайней мере, такова логика процесса). Вспомнив предпосылки нашей модели, читатель, конечно, придет к выводу, что на практике все более высокие цены и все более возрастающие объемы производства вряд ли будут чередоваться до судного дня. Но тем не менее сама возможность такого явления обнажает слабости в механизме совершенной конкуренции. И как только мы убедимся в их наличии, наш оптимизм по поводу практической реализации этой теории начнет улетучиваться. Но мы должны идти дальше [Следует заметить, что характер динамической теории не имеет ничего общего с характером экономической реальности, к которой она применяется. Это не изучение конкретного процесса, а общий метод анализа. Мы можем использовать динамическую теорию и для анализа стационарной экономики, так же как изменяющуюся экономику можно исследовать с помощью статического метода ("сравнительная статика"). Поэтому динамическая теория вовсе не обязана заниматься процессом созидательного разрушения, который мы признали сущностью капитализма (и, действительно, им еще не занималась). Разумеется, она лучше, чем статическая теория, подготовлена к рассмотрению многих вопросов, которые возникают при анализе этого процесса. Но сама по себе она анализом этого процесса не является и трактует возникающие в результате него изменения существующих ситуаций и структур как обычные возбуждения. Таким образом, оценивать функционирование совершенной конкуренции с точки зрения капиталистической эволюции и с точки зрения динамической теории — это разные вещи]. Если мы попробуем представить себе, как функционирует или могла бы функционировать совершенная конкуренция в рамках процесса созидательного разрушения, мы получим еще менее утешительные результаты. Это вряд ли может нас удивить, поскольку в модели экономической жизни, соответствующей предпосылкам совершенной конкуренции, отсутствуют все основные моменты этого процесса. Рискуя повториться, я все же еще раз проиллюстрирую этот тезис. Совершенная конкуренция предполагает свободный вход в каждую отрасль. В рамках этой модели свобода входа действительно является условием оптимального размещения ресурсов и, следовательно, максимизации производства. Если бы наша экономика состояла из постоянного набора отраслей, производящих одинаковый ассортимент товаров в принципе неизменными способами, и если бы единственное изменение в ней состояло в том, что новые люди, привлекая дополнительные сбережения, создавали новые фирмы традиционного образца, то барьеры на вход в ту или иную отрасль действительно причиняли бы обществу убыток. Но совершенно свободный вход в новую отрасль невозможен. Внедрение новых способов производства и новых товаров с самого начала несовместимо с совершенной (и мгновенной) конкуренцией. Но это означает, что с ними несовместимо то, что мы, собственно говоря, называем экономическим прогрессом. И действительно совершенная конкуренция — автоматически или в результате специальных мер — временно разрушается и всегда разрушалась всюду, где появлялось что-либо новое, даже если все остальные предпосылки совершенной конкуренции были налицо. Аналогично в рамках традиционной системы обвинительный приговор жестким ценам вполне справедлив. Жесткость цен препятствует быстрой адаптации, которую предусматривает совершенная конкуренция. Для тех условий и для того типа адаптации, которые фигурируют в традиционной теории, это опять-таки ведет к потерям и сокращению производства. Но мы уже видели, что для переменчивого, прерывистого процесса созидательного разрушения справедливо обратное: совершенная гибкость может, напротив, вести к катастрофам. К тому же выводу приходит и общая динамическая теория, которая, как упоминалось выше, показывает, что некоторые попытки адаптации лишь усугубляют неравновесие. Далее, в рамках своих предпосылок традиционная теория справедливо утверждает, что превышение прибылью уровня, достаточного, чтобы привлечь равновесные количества средств производства (включая предпринимательские способности), свидетельствует о потерях для общества, а стратегия, направленная на удержание этих прибылей, препятствует росту объемов производства. Совершенная конкуренция предотвращает или мгновенно устраняет эту избыточную прибыль и не оставляет возможности для названной стратегии. Но поскольку в процессе капиталистической эволюции эти прибыли выполняют новые органичные функции, — я не буду повторять, в чем они состоят, — это факт и его влияние на рост совокупного продукта уже нельзя оценивать, исходя из модели совершенной конкуренции. Наконец, можно показать, что при тех же предпосылках, исключающих наиболее характерные черты капиталистической действительности, экономика, в которой господствует совершенная конкуренция, не является расточительной в отличие от своей противоположности. Но это еще ничего не говорит нам о том, как с этим обстоит дело в процессе созидательного разрушения. С другой стороны, в этом процессе не может считаться бесцельной растратой ресурсов многое из того, что в иных условиях таковой считается. Например, излишние мощности, создающиеся для того, чтобы "опередить спрос" или иметь запас в момент циклического максимума спроса, при совершенной конкуренции были бы намного сокращены. Но приняв во внимание все обстоятельства, уже нельзя сказать, что совершенная конкуренция в данном случае предпочтительна. Хотя концерн, который не может определять цену, а воспринимает ее как данность, действительно использует все свои мощности, если при этом существующая цена покрывает предельные издержки, он никогда не смог бы создать мощности такого размера и качества, как большой бизнес, который может использовать их как стратегический резерв. Избыточные мощности такого рода в некоторых случаях, хотя далеко не во всех, могут быть преимуществом социалистической экономики. Но, во всяком случае, они никак не могут подтвердить превосходство совершенной конкуренции над "монополоидными" разновидностями капиталистической экономики. С другой стороны, в условиях капиталистической эволюции механизм совершенной конкуренции порождает свои собственные растраты. Фирмы того типа, который согласуется с предпосылками совершенной конкуренции, во многих случаях менее эффективны с внутрифирменной, в особенности технологической, точки зрения. При этом они растрачивают лучшие возможности. Кроме того, в попытках усовершенствовать технологию они могут неэффективно использовать капитал, поскольку в их положении труднее оценить и использовать новые возможности. Наконец, как мы уже видели, отрасль, в которой условия приближаются к совершенной конкуренции, гораздо более, чем большой бизнес, подвержена кризисам под влиянием прогресса или внешних возмущений и может распространять бациллы депрессии. В конечном счете американское сельское хозяйство, английские угольные шахты и текстильные фабрики стоят потребителям гораздо больше и влияют на совокупное производство гораздо хуже, чем в том случае, если бы каждая из этих отраслей контролировалась дюжиной умных людей. Таким образом, недостаточно утверждать, что, поскольку совершенная конкуренция в условиях современного индустриального общества невозможна, — или всегда была невозможна, — мы должны примириться с крупным предприятием как с неизбежным злом, неотделимым от экономического прогресса. Мы должны признать, что крупное предприятие стало наиболее мощным двигателем этого прогресса и в особенности долговременного наращивания объемов производства не только вопреки, но и благодаря той стратегии, которая в каждом индивидуальном случае и в каждый момент времени выглядит ограничительной. В этом отношении совершенная конкуренция не только невозможна, но и нежелательна и никак не может считаться образцом идеальной эффективности. Следовательно, ошибочно строить теорию государственной промышленной политики исходя из принципа, что большой бизнес надо заставить работать так, как работала бы данная отрасль в условиях совершенной конкуренции. А социалистам следовало бы в своей критике современного капитализма опираться не на конкурентную модель, а на достоинства социалистической экономики. Глава 9. Передышка для пролетариата
Достигло ли наше исследование поставленных перед ним задач — решать читателю. Экономическая наука основана на наблюдении и интерпретации и применительно к проблемам, которые мы здесь обсуждаем, разница точек зрения может уменьшиться, но уж никак не исчезнуть. По той же причине решение первой нашей проблемы только подводит нас к порогу следующей: ситуация, несвойственная экспериментальным наукам. Первая проблема состояла в том, чтобы выяснить, существует ли связь между структурными характеристиками капитализма, отраженными в различных аналитических "моделях", и показателем экономического развития, которым для эпохи свободного, ничем не ограниченного капитализма является индекс совокупного общественного продукта. Мой утвердительный ответ на этот вопрос основывался на аргументации, с которой согласились бы большинство экономистов до того момента, когда на сцену выступила так называемая современная тенденция к монополистическому контролю. После этого мой анализ отклонился от проторенных путей в попытке показать, что свойства, единогласно приписываемые капитализму совершенной конкуренции (понимаемому либо как теоретическая схема, либо как историческая реальность, существовавшая когда-то в прошлом), присущи, причем едва ли не в большей степени, капитализму большого бизнеса. Однако, поскольку мы лишены возможности поместить двигатель капиталистического развития в установку для экспериментов и провести его испытания при строго контролируемых условиях, мы не можем строго доказать, что результатом эксперимента явился бы именно фактический темп роста совокупного продукта. Все, что мы можем, — это констатировать, что этот темп был весьма впечатляющим, а капиталистическая среда этому способствовала. И именно поэтому мы не можем остановиться здесь и должны рассмотреть следующую проблему. А priori все еще возможно объяснить наблюдавшийся экономический рост чрезвычайными обстоятельствами, влияние которых сказалось бы в любой институциональной среде. Единственный способ исключить эту возможность — рассмотреть экономическую и политическую историю данного периода и проанализировать все имевшиеся чрезвычайные обстоятельства, о которых писали экономисты и историки. Рассмотрим те из них, которые не имеют прямого отношения к капиталистическому процессу. Их всего пять. Первый фактор — государственная политика. Хотя я согласен с Марксом в том, что политика и политики являются не независимыми факторами, а лишь элементами изучаемого нами общественного процесса, мы рассмотрим их здесь как внешние факторы по отношению к деловому миру. В этом отношении период с 1870 до 1914 г. представляет собой почти идеальный случай. Трудно найти период, столь свободный и от стимулирующего, и от замедляющего воздействия на экономику со стороны политической сферы общественного процесса. Оковы с предпринимательской деятельности и с промышленности и торговли в целом были в основном сняты еще до наступления этого периода. Правда, появлялись новые оковы и тяготы, связанные с социальным законодательством и т.п., однако никому не придет в голову утверждать, что они оказывали существенное влияние на экономическую ситуацию до 1914 г. Шли войны, но ни одна из них не имела жизненно важного экономического значения. Может возникнуть сомнение относительно последствий франко-прусской войны, завершившейся образованием Германской империи. Однако на самом деле экономическое значение имело образование Таможенного союза. Существовали расходы на вооружение. Но на протяжении десятилетия, окончившегося 1914 годом, когда эти расходы приняли действительно значительные размеры, они были скорее помехой, чем стимулом. Второй фактор — золото. К счастью, нам нет необходимости углубляться в дебри теоретических проблем, связанных с новым притоком золота и его изобилием в 1890-е годы. Дело в том, что в 1870-1890-е годы изобилия золота еще не наблюдалось, между тем как совокупный продукт рос не менее быстрыми темпами, чем впоследствии. Следовательно, производство золота не могло быть решающим фактором, влиявшим на экономическое развитие капитализма, хотя его влияние на фазы процветания и депрессии не исключено. То же самое можно сказать о денежной политике, которая в данный период скорее приспосабливалась к стихийным изменениям, чем играла активную роль. Третьим фактором, несомненно оказывающим существенное воздействие на экономическую ситуацию, был рост населения. Однако не ясно, в какой мере он был причиной, а в какой — следствием экономического прогресса. Если мы не станем утверждать, что он был только следствием, и предполагать, что любое изменение производства влечет за собой соответствующее изменение населения, отвергая всякое обратное влияние (что было бы, конечно, абсурдно), этот фактор следует отнести к бесспорным кандидатам на роль детерминанта экономического развития. Здесь мы лишь кратко сформулируем нашу точку зрения по этому поводу. При любой организации общества большее число работников всегда произведет больше продукта, чем меньшее. Поэтому, поскольку некоторая часть прироста населения в данный период не может быть отнесена на счет самой капиталистической системы, — в том смысле, что она произошла бы при любой системе, — этот фактор следует считать внешним по отношению к последней. В той мере, в какой это действительно так, показатели экономического роста завышают достижения капитализма. Однако при любой организации общества большее число работников при прочих равных условиях, как правило, производит меньшую величину продукта в расчете на каждого работника или на душу населения. Это следует из того факта, что чем больше число работников, тем меньше величина других факторов производства, приходящихся на одного работника [Эта формулировка не до конца может нас удовлетворить, однако в данном случае ее вполне достаточно. Ко времени, о котором идет речь, капиталистическая часть мира, взятая в целом, безусловно, уже переступила черту, до которой действует противоположная тенденция]. Следовательно, если показателем, измеряющим экономический рост при капитализме, мы изберем продукт на душу населения, то наблюдаемый рост занижает достижения капитализма, поскольку часть этих достижений заключалась в том, чтобы компенсировать падение душевого продукта, которое произошло бы в отсутствие капиталистаческой системы. Другие аспекты этой проблемы будут рассмотрены ниже. Четвертый и пятый факторы более популярны среди экономистов, но применительно к прошлому экономическому развитию они не играли важной роли. Прежде всего речь идет о новых землях. Большие пространства, вовлеченные в течение данного периода в экономическое использование для стран Америки и Европы; получаемые оттуда обильные потоки продовольствия, сельскохозяйственного и прочего сырья; бурно развивающиеся города и отрасли, перерабатывающие эти потоки, — не было ли все это исключительным, поистине уникальным фактором, определявшим экономическое развитие? Не могло ли это благоприятное стечение обстоятельств стать источником огромных богатств при любой экономической системе, которой посчастливилось бы воспользоваться его результатами? Одна из школ социалистической мысли придерживается именно такого мнения и объясняет этим обстоятельством тот факт, что, вопреки прогнозу Маркса, постоянное увеличение нищеты так и не наступило. Они считают, что эксплуатация труда не возрастает благодаря эксплуатации новых земель. Этот фактор позволяет пролетариату получить передышку. Бесспорно, существование новых земель открывало новые важные возможности. Разумеется, эти возможности были уникальны. Но "объективные возможности", т.е. возможности, возникающие независимо от социальной среды, всегда являются предпосылками прогресса, и каждая из них исторически уникальна. Наличие угля и железной руды в Англии или нефти в той или иной стране не менее существенно и представляет собой не менее уникальную возможность. Весь капиталистический процесс, как и любой эволюционный экономический процесс, в сущности и состоит в использовании этих возможностей по мере того, как они попадают в поле зрения деловых людей. Я не вижу никакого смысла в том, чтобы выделять именно данную возможность и рассматривать ее как внешний фактор. Тем более если мы вспомним, что открытие новых земель шаг за шагом осуществлял не кто-нибудь, а капиталистические предприятия, которые к тому же создавали и все условия для этого (строительство железных дорог и электростанций, судоходство, ввоз сельскохозяйственной техники и т.д.). Таким образом, этот процесс был одним из капиталистических достижений наравне с прочими. Результаты его внесли свой вклад в достижение двухпроцентного экономического роста, который мы здесь обсуждаем. И вновь за поддержкой нашей точки зрения мы можем обратиться к "Коммунистическому манифесту". Наконец, последний фактор — технический прогресс. Может быть, экономический рост был порожден потоком изобретений, революционизировавших производственный аппарат, а вовсе не погоней бизнесменов за прибылью? Мы даем отрицательный ответ на этот вопрос. Важнейшим, сущностным элементом этой погони за прибылью было как раз воплощение технических новинок. И даже сами изобретения, как будет объяснено чуть ниже, были функцией капиталистического процесса: он порождал привычку к тем формам умственной деятельности, которые ведут к открытиям. Поэтому совершенно ошибочна — и, кстати, противоречит марксизму — точка зрения многих экономистов, согласно которой капиталистическое предприятие и технический прогресс представляют собой два различных фактора, способствовавших экономическому росту, — это по существу одно и то же или, если мы предпочтем иную формулировку, первый фактор является движущей силой второго. Если мы прибегнем к экстраполяциям, то факторы новых земель и технического прогресса будут представлять особую проблему. Хотя они принадлежат к достижениям капитализма, эти достижения вполне могут больше не повториться. И хотя мы теперь доказали, что высокий темп роста производства в расчете на душу населения в эпоху полного расцвета капитализма не был случайным, а отражал достижения капиталистической системы, нам надо ответить еще на один вопрос: правомерно ли предполагать, что капиталистическая машина, скажем, в ближайшие сорок лет будет работать (или могла бы работать, если бы ей дали такую возможность) столь же успешно, как в прошлом. Глава 10. Исчезновение инвестиционных возможностей
Суть этой проблемы наиболее доходчиво можно пояснить на фоне одной современной дискуссии. Нынешнее поколение экономистов видели не только мировую депрессию небывалой глубины и продолжительности, но и последующий период слабого, то и дело прерывающегося оживления. Я уже изложил свою интерпретацию этих явлений [ См. гл. V. С. 106] и причины, в силу которых я не считаю, что они обозначают перелом в эволюции капитализма. Однако вполне естественно, что многие, если не большинство моих коллег, придерживаются другой точки зрения. Точно так же, как некоторые их предшественники в период между 1873 и 18% гг., они чувствуют, что в капиталистическом процессе происходят фундаментальные перемены. С их точки зрения, мы являемся свидетелями не просто депрессии и слабого оживления, возможно усугубленных антикапиталистической государственной политикой, но симптомов того, что капитализм навсегда утратил свою жизнеспособность. Эта тема, по их мнению, станет лейтмотивом всех последующих частей капиталистической симфонии. Следовательно, основываясь на прошлом, мы не можем сделать никаких прогнозов относительно будущего капиталистической системы. Этой точки зрения придерживаются многие из тех, у кого желания забегают вперед мыслей. Но мы должны понять, почему социалисты, не относящиеся к последней категории, с таким проворством ухватились за этот счастливый случай, причем некоторые из них по этому поводу полностью поменяли свои аргументы против капитализма. Сделав это, они получили дополнительные выгоды от того, что вернулись к Марксовой традиции, которую, как я уже отмечал, квалифицированным экономистам-марксистам все более приходилось отбрасывать за ненадобностью. Дело в том, что, как отмечалось в первой главе, Маркс предсказывал такое развитие событий: капитализм перед своим окончательным крахом должен вступить в стадию перманентного кризиса, время от времени прерываемого слабыми подъемами или благоприятными случайными событиями. Это еще не все. Один из Марксовых аргументов заключался в том, что концентрация и централизация капитала неблагоприятно скажутся на норме прибыли, а значит, и на инвестиционных возможностях. Поскольку капиталистический процесс всегда в значительной мере приводился в движение с помощью значительных текущих инвестиций, то даже частичная приостановка их будет достаточна для того, чтобы сделать прогноз о том, что дело идет к краху. Этот марксистский аргумент, несомненно, согласуется не только с реальностями последнего десятилетия: безработицей, избыточными резервами, перенасыщением денежных рынков, неудовлетворительными показателями прибыли, стагнацией частных инвестиций, — но и с некоторыми немарксистскими интерпретациями. Между Марксом и Кейнсом явно нет такой пропасти, которая была между Марксом и Маршаллом или Викселлем. И марксистскую, и немарксистскую доктрину здесь можно охарактеризовать как теорию исчезающих инвестиционных возможностей [См. мою работу "Вusiness Cycles. Ch. 15]. Эта теория в действительности имеет дело с тремя отдельными проблемами. Первая формулируется в точности так же, как заголовок этой части. Поскольку ничто в человеческом обществе не существует вечно и поскольку капиталистический строй образует структуру процесса не только экономических, но и политических изменений, то не трудно представить себе разнообразие ответов на этот вопрос. Второй вопрос состоит в том, следует ли придавать особое значение силам и механизмам, фигурирующим в теории исчезающих инвестиционных возможностей. В следующих главах я собираюсь изложить свою теорию относительно того, что может в конечном счете убить капитализм, но у моей теории есть некоторые сходные черты с той, которую мы рассматриваем сейчас. Но есть и третья проблема. Если даже сил и механизмов, описанных в теории исчезающих инвестиционных возможностей, вполне достаточно для того, чтобы в капиталистическом процессе существовала долговременная тенденция, ведущая его в тупик, из этого еще не следует, что несчастья последнего десятилетия были связаны именно с ними и — что особенно важно для нас — что сходные неприятности будут продолжаться в течение следующих сорока лет. В данный момент мы займемся главным образом третьей проблемой, но многое из того, что я хочу сказать, имеет отношение и ко второй. Факторы, которые, как принято считать, оправдывают пессимистические прогнозы относительно развития капитализма в ближайшем будущем и исключают повторение прошлых успехов, могут быть разделены на три группы. Во-первых, это факторы, характеризующие среду, в которой протекает капиталистический процесс. Мы уже заявили и собираемся доказать наш тезис в дальнейшем, что капиталистический процесс порождает такое распределение политической власти и такую социально-психологическую установку, отражающуюся в соответствующей политике, которые враждебны самому этому процессу. Можно ожидать, что в будущем они наберут силу и приведут к перебоям в работе капиталистической машины. Этот феномен мы рассмотрим ниже. То, что будет сказано сейчас, следует воспринимать с надлежащими оговорками. Но надо отметить, что данная установка и другие родственные факторы влияют и на мотивацию внутри самой буржуазной экономики, основанной на прибыли. Поэтому оговорка более значительна, чем может показаться на первый взгляд, — речь идет не просто о "политике". Во-вторых, это сама капиталистическая машина. Теория исчезающих инвестиционных возможностей не тождественна, но близка другой теории, согласно которой мир современного большого бизнеса являет собой окостеневшую форму капитализма, которой присущи монополистические барьеры, неподвижность цен, преисполненность сохранением ценности существующего капитала и так далее. С этой теорией мы уже разобрались. Наконец, в-третьих, мы имеем дело, так сказать, с "топливом" для капиталистической машины, т.е. с возможностями для нового предпринимательства и инвестирования. Теория, которую мы сейчас рассматриваем, уделяет этому пункту настолько большое внимание, что мы сочли возможным дать ей соответствующее название. Предполагается, что основные причины исчезновения возможностей для частного предпринимательства и инвестирования связаны: с насыщением потребностей, замедлением прироста населения, исчерпанием новых земель и технических возможностей и тем обстоятельством, что многие из существующих инвестиционных возможностей относятся скорее к сфере государственных, а не частных инвестиций. 1. Безусловно, для каждого данного состояния человеческих потребностей и технологии (в самом широком смысле этого слова) при каждой ставке реальной заработной платы существует определенный объем основного и оборотного капитала, который соответствует точке насыщения. Если бы потребности и технология были бы заморожены на уровне 1800 г., эта точка давно бы уже наступила. Можем ли мы представить себе, что в один прекрасный день потребности будут настолько удовлетворены, что их уровень больше никогда не будет расти? Мы рассмотрим некоторые аспекты этого гипотетического случая, но поскольку нас интересует перспектива на ближайшие сорок лет, мы, очевидно, можем игнорировать такую возможность. Если же она когда-либо материализуется, то имеющее место сокращение рождаемости и тем более падение общей численности населения может стать важным фактором сокращения инвестиционных возможностей, если речь идет об инвестициях на расширение производства, а не на замещение капитала. Ведь если потребности каждого удовлетворены или почти удовлетворены, рост числа потребителей согласно принятой нами гипотезе будет единственным существенным источником дополнительного спроса. Но само по себе замедление прироста населения без связи с гипотезой о насыщении вовсе не угрожает инвестиционным возможностям, темпам роста продукта на душу населения [То же самое справедливо и в отношении некоторого сокращения абсолютной численности населения, которое, например, в недалеком будущем может случиться в Великобритании. (См. Charles E. London and Саmbridge Economic Service, Memo N. 40). Значительное абсолютное сокращение населения вызовет дополнительные проблемы. Однако здесь мы от них абстрагируемся, поскольку в период времени, о котором идет речь, такая возможность нереальна. Еще один комплекс проблем, как политических и социально-психологических, так и экономических, создает старение населения. Хотя эти проблемы уже начинают ощущаться, — "лобби стариков" практически уже существует на практике — мы не можем ими здесь заняться. Но следует заметить, что пока пенсионный возраст не меняется, процент иждивенцев не обязательно будет изменяться под воздействием сокращения доли населения моложе пятнадцати лет]. Мы можем быстро убедиться в этом, рассмотрев аргументы противоположной стороны. С одной стороны, принято считать, что замедление прироста населения автоматически подразумевает замедление роста производства, а значит, и инвестиций, поскольку ограничивается рост спроса. Это совсем не обязательно. Потребности и эффективный спрос — не одно и то же. Если бы это было так, то наиболее бурный рост спроса наблюдался бы в самых бедных странах. На самом деле доход, высвобождаемый благодаря снижению рождаемости, может быть направлен по другому предназначению, в особенности в тех случаях, когда желание увеличить спрос на что-то иное является мотивом бездетности. Можно, конечно, утверждать, что рост спроса, который связан именно с ростом населения, более предсказуем и, следовательно, обеспечивает более надежные инвестиционные возможности. Но при данном уровне удовлетворения потребностей прирост спроса по альтернативным каналам не менее надежен. Разумеется, перспективы развития некоторых отраслей экономики, в особенности сельского хозяйства, не назовешь блестящими. Но это нельзя смешивать с перспективами роста совокупного продукта [Многое экономисты, кажется, считают, что рост населения как таковой является самостоятельным источником спроса на инвестиции. Действительно, разве всех этих новых работников не следует вооружить средствами производства и обеспечить соответствующим сырьем? Однако это не столь очевидно, как кажется. Если только рост населения не связан с падением заработной платы, для инвестиций не возникнет никаких особых стимулов. Кроме того, даже в случае снижения зарплаты следует ожидать возможного сокращения инвестиций на одного работника]. С другой стороны, можно было бы утверждать, что снижение рождаемости ограничит производство со стороны предложения. Быстрый рост населения в прошлом был одним из условий наблюдавшегося роста производства, и мы можем продолжить аргументацию в противоположную сторону и предположить, что возрастающая редкость труда может сдерживать производство. Однако этих аргументов мы что-то не слышим, и тому есть свои причины. Достаточно сослаться на то, что в начале 1940 г. выпуск продукции обрабатывающей промышленности США составил примерно 120 % от средней величины за 1923-1925 гг., тогда как количество занятых в этих отраслях осталось на том же уровне, — вот вам и ответ на вопрос о ближайшем будущем! Текущий уровень безработицы; тот факт, что в связи с падением рождаемости все больше женщин высвобождаются для производительного труда, а сокращение смертности означает удлинение рабочего периода; неиссякаемый поток трудосберегающих нововведений; возможность (которой нет при быстром росте населения) отказаться от использования дополнительных факторов производства низкого качества, отчасти нейтрализуя закон убывающей отдачи, — все это заставляет согласиться с прогнозом Колина Кларка, согласно которому выработка продукта за человеко-час возрастет при жизни следующего поколения [Сlark С. National Income and Outlay. Р. 21]. Разумеется, труд можно сделать редким умышленно, проводя политику высокой заработной платы и короткого рабочего дня, а также путем негативного воздействия политики на дисциплину работников. Сравнив экономическое развитие за период с 1933 по 1940 г. в США и Франции, с одной стороны, и в Японии и Германии — с другой, мы убедимся, что нечто в этом роде уже произошло. Однако этот феномен относится к группе факторов, характеризующих среду. Как читатель вскоре убедится, я далек от того, чтобы легкомысленно относиться к проблемам роста населения. Снижение рождаемости представляется мне одним из важнейших явлений нашего времени. Мы убедимся в том, что даже с чисто экономической точки зрения оно имеет чрезвычайно важное значение и как симптом, и как причина смены мотивации. Однако это более сложная проблема. Здесь нас интересует только "механический" эффект замедления роста населения, а он, безусловно, не может лежать в основе пессимистических прогнозов роста совокупного продукта на душу населения в ближайшие сорок лет. Те экономисты, которые утверждают обратное, занимаются тем, к чему, к сожалению, всегда были склонны представители этой профессии: когда-то они совершенно безосновательно пугали публику большим количеством голодных ртов [Начиная с XVII в. практически все прогнозы численности населения были ошибочными. Этому есть, однако, некоторые оправдания. Можно оправдать и появление теории Мальтуса. Но я не вижу никаких оправданий тому, что она существует до сих пор. Во второй половине XIX в. всем должно было стать ясно, что единственное, что представляет ценность в Законе народонаселения Мальтуса, — это ограничения его действия. Первое десятилетие двадцатого века однозначно показало, что этот закон не более чем безобидное пугало. Однако не кто-нибудь, а сам Кейнс попытался воскресить его в период после первой мировой войны! В 1925 г. Г. Райт в своей книге о народонаселении писал о "растранжиривании завоеваний цивилизации на чисто количественный рост населения". Неужели экономическая наука так никогда и не достигнет совершеннолетия?], теперь столь же безосновательно они пугают ее экономическими последствиями низкой рождаемости. 2. Теперь об открытии новых земель — уникальной инвестиционной возможности, которая никогда больше не повторится. Даже если мы согласимся с тем, что географическая граница дальнейшей экспансии человечества закрыта навсегда, — что не очевидно, поскольку в настоящее время существуют пустыни, на месте которых некогда были поля и многолюдные города, — и даже если мы предположим, что ничто и никогда не сможет увеличить благосостояние человечества так, как это сделал поток продовольствия и сырья с этих новых земель, — что более правдоподобно — из этого всего, тем не менее, не следует, что совокупный продукт на душу населения должен сокращаться или замедлить свой рост на протяжении следующей половины столетия. Этого можно было бы ожидать, если бы страны, вовлеченные в капиталистический мир в XIX в., подвергались эксплуатации в том смысле, что их довели бы до стадии убывающей отдачи. Но это не так, и как только что было отмечено, сокращение рождаемости снимает с повестки дня проблему, связанную с тем, что отдача, которую люди получают от природы, становится или уже стала меньшей, чем раньше. Технический прогресс переломил эту тенденцию, и можно с полной уверенностью предсказать, что в обозримом будущем мы будем жить при изобилии сырья и продовольствия, позволяющем увеличивать производство в любом направлении, которое мы сочтем целесообразным. Это относится и к минеральному сырью. Остается еще одна возможность. Хотя текущее производство продовольствия и сырья на душу населения не пострадает, а может быть, и возрастет, возможности для предпринимательства и, следовательно, для инвестиций, связанные с самим процессом освоения новых земель, исчезают с окончанием этого процесса. Происходящее отсюда сокращение области применения сбережений может повлечь за собой всяческие трудности. Что же, давайте вновь предположим, что новые земли освоены до конца, и сбережения, которые не находят себе других областей применения, могут вызвать трудности и привести к расточительству. Оба предположения крайне нереалистичны. Но нам нет необходимости подвергать их сомнению, поскольку выводы относительно будущих темпов роста совокупного продукта основаны на третьем, уж вовсе абсурдном предположении об отсутствии других сфер применения сбережений. Это третье предположение вызвано лишь недостатком воображения и является примером ошибки, часто искажающей интерпретацию исторических событий. Отдельные черты исторического процесса, поразившие аналитика в наибольшей степени, обоснованно или нет возводятся им в ранг фундаментальных факторов. Например, процесс, который обычно описывается как становление капитализма, примерно совпадает во времени с притоком в Европу серебра с рудников Потоси, а также с политической ситуацией, в которой расходы князей превышали их доходы, так что им приходилось непрерывно прибегать к займам. Оба эти явления, очевидно, различными способами повлияли на экономическое развитие того времени, с ними можно связать даже крестьянские восстания и религиозные движения. Поэтому аналитик склонен сделать вывод, что становление капиталистического строя находится в причинно-следственной зависимости с этими явлениями, и без них (а также без некоторых других факторов того же типа) феодальный мир никогда бы не преобразовался в капиталистический. Но это уже совсем другой тезис, для которого нет никаких очевидных оснований. Все, что мы можем утверждать, — это то, что события действительно произошли именно так. Это не означает, что не было никакой другой возможности. В данном случае мы даже не можем утверждать, что названные факторы благоприятствовали развитию капитализма, поскольку это правда лишь отчасти, а в других аспектах влияние их было скорее негативным. Аналогично, как мы убедились в предыдущей главе, возможности для предпринимательства, связанные с освоением новых стран, конечно, были уникальными, но только в том смысле, в каком уникальна каждая возможность. Нелепо предполагать, что "закрытие границ" породит вакуум и всякие попытки найти другие сферы применения капитала будут заведомо менее значительными в любом смысле этого слова. Завоевание воздушного пространства может быть более значительным, чем завоевание Индии, не следует путать географические границы с экономическими. Конечно, сравнительное значение разных стран и регионов может существенно измениться при переходе от одних инвестиционных возможностей к другим. Чем меньше страна или регион, чем больше их судьба связана с каким-то одним элементом производственного процесса, тем хуже выглядит их перспектива в случае, если этот элемент теряет свое значение. Так, сельскохозяйственные регионы могут навсегда потерять свое значение с внедрением синтетических продуктов (вискозы, синтетических красителей, искусственного каучука и др.). Слабым утешением будет для них то, что если рассматривать весь процесс в целом, то будет зафиксирован прирост совокупного продукта. Возможные последствия этого могут быть усугублены разделением экономического мира на сферы конфликтующих национальных интересов. Все, что мы в конце концов можем утверждать, — это то, что исчезновение инвестиционных возможностей, связанных с освоением новых стран, — если они действительно исчезают — вовсе не обязательно должно вести к отсутствию возможностей вообще, что неизбежно оказало бы воздействие на темпы роста совокупного продукта. Мы не можем заявлять, что эти возможности будут замещены другими равноценными возможностями. Мы можем отметить, что данный процесс естественно повлияет на будущее развитие этих и других стран; мы можем выразить доверие к способностям капиталистической системы найти или создать новые возможности, поскольку это ей в общем-то присуще, однако полученный нами отрицательный результат от этого не изменится. А если вспомнить, отчего мы вообще занялись данной проблемой, этого вполне достаточно. 3. Аналогичные возражения можно высказать по поводу широко распространенного мнения, согласно которому в области технического прогресса был сделан прорыв, после которого осталось сделать лишь незначительные усовершенствования. Поскольку эта точка зрения не просто отражает положение дел в ходе и по окончании мирового кризиса, — во время любой глубокой депрессии всегда наблюдается отсутствие новаторских изобретений первой величины — она еще лучше, чем "закрытие границ пространственной экспансии человечества", иллюстрирует ту ошибку интерпретации, к которой так склонны экономисты. В настоящий момент мы находимся в завершающей, понижательной стадии волны предпринимательства, создавшей электростанции, электрифицированные промышленность, сельское хозяйство, домашнее хозяйство и автомобиль. Мы считаем эти достижения выдающимися и не представляем, откуда могут появиться новые столь же значительные возможности. Однако нынешние перспективы одной лишь химической промышленности превосходят все, что можно было ожидать, предположим, в 1880 г., не говоря уже о том, что простого использования достижений эпохи электричества и массового жилищного строительства вполне достаточно для того, чтобы обеспечить нас инвестиционными возможностями на долгое будущее. Пространство технических возможностей — это море, не нанесенное на карту. Мы можем исследовать географический регион и оценить при данном уровне техники и сельскохозяйственного производства относительное плодородие отдельных участков земли. Принимая сегодняшний уровень техники как данный и абстрагируясь от его будущих изменений, мы можем предположить, что вначале начинают обрабатываться лучшие участки, затем — следующие по качеству и т.д. (хотя с исторической точки зрения это неверно). В каждый отдельный момент этого процесса необработанными и оставленными на будущее являются сравнительно худшие участки. Однако эту логику нельзя применить к будущим возможностям, связанным с техническим прогрессом. Из того факта, что некоторые из них были использованы раньше других, вовсе не вытекает, что они были самыми производительными. Те, что еще находятся в сфере возможного, могут быть и более и менее производительны, чем те, которые нам уже доступны. И вновь мы имеем дело лишь с "отрицательным" результатом, который не способен превратить в положительный даже тот факт, что систематизация и рационализация научных исследований и управления ими делают технический прогресс все более эффективным и надежным. Но для нас этого отрицательного результата вполне достаточно: нет никаких оснований ожидать замедления роста производства из-за истощения технологических возможностей. 4. Остается упомянуть еще два варианта теории исчезающих инвестиционных возможностей. Некоторые экономисты утверждали, что рабочую силу в каждой стране за какое-то время необходимо оснастить необходимым производственным оборудованием. Это, по их мнению, произошло приблизительно за XIX в. Пока этот процесс шел, непрерывно возникал новый спрос на капитальные блага, тогда как после того, как он закончился, остался лишь спрос, обусловленный необходимостью замещения капитала. Таким образом, период капиталистического оснащения является уникальным, его характеризует напряжение всех нервов капиталистической экономики, стремящейся создать себе адекватный инструментарий, позволяющий создавать базу для будущего производства таким темпом, который невозможно сохранить в дальнейшем. Это поистине удивительная картина экономического процесса! Может быть, в XVIII в. или в те времена, когда наши предки жили в пещерах, не существовало никакого производственного оборудования? А если оно существовало, то почему добавление, сделанное в XIX в., оказалось более насыщающим, чем все, что имело место раньше? Кроме того, оборудование, добавляемое к инструментарию капиталистической экономики, как правило, конкурирует с существующим оборудованием, лишая его экономической полезности. Поэтому задача обеспечения экономики оборудованием не может быть решена раз и навсегда. Случаи, в которых для решения этой задачи достаточно резервов, оставленных на замещение действующего капитала, — а это может быть только в отсутствие технического прогресса — являются исключениями. Это особенно очевидно тогда, когда новые методы производства воплощены в возникновении новых отраслей экономики: автомобильные заводы явно не финансировались за счет амортизационных отчислений железных дорог. Читатель, без сомнения, отметит, что, если даже мы примем допущения, лежащие в основе данного аргумента, из этого вовсе не вытекает пессимистический прогноз темпов экономического роста. Напротив, вполне можно прийти к обратному выводу: наличие большого запаса капитальных благ, который, постоянно обновляясь, обретает экономическое бессмертие, должно скорее способствовать дальнейшему росту производства. И он будет прав. Аргумент, о котором идет речь, предполагает, что, если экономика, движущей силой которой является производство капитальных благ, столкнется с сокращением спроса на них, возникнут трудности. Но размер этих трудностей, которые, кстати, как правило, не бывают неожиданными, не следует преувеличивать. К примеру, такая отрасль, как металлообработка, довольно легко переключилась с производства одних лишь капитальных благ на выпуск преимущественно потребительских товаров длительного пользования и полуфабрикатов для их производства. И хотя такая компенсация не всегда возможна в рамках каждой отрасли, производящей капитальные блага, в принципе ситуация везде одинакова. Другой вариант теории заключается в следующем. Большие бумы экономической активности, распространяющиеся на весь экономический организм и несущие с собой всеобщее процветание, всегда были связаны с увеличением расходов производителей, которые в свою очередь предполагали строительство дополнительных зданий и закупку оборудования. Некоторые экономисты обнаружили, — по крайней мере, они сами так считают, — тенденцию, которая заключается в том, что новые технологические процессы требуют меньше основного капитала, чем прежние (например, относящиеся к эпохе железнодорожного строительства). Отсюда следует вывод, что значение инвестиций в основной капитал будет убывать. А поскольку это отрицательно скажется на вышеупомянутых бумах экономической активности, которые, очевидно, были связаны с наблюдавшимися высокими темпами роста, то темпы эти должны замедлиться, особенно если норма сбережений останется на прежнем уровне. Адекватной оценки этой тенденции к внедрению новых, все более капиталосберегающих технологических процессов до сих пор дано не было. Статистические данные до 1929 г. (последующие данные по понятным причинам мы не можем использовать для этой цели) указывают на обратную тенденцию. Сторонники рассматриваемой нами теории предложили несколько изолированных примеров, которым можно противопоставить другие примеры. Но предположим, что данная тенденция действительно существует. Тогда перед нами возникнет та же формальная проблема, с которой сталкивались экономисты прошлого, исследуя трудосберегающие технологические процессы. Последние в зависимости от обстоятельств могут оказывать положительное или отрицательное влияние на положение работников, но никто не сомневается, что в целом они благоприятствуют высоким темпам экономического роста. Точно так же, если не считать возможных перебоев в сберегательно-инвестиционном процессе, значение которых сейчас так модно преувеличивать, обстоит дело с устройствами, позволяющими уменьшать капиталоемкость единицы конечного продукта. Вообще-то мы будем недалеки от истины, если скажем, что почти каждый новый экономически осуществимый технологический процесс сберегает и труд, и капитал. Железные дороги, очевидно, были капиталосберегающими по сравнению с гужевым транспортом в расчете на одного пассажира или единицу груза. Аналогично производство натурального шелка с помощью шелковичных червей может быть более капиталоинтенсивным, — впрочем, я в этом не разбираюсь, — чем производство того же количества искусственного шелка. Этот факт весьма печален для владельцев капитала, вложенного в старые методы производства, но это вовсе не означает, что инвестиционные возможности сокращаются, тем более это не подразумевает замедления экономического роста. Тем, кто ожидает краха капитализма на том основании, что единица капитала становится более производительной, придется ждать очень долго. 5. Наконец, поскольку данная теория обычно выдвигается экономистами, стремящимися убедить публику в необходимости государственных расходов за счет бюджетного дефицита, неизменно выдвигается также следующий аргумент: оставшиеся инвестиционные возможности более подходят государственным предприятиям, чем частным. До некоторой степени с этим можно согласиться. Во-первых, с ростом богатства возникают расходы, которые никак не могут быть включены в калькуляцию издержек и прибылей: расходы на украшение городов, на здравоохранение и т.д. Во-вторых, расширяется сектор экономики, который обычно находится в сфере государственного управления: связь, порты, производство энергии, страхование и т.д. Эти отрасли просто больше подходят для управления государственной администрацией. Поэтому можно ожидать, что даже в совершенно капиталистическом обществе инвестиции центральных и местных органов власти будут расширяться и абсолютно и относительно, как и прочие формы общественного планирования. Однако это все, что мы можем сказать по данному поводу. Сделанный нами вывод не основывается на какой-либо гипотезе, затрагивающей развитие частного сектора экономики. Более того, нам в данном случае совершенно безразлично, в какой мере будущие инвестиции и экономический рост будут финансироваться и направляться государственными органами и частным бизнесом. Исключение составляет случай, когда государственное финансирование осуществляется потому, что никакие частные инвестиции не могут принести прибыли. Но этот случай мы уже рассмотрели выше. Глава 11. Капиталистическая цивилизация
Оставляя позади область чисто экономических рассуждений, мы переходим теперь к культурному дополнению капиталистической экономики — к ее социопсихологической надстройке, если нам угодно будет воспользоваться марксистской терминологией, — и к тому менталитету, который характерен для капиталистического общества и в особенности для буржуазного класса. В самом сжатом виде наиболее существенные факты можно изложить так. Пятьдесят тысяч лет тому назад человек относился к опасностям и возможностям, заключенным в окружающем мире, примерно так, как, по мнению некоторых специалистов по истории древнего мира, социологов и этнографов, к ним относятся представители современных первобытных племен [Исследования такого рода имеют давнюю историю, однако я считаю, что начало нового их этапа следует вести от работ Люсьена Леви-Брюля. См., в частности, его работы "Fonctions mentales dan les societes inferieures" (1909) и "Le surnaturelet la nature dans la mentalite primitive" (1931). Между позициями, которые он занимал в первой и во второй книге, — дистанция огромного размера, и вехи проделанного пути прослеживаются в "Mentalite primitive" (1921) и "L'ame primitive" (1927). Для нас авторитет Леви-Брюля особенно ценен, поскольку он полностью разделяет наш тезис — на самом деле, его работа им и открывается — о том, что "исполнительные" функции мышления и менталитет человека определяются, по крайней мере частично, структурой того общества, в рамках которого они развиваются. И совершенно несущественно, что в случае Леви-Брюля этот принцип берет свое начало не от Маркса, а от Конта]. Для нас особенно важны два элемента этой установки: 1) "коллективная" и "аффективная" природа первобытного мыслительного процесса и 2) роль того, что я, возможно, не совсем правильно буду называть "магией"; эти два элемента частично пересекаются между собой. Под первым элементом я понимаю то, что в небольших и недифференцированных или слабо дифференцированных социальных группах коллективные идеи овладевают индивидуальным разумом гораздо прочнее, чем это происходит в больших и сложных группах, и что методы, на основе которых первобытный человек делает выводы или принимает решения, применительно к нашей задаче можно охарактеризовать от противного: их отличает несоблюдение того, что мы называем логикой, и в частности требования непротиворечивости. Под вторым элементом я понимаю опору на некоторую совокупность верований, которые, впрочем, не вполне оторваны от жизненного опыта, — ведь никакая магия не переживет непрерывной цепи неудач, — но включают в цепь наблюдаемых явлений та кие сущности или влияния, источником которых опыт не является [Один благожелательный критик поспорил со мной из-за вышеприведенного пас сажа, утверждая, что я никак не мог иметь в виду того, что в нем написано, поскольку в этом случае я должен был бы и "силу", с которой имеет дело физик, считать магией. Но именно это я и имею в виду, если только мы не договорились считать, что термин "сила" обозначает просто произведение константы на вторую производную пути по времени. См. следующее через одно предложение в тексте]. На сходство такого рода мыслительного процесса с мышлением неврастеников указывал Г. Дромар (G. Dromar, 1911; особенно красноречив введенный им термин delire d'interpretation — "горячка интерпретации") и 3. Фрейд (Тоtеm und Таbu, 1913). Но отсюда вовсе не следует, что это не свойственно мышлению нормального человека нашего времени. Наоборот, любая политическая дискуссия наглядно демонстрирует, что немалая, а судя по результатам — то и большая часть наших собственных мыслительных процессов именно такой природой и обладает. Таким образом, рациональное мышление или поведение и рационалистическая цивилизация вовсе не означают, что упомянутые критерии перестают действовать, а означает лишь медленное, хотя и непрестанное, расширение того сектора общественной жизни, в рамках которого отдельные люди или группы людей реагируют на сложившиеся обстоятельства: во-первых, пытаясь в меру собственного разумения по возможности обернуть эти обстоятельства себе на пользу; во-вторых, опираясь при этом на те правила непротиворечивости, которые мы именуем логикой; и в-третьих, делая это исходя из постулатов, удовлетворяющих двум условиям: число таких правил должно быть минимальным, и каждое из них должно в принципе выражаться в терминах потенциального опыта [Эта кантианская формулировка выбрана специально, чтобы заранее предупре дить напрашивающиеся возражения]. Все это, конечно, весьма абстрактно, но с точки зрения нашей задачи этого достаточно. Впрочем, есть еще один момент, касающийся понятия рационалистических цивилизаций, на котором я хотел бы здесь остановиться, поскольку в дальнейшем мне придется на него ссылаться. Если привычка рационального анализа повседневных ситуаций и привычка рационального поведения в этих ситуациях утвердилась достаточно прочно, она оборачивается против коллективных идей, подвергает их критике и в определенной мере "рационализирует" их, ставя такие вопросы: зачем нужны короли и попы, десятина и собственность? Кстати, важно заметить, что, хотя большинство из нас склонно считать, что подобная установка есть признак более "высокой ступени" умственного развития, подобное оценочное суждение не обязательно и не во всех отношениях подтверждается практикой. Рационалистическая установка может быть претворена в жизнь путем использования настолько неадекватных методов и информации, что вызванные ею действия — и особенно связанная с нею склонность к поиску радикальных решений — позднейшему наблюдателю покажутся даже с чисто интеллектуальной точки зрения низшими по сравнению со склонностью избегать радикального вмешательства, связанной с установкой, которая когда-то ассоциировалась с низким коэффициентом умственного развития. Общественно-политическая мысль XVII и XVIII вв. во многом служит наглядным подтверждением этой забытой истины. Не только по глубине социального видения, но также и с точки зрения логического анализа позднейший "консервативный" контркритицизм, несомненно, представлял собой значительный шаг вперед, хотя для авторов эпохи Просвещения его положения могли бы послужить лишь поводом для насмешек. Рациональная установка утвердилась, по-видимому, в первую очередь в силу экономической необходимости; именно каждодневному решению экономических задач обязано человечество как вид своей начальной подготовке в области рационального мышления и поведения — не побоюсь сказать, что вся логика строится по образцу экономических решений или, если воспользоваться моей любимой формулировкой, что экономические образцы образуют матрицу логики. Это представляется мне правдоподобным по следующей причине. Предположим, что некий "первобытный" человек использует простейшую из всех машин, которую по достоинству оценила даже наша кузина — горилла, а именно — палку, и что эта палка у него в руках сломалась. Если он будет пытаться поправить дело с помощью магического заклинания, — например, бормотать: "Спрос и Предложение!" или "Планирование и Контроль!", думая, что если повторить это заклинание ровно девять раз, то обломки вновь срастутся, — значит, он находится во власти дорацио-нального мышления. Если он постарается найти наилучший способ соединить обломки или просто возьмет новую палку, его поведение будет рациональным в нашем понимании. Конечно, обе установки возможны. Но само собой разумеется, что в этом, как и в любых других экономических действиях, бесполезность магических заклинаний будет гораздо более очевидной, чем если бы эти заклинания имели целью добыть победу в бою, принести счастье в любви или снять грех с души. Объясняется это неумолимой определенностью и тем преимущественно количественным характером, который отличает экономическую область от всех других областей человеческой деятельности, а возможно — и бесстрастным однообразием нескончаемого ритма экономических потребностей и их удовлетворения. Как только рациональность входит в привычку, она начинает распространяться под педагогическим влиянием положительного опыта и на другие области, и там она также заставляет человека открыть глаза на эту удивительную вещь — Факт. Этот процесс независим от каких бы то ни было конкретных форм, в том числе — капиталистических, которые может при этом принимать экономическая деятельность. То же можно сказать и о стремлении к наживе, и о преследовании собственных интересов. Докапиталистический человек на самом деле был не меньший "хват", чем человек капиталистический. Крепостные, например, или феодалы-военачальники тоже утверждали свои интересы грубой силой, хотя о капитализме в те времена еще не слыхали. Однако капитализм развивает рациональность и добавляет к ней новую грань, причем делает это двумя взаимосвязанными путями. Во-первых, он возвышает денежную единицу, которая сама по себе изобретением капитализма не является, до единицы учета. Иными словами, капиталистическая практика превращает деньги в инструмент рациональной калькуляции прибыли и издержек, над которой монументом высится бухгалтерский учет по методу двойной записи [Этот момент подчеркивался, пожалуй, даже с излишним нажимом Зомбартом (Sombart). Двойная (итальянская) бухгалтерия — это последний шаг на долгом и изнурительном пути. Своим происхождением она обязана практике периодически проводить инвентаризацию с подсчетом прибылей и убытков; см. Sapori А. Biblioteса Storica Toscana, VII, 1932. Трактат Луки Пачиоли о бухгалтерии (Luca Pacioli, 1494) был важной для своего времени вехой на этом пути. Для истории и социологии государства весьма важным моментом является то, что рациональная бухгалтерия проникла в практику управления государственным бюджетом только в XVII в., но и это проникновение было весьма несовершенным и происходило в примитивной форме "меркантилистской" бухгалтерии]. Не углубляясь в этот вопрос, заметим, что, изначально представляя собой продукт эволюции экономической рациональности, расчет прибылей и издержек в свою очередь оказывает обратное воздействие на эту рациональность; постепенно совершенствуясь и беря на вооружение количественные категории, он мощно продвигает вперед логику предпринимательства. И когда эта логика, метод или установка достигает определенного уровня развития, или квантифицированности, применительно к экономической области, она начинает распространяться дальше, подчиняя себе, т.е. рационализируя, орудия труда человека и его представления, приемы врачевания, картину мироздания, взгляды на жизнь — рационализируя все, включая его идеалы красоты, справедливости и духовные запросы. В этой связи большое значение имеет тот факт, что современная математически-экспериментальная наука развивалась в XV, XVI и XVII вв. не только параллельно тому социальному процессу, который обычно именуется "становлением капитализма", но также и за пределами твердыни схоластических учений, идя наперекор их надменной враждебности. В XV в. математика занималась в основном вопросами коммерческой арифметики и архитектурными расчетами. У истоков современной физики стояли утилитарные механические устройства, изобретенные людьми ремесленного склада. Грубый индивидуализм Галилея был индивидуализмом поднимающегося класса капиталистов. Профессия врача начала выделяться из ремесла повитух и цирюльников. Художник, который одновременно выступал и как инженер, и как предприниматель, — человеческий тип, вошедший в историю благодаря таким личностям, как Да Винчи, Альберта, Челлини; даже Дюрер находил время разрабатывать планы фортификационных сооружений — лучше всего иллюстрирует мою мысль. Подвергая все это анафеме, схоластические профессора из итальянских университетов обнаруживали куда больший здравый смысл, чем принято считать. Дело было не в отдельных неортодоксальных утверждениях. Можно не сомневаться, что всякий порядочный схоластик без особого труда смог бы так подчистить свои трактаты, чтобы они полностью укладывались в систему Коперника. Но эти профессора безошибочно уловили дух, питавший подобные свершения, — то был дух рационального индивидуализма, дух, порождаемый становлением капитализма. Во-вторых, становление капитализма сформировало не только особый склад ума, характерный для современной науки, который предполагает постановку определенных вопросов и использование определенных подходов к поиску ответов на эти вопросы, оно создало также новых людей и новые средства. Разрушая феодальный уклад и нарушая интеллектуальный покой феодального поместья и деревни (хотя, конечно, для споров и распрей даже в монастырях поводов всегда хватало), и главное — создавая социальное пространство для нового класса, который опирался на индивидуальные достижения в экономической области, оно в свою очередь привлекало к этой области людей сильной воли и мощного интеллекта. Докапиталистический уклад не оставлял простора для достижений, которые позволяли бы преодолевать классовые барьеры, т.е. давали бы возможность занять социальное положение, сравнимое с тем, которое занимали представители правящих классов. Это не означает, что возможность пробиться наверх вообще исключалась [Мы склонны считать социальную структуру средневековья слишком статичной или жесткой. На самом же деле в ней имела место непрерывная, выражаясь словами Парето, circulation des aristocracies (ротация аристократии). Например, кланы, составлявшие социальную верхушку в X веке, к началу XVI века практически сошли со сцены]. Однако деятельность на поприще бизнеса, вообще говоря, считалась занятием низших классов, — даже если речь шла о тех, кому удавалось пробиться к вершине успеха в рамках ремесленных гильдий, — и не давала возможности вырваться из своего сословия. Главные пути, обещавшие продвижение по социальной лестнице и приличный достаток, пролегали через церковь — причем в средние века этот путь был почти так же доступен, как и сейчас, — да, пожалуй, еще через канцелярии крупных землевладельцев и военную службу. Эти возможности были вполне доступны всякому физически и психически здоровому человеку примерно до середины XII в., да и позже не были полностью перекрыты. Но лишь тогда, когда капиталистическое предпринимательство — сперва в области торговли и финансов, затем в области горнодобычи и, наконец, в промышленности — показало, какие оно сулит перспективы, особо одаренные и дерзновенные личности стали наконец обращаться к бизнесу, увидев в нем третий путь. Успех был скорым и впечатляющим, но то общественное положение, которое он приносил, на первых порах вовсе не было столь значительным, как принято считать. Если внимательно присмотреться к карьере Якоба Фуггера, например, или Агостино Чиджи, нам не составит труда убедиться, что они не оказывали никакого влияния на ту политику, которую проводил Карл V или Лев X, и что те привилегии, которыми они пользовались, обошлись им недешево [Семейство Медичи не является на самом деле исключением. Ведь хотя их богатство помогло им приобрести контроль над Флорентийской республикой, именно этот контроль, а не само по себе богатство объясняет ту роль, которую играла эта семья. Во всяком случае, это единственная купеческая семья, которой удалось встать вровень с верхушкой феодальной знати. Настоящие исключения мы находим лишь там, где капиталистическая эволюция создала соответствующую среду или полностью разрушила феодальный уклад — например, в Венеции и Нидерландах]. Тем не менее, предпринимательский успех оказался достаточно заманчивым, чтобы привлечь в сферу бизнеса талантливейших людей из всех слоев общества, за исключением разве что феодальной верхушки, а это породило дальнейший успех, который добавил пару рационалистическому двигателю. Так что в этом смысле именно капитализм — а не просто экономическая деятельность вообще — был в конечном итоге движущей силой рационализации человеческого поведения. И здесь мы наконец-то подходим к нашей непосредственной цели [Я называю эту цель непосредственной, поскольку анализ, содержащийся на последних страницах, пригодится нам также и для других нужд. На самом деле он имеет фундаментальное значение для любого серьезного обсуждения этой великой темы — вопроса о Капитализме и Социализме], ради которой и велись все эти сложные, хотя и недостаточно адекватные сложности вопроса рассуждения. Не только современные механизированные заводы и вся продукция, которую они выдают, не только современная технология и экономическая организация, но все характерные черты и достижения современной цивилизации являются прямо или косвенно продуктами капиталистического процесса, и потому должны приниматься во внимание при подведении баланса заслуг и пороков капитализма и вынесении приговора этому строю. В ряду этих достижений стоят и успехи рациональной науки, и длинный список ее прикладных результатов. Самолеты, холодильники, телевидение и тому подобное являются общепризнанными плодами экономики, ориентированной на извлечение прибыли. Но и современная больница, хотя она, как правило, работает не ради прибыли, является, тем не менее, продуктом капитализма, и не только, повторяю, потому, что капиталистический процесс создает для нее средства и стимулы, но главным образом потому, что именно капиталистическая рациональность породила тот склад ума, благодаря которому были созданы методы лечения, используемые в современных больницах. И победы над раком, сифилисом и туберкулезом — пусть даже не окончательные, пуста только маячащие на горизонте — должны по праву считаться достижениями капитализма наравне с автомобилями, трубопроводами и бессемеровской сталью. Если говорить о медицине, то за используемыми ею методами стоит капиталистическая профессия, капиталистическая как потому, что в значительной мере медицина работает в духе бизнеса, так и потому, что ее представители являют собой сплав промышленной и коммерческой буржуазии. Но даже если бы это было не так, современная медицина и гигиена все равно были бы побочными продуктами капиталистического процесса, такими же, как и современная система образования. В том же ряду стоят и капиталистическое искусство, и капиталистический стиль жизни. Рассмотрим только один пример — живопись; так будет короче, и к тому же в этой области невежество мое все же не такое полное, как в других областях. Если за начало отсчета новой эпохи взять фрески Капеллы дель Арена Джотто (хотя мне кажется, что это не совсем верно) и затем провести линию (хотя подобная "линейная" аргументация заслуживает всяческого осуждения) Джотто — Мазаччо — Да Винчи — Микеланджело — Эль Греко, никакие ссылки на мистический пыл Эль Греко не смогут опровергнуть мою мысль в глазах того, кто умеет видеть. А сомневающимся, которым хотелось бы, так сказать, пощупать капиталистическую рациональность своими руками, предлагаем вспомнить об экспериментах Да Винчи. Если продолжить эту линию дальше (да, да, я все понимаю), мы завершили бы свой путь (возможно, на последнем издыхании) где-то на противопоставлении Делакруа и Энгра. А дальше все просто — Сезанн, Ван Гог, Пикассо или Матисс доведут дело до конца. Экспрессионистское устранение объекта образует красивое логическое завершение. История капиталистического романа (кульминацией которого является роман Гонкуров — "запись документов") проиллюстрировала бы нашу мысль еще лучше. Впрочем, это и так очевидно. Эволюцию капиталистического стиля жизни можно было бы с легкостью — а возможно, и наиболее наглядно — проследить на примере эволюции современного пиджачного костюма. И наконец, существует еще все то, что можно объединить вокруг гладстоновского либерализма, поместив его в центр символической композиции. Термин "индивидуалистическая демократия" подошел бы не хуже, а, возможно, и лучше, поскольку мы хотели бы охватить им некоторые вещи, которые Гладстон не одобрил бы, а также моральную и духовную установку, которую он сам, обитая в цитадели веры, на самом деле ненавидел. На этом можно было бы поставить точку, если бы литургия радикалов не состояла бы главным образом из цветистых отречений от того, что я хотел бы сказать. Радикалы могут сколько угодно твердить, что народные массы вопиют о спасении от невыносимых мук и потрясают своими цепями в темноте и отчаянии, но, конечно, никогда не было так много личной свободы духа и тела для всех, никогда еще господствующий класс не проявлял такой готовности не только мириться со своими смертельными врагами, но даже и финансировать их, никогда не было столько живого сочувствия к подлинным и надуманным страданиям, столько готовности взять на себя тяжелую ношу, сколько в современном капиталистическом обществе, и вся демократия, какую только знало человечество, если не считать демократии крестьянских общин, исторически возникла на заре как современного, так и античного капитализма. Конечно, и здесь можно было бы при желании привести множество исторических фактов, свидетельствующих об обратном, и все подобные контраргументы были бы совершенно справедливы, но несущественны при обсуждении современных условий и будущих альтернатив [Даже Маркс, во времена которого подобные обвинения не казались столь абсурдными, как в наши дни, все же считал, как видно, необходимым подкреплять свою позицию ссылками на условия, которые уже тогда либо отошли, либо несомненно отходили в прошлое]. Если мы все же решимся пуститься в исторический экскурс, то многие из тех фактов, которые радикальным критикам показались бы самыми подходящими для их цели, часто будут выглядеть совсем иначе, если сравнивать их с соответствующими фактами докапиталистической эпохи. И нельзя возразить, что "времена, мол, тогда были другими", поскольку именно капиталистический процесс заставил их измениться. Здесь особо следует упомянуть два момента. Во-первых, как я уже говорил, социальное законодательство или, в более общем смысле, институциональные изменения на благо народных масс — это не просто нечто такое, что было навязано капиталистическому обществу неизбежной необходимостью облегчить все более углубляющиеся страдания бедняков; на самом деле, помимо повышения уровня жизни масс благодаря своим побочным эффектам, капиталистический процесс обеспечил и средства, и "волю" к достижению этих перемен. Слово, взятое в кавычки, требует дальнейшего объяснения, и объяснение это заключается в принципе распространения рациональности. Капиталистический процесс рационализирует поведение и идеи и благодаря этому изгоняет из наших голов как метафизические верования, так и всякого рода мистические и романтические идеи. Это преобразует не только методы достижения целей, но и сами эти конечные цели. "Свободомыслие", понимаемое как материалистический монизм, атеизм и прагматическое восприятие земного мира вытекают из этой рационалистической установки пусть не в силу логической необходимости, но тем не менее совершенно естественным образом. С одной стороны, наше врожденное чувство долга, лишенное своей традиционной основы, сосредоточивается на утилитарных идеях о совершенствовании человечества, которым, как ни странно, удается противостоять натиску рационалистической критики куда лучше, чем, скажем, идее богобоязненности. С другой стороны, та же рационализация душ срывает всю мишуру богоданности с сословных делений, а уж это вкупе с типично капиталистическим преклонением перед Самосовершенствованием и Служением — понимаемыми совершенно в ином смысле, чем тот, который обычно вкладывали в эти слова средневековые рыцари, — формирует эту "волю" внутри самой буржуазии. Феминизм, явление преимущественно капиталистическое, иллюстрирует эту мысль еще более наглядно. Читатель, конечно, понимает, что все эти тенденции следует понимать "объективно", и что поэтому никакие антифеминистские или антиреформистские разговоры или даже временная оппозиция по отношению к той или иной конкретной мере ничего не доказывают. Все эти вещи суть симптомы тех самых тенденций, с которыми они якобы борются. Подробнее об этом мы поговорим в следующих главах. Во-вторых, капиталистическая цивилизация является рационалистической и "антигероической". Эти свойства, конечно, являются взаимосвязанными. Успех в промышленности и торговле требует большой выносливости, и все же занятия промышленной или торговой деятельностью по существу лишены рыцарской героики, — здесь не скрещиваются мечи, негде проявить физическую удаль, нет возможности врезаться на боевом коне в ряды врагов — предпочтительно еретиков или язычников, — и идеология, которая прославляет идею борьбы ради борьбы и победы ради победы, по понятным причинам увядает в кабинетной тиши среди бесчисленных столбцов цифр. Таким образом, промышленная и торговая буржуазия, владеющая собственностью, на которую может покуситься разве только вор или сборщик налогов, и не только не разделяющая, но прямо отвергающая воинственную идеологию, которая идет вразрез с ее "рациональной" утилитарностью, в основе своей миролюбива и склонна настаивать на применении этических принципов частной жизни к международным отношениям. Правда, подобно некоторым другим принципам капиталистической цивилизации, но в отличие от их большинства, пацифизм и международная этика поддерживались также и в некапиталистических условиях, и докапиталистическими институтами, например Римской церковью в средние века. Тем не менее, современный пацифизм и современная международная этика являются продуктами капитализма. Поскольку марксистская доктрина — в особенности неомарксистская доктрина, и даже значительная часть несоциалистических учений — относится, как мы убедились в первой части настоящей книги, к этому утверждению резко отрицательно [См. обсуждение марксистской теории капитализма в гл. IV], необходимо подчеркнуть, что сказанное войсе не отрицает того, что многие буржуа отчаянно боролись, защищая свой дом и очаг, и что почти чисто буржуазные города-республики часто становились агрессивными, когда это сулило выгоду, — вспомним, например, Афины или Венецию, — а также того, что никакая буржуазия никогда не брезговала военной добычей или расширением возможностей для торговли путем завоеваний и никогда не противилась идеям воинствующего национализма, насаждаемым ее феодальными господами или вождями или пропагандируемым некими особо заинтересованными группами. Все, что я хочу сказать, сводится к тому, что, во-первых, подобные случаи капиталистической воинственности не объясняются, в отличие от того, что утверждает по этому поводу марксизм, исключительно или главным образом классовыми интересами или классовой расстановкой сил, которая якобы систематически порождает капиталистические завоевательные войны; во-вторых, имеется различие между тем, когда человек делает то, что он считает основным делом своей жизни, к которому он готовит себя постоянно, которое является для него мерилом личного успеха или неудачи, и тем, когда человек занимается несвойственным ему делом, к которому не располагает ни его обычная работа, ни его менталитет и успех в котором увеличивает престижность самой небуржуазной из всех профессий; в-третьих, что это различие однозначно свидетельствует, как в международных, так и во внутренних делах, против использования военной силы и в пользу мирного урегулирования даже в тех случаях, когда материальные выгоды склоняют чашу весов в пользу войны, что в современных условиях, вообще говоря, не слишком вероятно. На самом деле, чем более полно выражен капиталистический характер в структуре и менталитете нации, тем более эта нация миролюбива и тем более склонна задумываться о потерях, которые несет с собой война. Продемонстрировать это на конкретных примерах вряд ли возможно — слишком сложна природа сил, действующих в каждом отдельном случае, и чтобы доказать это утверждение, нам потребовалось бы провести подробный исторический анализ. Но буржуазное отношение к военным (регулярным вооруженным силам), характер буржуазных войн и методы их ведения, а также та готовность, с которой в любом серьезном случае затяжных военных действий буржуазия подчиняется небуржуазной власти, сами по себе являются убедительным доказательством. Марксистская идея о том, что империализм является последней стадией капиталистической эволюции, тем самым оказывается несостоятельной совершенно независимо от чисто экономических возражений. Но я не собираюсь делать тот вывод, который, по всей вероятности, ждет от меня читатель. Иначе говоря, я не собираюсь просить его не увлекаться непроверенными теориями, выдвигаемыми непроверенными людьми, а лучше еще раз взглянуть на внушительные экономические и еще более внушительные культурные достижения капиталистического строя и на те необъятные перспективы, которые они сулят. Я не собираюсь утверждать, что эти достижения и эти перспективы уже сами по себе есть достаточный аргумент в пользу того, чтобы дать капиталистическому процессу возможность развиваться дальше и снять, так сказать, бремя нищеты с плеч человечества. В подобных призывах не было бы никакого смысла, даже если бы человечество обладало такой же свободой выбора, какой обладает бизнесмен, решающий, какой станок и у какого поставщика ему купить. Из тех фактов и отношений между фактами, которые я пытался изложить, не вытекает никакого определенного оценочного суждения. Что касается экономических достижений, то их наличие в современном индустриальном обществе еще не означает, что люди стали "счастливее" или "богаче", чем в условиях средневекового поместья или деревни. Что касается культурных достижений, то можно соглашаться с каждым сказанным мною словом, но все же всей душой ненавидеть эти достижения — за их утилитарность и массовое разрушение заложенного в культуре смысла. Кроме того, как мне придется вновь повторить, когда мы перейдем к обсуждению социалистической альтернативы, важно учитывать не только эффективность капиталистического процесса с точки зрения создания экономических и культурных ценностей, но и участь тех людей, которых капитализм формирует, а затем бросает на произвол судьбы, предоставляя им полную свободу бездарно проматывать свою жизнь. Есть радикалы, чьи обвинения в адрес капиталистической цивилизации не имеют под собой никакой Другой опоры, кроме глупости, невежества и безответственности их авторов, не способных или не желающих понять самые очевидные вещи, не говоря уже о том, что за ними стоит. Однако обвинительный вердикт капитализму может быть вынесен и на более высоком уровне. Впрочем, какими бы ни были ценностные суждения об эффективности капитализма — положительными или отрицательными, — особого интереса они не представляют. Дело в том, что человечество не свободно выбирать. И дело не только в том, что массы не способны рационально сравнивать альтернативы и всегда принимают на веру то, что им говорят. Тому существуют и гораздо более глубокие причины. Экономические и социальные процессы развиваются по собственной инерции, и возникающие в результате ситуации вынуждают отдельных людей и социальные группы вести себя определенным образом, хотят они того или не хотят, — вынуждают, разумеется, не путем лишения их свободы выбора, но путем формирования менталитета, ответственного за этот выбор, и путем сужения перечня возможностей, из которых этот выбор осуществляется. Если квинтэссенция марксизма заключается именно в этом, тогда нам всем придется признать себя марксистами. А раз так, то эффективность капитализма вообще не играет роли, если речь идет о прогнозировании будущего капиталистической цивилизации. Ведь большинство цивилизаций исчезли, так и не успев полностью реализовать свой потенциал. И я не собираюсь, ссылаясь на эту эффективность, утверждать, что капиталистическое интермеццо скорее всего будет иметь продолжение. На самом деле, я собираюсь сделать прямо противоположный вывод. Глава 12. Разрушение стен1.Отмирание предпринимательской функции 1. Отмирание предпринимательской функции Говоря о теории исчезновения инвестиционных возможностей, мы упомянули о возможности такой ситуации, когда экономические потребности человечества удастся удовлетворить настолько полно, что стимулов развивать производство еще дальше практически не останется. Подобное состояние насыщения, несомненно, отстоит от нас еще очень далеко, даже если исходить из сложившейся структуры потребностей; а если учесть, что рост уровня жизни сопровождается автоматическим расширением этих потребностей и возникновением или созданием новых [Вильгельм Вундт называл это явление "гетерогонией целей" (Heterogonie der Zwecke)], то насыщение превращается в некое подобие бегущей мишени, особенно если к числу потребительских товаров мы относим досуг. Однако давайте все же рассмотрим такую возможность, предполагая, хотя это еще менее правдоподобно, что методы производства достигли такой степени совершенства, которая не допускает дальнейшего их улучшения. Возникнет более или менее стационарное состояние. Капитализм, который по существу является эволюционным процессом, истощится. Предпринимателям будет нечем заняться. Они окажутся примерно в таком же положении, как генералы в обществе, которое совершенно уверено, что мир утвердился раз и навсегда. Прибыль, а вместе с прибылью и норма процента будут стремиться к нулю. Буржуазия, живущая за счет прибыли и процента, начнет исчезать. Управление промышленностью и торговлей сведется к рутинному администрированию, а сами управляющие неизбежно обюрократятся. Почти автоматически возникнет самый настоящий социализм. Человеческая энергия отвернется от бизнеса. Иные, неэкономические дали станут увлекать умы и давать простор для приключений. Применительно к обозримому будущему эта картина никакого значения не имеет. Однако все большее значение приобретает то, что многие из тех перемен в структуре общества и организации производственного процесса, которых можно было бы ожидать вследствие почти полного удовлетворения потребностей или абсолютного совершенства технологии, могут быть обусловлены и той тенденцией развития, которая совершенно четко прослеживается уже сегодня. Прогресс можно механизировать точно так же, как и управление в стационарной экономике, и эта механизация прогресса может оказать на предпринимательтво и капиталистическое общество влияние не менее сильное, чем остановка экономического прогресса. Чтобы показать, почему это так, давайте еще раз вспомним, во-первых, в чем заключается предпринимательская функция и, во-вторых, что она значит для буржуазного общества и выживания капиталистического строя. Мы уже видели, что функция предпринимателей заключается в том, чтобы реформировать или революционизировать производство, используя изобретения или, в более общем смысле, используя новые технологические решения для выпуска новых товаров или производства старых товаров новым способом, открывая новые источники сырья и материалов или новые рынки, реорганизуя отрасль и т.д. Начало строительства железных дорог, производство электроэнергии перед первой мировой войной, энергия пара и сталь, автомобиль, колониальные предприятия — все это яркие образцы большого семейства явлений, включающего также и бессчетное множество более скромных представителей — вплоть до выпуска новых сортов колбас и оригинальных зубных щеток. Именно такого рода деятельность и есть главная причина периодических "подъемов", революционизирующих экономический организм, и периодических "спадов", возникающих вследствие нарушения равновесия при производстве новых товаров или применении новых методов. Делать что-то новое всегда трудно, и реализация нововведения образует самостоятельную экономическую функцию, во-первых, поскольку все новое лежит за пределами рутинных, понятных всем задач и, во-вторых, поскольку приходится преодолевать сопротивление среды, которое в зависимости от социальных условий может происходить в самых разных формах, начиная от простого отказа финансировать или покупать новые товары и кончая физической расправой с человеком, который попытается создать что-то новое. Чтобы действовать уверенно за пределами привычных вех и преодолевать это сопротивление, необходимы особые способности, которые присущи лишь небольшой части населения, и именно эти способности определяют как предпринимательский тип, так и предпринимательскую функцию. Но главное в этой функции — не изобретение чего-либо нового и не создание каких-либо условий, которые предприятие затем эксплуатирует. Главное в ней — делать дела. Эта социальная функция уже сегодня утрачивает свое значение, а в будущем, несомненно, будет играть еще меньшую роль, даже если сам экономический процесс, первейшей движущей силой которого является предпринимательство, будет развиваться прежними темпами. Дело в том, что сегодня гораздо проще, чем когда-либо прежде, делать вещи, выходящие за рамки привычного, — новаторство само превращается в рутину. Технологический прогресс все больше становится делом коллективов высококвалифицированных специалистов, которые выдают то, что требуется, и заставляют это нечто работать предсказуемым образом. Романтика прежних коммерческих авантюр отходит в прошлое, поскольку многое из того, что прежде могло дать лишь гениальное озарение, сегодня можно получить в результате строгих расчетов. С другой стороны, личность и сила воли, по-видимому, уже не играют такой роли в условиях, когда экономические изменения вошли в привычку, — лучшим подтверждением этому служит нескончаемый поток новых потребительских и производственных товаров, которые не только не встречают сопротивления, но воспринимаются как должное. Сопротивление со стороны тех, чьи интересы оказываются под угрозой в результате нововведений в производственном процессе, вряд ли исчезнет до тех пор, пока существует капиталистический уклад. Например, оно стало серьезным препятствием на пути массового производства дешевого жилья, которое предполагает радикальную механизацию и отказ от неэффективных методов работы строителей. Но все другие виды сопротивления — в частности, сопротивление потребителей и производителей новым видам товаров просто потому, что они новые, — практически уже исчезли. Таким образом, экономический прогресс имеет тенденцию становиться деперсонифицированным и автоматизированным. На смену личности приходят бюро и комиссии. Здесь опять будет уместно сослаться на примеры из военной истории. В прежние времена, вплоть до наполеоновских войн включительно, быть генералом означало быть полководцем, а военный успех означал личный успех командующего, который получал соответствующие "дивиденды" в виде высокого социального престижа. При существовавшей тогда технике ведения войны и структуре армий индивидуальные решения и авторитет командующего — даже его личное присутствие верхом на красивом коне — были важными элементами стратегических и тактических ситуаций. Присутствие Наполеона на полях сражений должно было ощущаться и действительно ощущалось. Нынче же все изменилось. Рационализация и специализация кабинетной работы постепенно вытесняют личность, строгий расчет вытесняет "озарение". Полководец уже не имеет возможности лезть в гущу сражения. Он все более превращается в обыкновенного служащего — и перестает быть незаменимым. Или возьмем другой пример из военной истории. В средние века войны были делом глубоко личным. Искусство закованных в латы рыцарей требовало постоянных упражнений в течение всей жизни, каждый рыцарь был на особом счету и ценился в зависимости от личного искусства и доблести. Нетрудно понять, почему этот род занятий послужил основой для возникновения нового социального класса в самом полном и широком смысле этого слова. Однако социальные перемены и технический прогресс подрывали и со временем разрушили как функцию, так и положение этого класса. Но войны от этого не прекратились. Просто они становились все более механизированными — со временем их механизированность достигла такого уровня, что успех на военном поприще, которое сегодня превратилось в заурядную профессию, уже не несет на себе той печати личной заслуги, которая не только самому человеку, но и социальной группе, к которой он принадлежит, обеспечивала прочное положение социального лидерства. В наши дни аналогичный, а если разобраться, то и тот же самый — социальный процесс подрывает роль, а вместе с нею и социальное положение капиталистического предпринимателя. Его роль, хотя она и не может сравниться славой с ролью больших и малых средневековых военачальников, также есть или была одной из форм индивидуального лидерства, основанной на авторитете личности и личной ответственности за успех. Его положение, как и положение класса военачальников, ставится под угрозу, как только эта функция начинает утрачивать свое значение в социальном процессе, причем не важно, чем это вызвано — отмиранием социальных потребностей, которые эта функция обслуживала, или тем, что эти потребности стали обслуживаться иными, более обезличенными методами. Однако это сказывается не только на положении предпринимателей, но и на положении всего класса буржуазии в целом. Хотя в начале своего пути предприниматели не обязательно принадлежат к классу буржуазии и даже, как правило, к нему не принадлежат, они тем не менее входят в него в случае успеха. Таким образом, хотя предприниматели сами по себе социального класса не образуют, класс буржуазии впитывает в себя их самих, их семьи и родственников, укрепляя тем самым свой численный состав и жизненные силы, при этом семьи, которые отстраняются от активного участия, в бизнесе, выпадают из этого класса через одно-два поколения. Основную массу составляют те, кого мы называем промышленниками, торговцами, финансистами и банкирами; они находятся на промежуточной стадии между двумя полюсами: предпринимательским началом и рутинным администрированием доставшегося по наследству дела. Доходы, за счет которых класс буржуазии существует, и социальное положение, которое он занимает, зависят от успеха этого более или менее активного сектора — который необязательно составляет меньшинство, в США, например, его доля в буржуазном классе составляет более 90% — и индивидов, находящихся на пути к вступлению в этот класс. Таким образом, экономически и социологически, прямо и косвенно буржуазия зависит от предпринимателя и как класс живет и по прошествии более или менее продолжительного переходного периода отомрет вместе с ним — не исключено, что это будет период, на протяжении которого буржуазия будет чувствовать, что она не может ни жить, ни умереть, — подобно тому, как это происходило с феодальной цивилизацией. Подведем итог этой части наших рассуждений: если капиталистическая эволюция — "прогресс" — остановится вообще или будет происходить совершенно автоматически, экономический базис промышленной буржуазии сведется к зарплате, аналогичной той, которую сегодня платят за рутинную административную работу, если не считать рудименты квазиренты и прибыли монопольного типа, которые будут, по всей вероятности, в течение некоторого времени сохраняться. Поскольку капиталистическое предпринимательство в силу собственных достижений имеет тенденцию автоматизировать прогресс, мы делаем вывод, что оно имеет тенденцию делать самое себя излишним — рассыпаться под грузом собственного успеха. Совершенно обюрократившиеся индустриальные гиганты не только вытесняют мелкие и средние фирмы и "экспроприируют" их владельцев, но в конечном итоге вытесняют также и предпринимателя и экспроприируют буржуазию как класс, который в этом процессе рискует потерять не только свой доход, но, что гораздо более важно, и свою функцию. Истинными провозвестниками социализма были не интеллектуалы и не агитаторы, которые его проповедовали, но Вандербильты, Карнеги и Рокфеллеры. Результат может оказаться не совсем по вкусу марксистским социалистам, тем более не по вкусу социалистам в более популярном (Маркс сказал бы — вульгарном) понимании. Но что касается самого прогноза, то здесь наши выводы полностью совпадают. До сих пор мы рассматривали влияние капиталистического процесса на экономический фундамент верхушки капиталистического общества, на ее социальное положение и престиж. Но это влияние простирается и дальше, затрагивая институциональные структуры, которые ее защищали. Термин "институциональные структуры" мы будем употреблять в самом широком смысле, относя сюда не только юридические институты, но также и сложившиеся установки общественного мнения и государственной политики. 1. Капиталистическая эволюция прежде всего разрушила или, во всяком случае, во многом способствовала разрушению институциональных опор феодального мира — поместья, деревни, реме ленного цеха. История и механизмы этого процесса слишком рошо известны, чтобы стоило на них задерживаться. Разрушение происходило тремя путями. Мир ремесленников был разрушен прежде всего автоматическими эффектами конкуренции, исходившей от капиталистического предпринимателя; политические меры по отмене отживших организаций и законов лишь зарегистрировали свершившийся факт. Мир феодальных сеньоров и крестьян был разрушен главным образом политическими — в некоторых случаях революционными — мерами, а капитализм просто руководил адаптивными преобразованиями, как это происходило, например, в Германии, когда поместья юнкеров превращались в крупные сельскохозяйственные предприятия. Но параллельно с этими промышленными и аграрными революциями происходили не менее революционные преобразования в общих установках законодательной власти и общественного мнения. Вместе с прежним экономическим укладом исчезали и экономические и политические привилегии классов и групп, которые раньше играли в нем ведущую роль, в частности, были отменены налоговые льготы и политические прерогативы крупных и мелких помещиков и церкви. Экономически для буржуазии это означало падение многочисленных оков и преград. Политически это означало замену того уклада, при котором буржуа был смиренным подданным, другим укладом, который был ближе по духу его рациональному складу и его непосредственным интересам. Но если взглянуть на этот процесс с позиций сегодняшнего дня, невольно возникает вопрос, пошла ли такая полная эмансипация на пользу буржуазии и ее миру. Ведь эти преграды не только сдерживали буржуазию, они ее и защищали. Прежде чем мы пойдем дальше, этот момент необходимо пояснить и оценить. 2. Процесс становления капиталистической буржуазии и связанный с ним процесс становления национальных государств в XVI, XVII и XVIII вв. породили социальную структуру, которая может показаться двойственной, хотя она была ничуть не более двойственной или переходной, чем любая другая. Особенно показательна в этом смысле монархия Людовика XIV. Королевская власть подчинила себе поместное дворянство и в то же время привлекла его на свою сторону, предоставив возможность служить и получать пенсию и условно признав ее претензии на положение правящего или ведущего класса. Точно так же королевская власть подчинила себе и церковь и заключила с нею союз [Галликанизм был всего лишь идеологическим отражением этих событий]. Она окончательно укрепила свою власть над буржуазией, своим старым союзником по борьбе с земельными магнатами, защищая и продвигая вперед развитие предпринимательства, с тем чтобы в последующем эксплуатировать его еще более эффективно. Точно так же государственная власть — а также землевладельцы и промышленники, действовавшие от ее имени, — усмиряла, эксплуатировала и защищала крестьян и (немногочисленный) промышленный пролетариат — хотя в случае ancien regime (старого режима) во Франции эта защита была значительно менее заметна, чем, скажем, в Австрии в эпоху правления Марии-Терезы или Иосифа II. Это было не просто правительство, понимаемое в смысле либерализма XIX в., т.е. социальная структура, существующая ради выполнения некоторого ограниченного круга функций и обязанная уложиться в минимальный бюджет. В принципе монархия руководила всем — начиная от человеческих душ, кончая выбором рисунков на шелках лионских ткачей, а в финансовом отношении стремилась иметь максимальный бюджет. Хотя королевская власть никогда не была поистине абсолютной, государственная власть была всеобъемлющей. Правильная оценка такого порядка имеет огромное значение для нашего предмета. Король, придворные, армия, церковь и бюрократия жили во все возрастающей степени за счет доходов, создаваемых капиталистическим процессом, причем вследствие развития капитализма увеличивались даже феодальные источники доходов. Внутренняя и внешняя политика и институциональные изменения также во все возрастающей степени формировались так, чтобы отвечать требованиям этого развития и двигать его вперед. В этом смысле феодальные элементы в структуре так называемой абсолютной монархии представляются чем-то вроде атавизмов — оценка, которая на первый взгляд кажется совершенно естественной. Однако, взглянув попристальней, мы увидим, что эти элементы значили нечто большее. Стальной каркас этой структуры по-прежнему состоял из человеческого материала феодального склада, и материал этот по-прежнему вел себя в соответствии с докапиталистическими традициями. Эти люди занимали государственные должности, служили офицерами в армии, разрабатывали политику — они вели себя как classe dirigente (правящий класс) и, хотя учитывали буржуазные интересы, от самой буржуазии они тщательно дистанцировались. Центр этой композиции — король — был королем милостью Божьей, и корни занимаемого им положения были феодальными не только в историческом, но также и в социологическом смысле, как бы широко он не пользовался экономическими возможностями, предоставляемыми капитализмом. Это было нечто большее, чем атавизм. Это был активный симбиоз двух социальных слоев, один из которых, несомненно, поддерживал другого экономически, но в свою очередь пользовался политической поддержкой другого. Что бы мы не думали по поводу достоинств или недостатков такого уклада и что бы не думали о нем — а также о повесах и бездельниках-аристократах — сами буржуа, именно в этом была суть того общества. 3. Но только ли того общества? Ответ подсказывает нам последующий ход событий, наилучшей иллюстрацией которого служит история Англии. Аристократия продолжала верховодить вплоть до конца периода девственного и бурно растущего капитализма. Конечно, аристократия, хотя нигде она не была столь эффективной, как в Англии, нередко впитывала в себя выходцев из других слоев, если их заносило в политику, она стала представителем буржуазных интересов и сражалась за дело буржуазии; ей пришлось отказаться от последних своих законных привилегий; но даже в таком разбавленном составе и отстаивая цели, которые уже являлись ее собственными, она продолжала комплектовать кадрами политический двигатель, руководить государством, править. Экономически активная часть буржуазного слоя не слишком этому сопротивлялась. Такого рода разделение труда в целом ее вполне устраивало. В тех случаях, когда она все же против него восставала или когда ей удавалось занять главенствующее политическое положение без борьбы, ей ни разу не удалось превратить свое правление в блестящий успех или доказать твердость своих позиций. Возникает вопрос, можем ли мы объяснить все эти неудачи лишь отсутствием необходимого опыта и установок правящего класса? Нет, не можем. Как показывает исторический опыт Франции и Германии, где буржуазия пыталась установить свою власть, у всех этих неудач есть и более глубокая причина, которую мы сможем лучше всего пояснить, если вновь вернемся к нашему сравнению промышленника или торговца со средневековым землевладельцем. "Профессия" последнего не только хорошо готовила его к защите собственных классовых интересов, — он не только был способен отстаивать их с-мечом в руках, — но она также создавала вокруг него некий ореол и делала его повелителем людей. Первое было важно, но еще важнее был мистический ореол и величественные манеры — эта способность и привычка повелевать и властвовать, перед которой почтительно склонялись все слои общества. Престиж дворянства был настолько высок, а властность настолько действенной, что в данном случае классовое положение пережило те социальные и материальные условия, которые его породили, и доказало свою приспособляемость путем трансформации классовой функции к совершенно иным социальным и экономическим условиям. С великолепной легкостью и изяществом лорды и рыцари превратились в судей, администраторов, дипломатов, политиков и военных офицеров того типа, который не имел ничего общего с типом средневековых рыцарей. И самое, если задуматься, удивительное — остатки этого прежнего преклонения живы и по сей день и не только в глазах наших женщин. О промышленнике или торговце можно сказать прямо противоположное. Он, несомненно, лишен какого бы то ни было мистического ореола, который один только и возвышает правителей над людьми. Фондовая биржа — слабая замена Священному Граалю. Мы уже видели, что промышленник и торговец, поскольку они являются предпринимателями, также выполняют функцию лидерства. Но экономическое лидерство подобного типа в отличие от военного лидерства средневековых лордов не так-то легко превращается в лидерство политическое. Скорее, наоборот, бухгалтерские книги и расчет себестоимости отнимают все время и держат на приколе. Я называл буржуа рационалистом, чуждым героики. Чтобы настоять на своем или заставить нацию подчиниться своей воле, он может использовать только рационалистические, чуждые героике средства. Он может поражать воображение своими экономическими достижениями, он может отстаивать свою правоту, он может посулить деньги или пригрозить их попридержать, он может купить продажные услуги наемных убийц, политиков или журналистов. Но это все, что он может, причем политическая значимость всех этих мер сильно преувеличена. Ни жизненный опыт, ни традиции буржуа не делают его личность привлекательной. Даже гений бизнеса вне стен своего кабинета часто и слова никому поперек сказать не решится — ни у себя в гостиной, ни с трибуны. Зная за собой эту слабость, буржуа хочет, чтобы его оставили в покое, и сам не лезет в политику. Читатель, конечно, и здесь припомнит исключения из правила. Но опять-таки исключений этих не так уж много. Способности управлению муниципальным хозяйством, интерес к нему и успехи в этой области являются единственным важным исключением в Европе, но это, как мы покажем, не только не противоречит вышесказанному, но даже подтверждает нашу мысль. До появления современных метрополий управление городом было сродни хозяйственному управлению. Понимание городских проблем и авторитет среди жителей давались промышленнику и торговцу естественным образом, а поскольку интересы местной промышленности и торговли составляли главный предмет городской политики, ее вполне можно было проводить с помощью методов, принятых в бизнесе. В исключительно благоприятных условиях эти корни давали исключительные побеги — вспомним, например, достижения Венеции и Генуи. В этом же ряду стоят и Нидерланды, причем их пример особенно показателен, поскольку в великой игре, международной политики эта купеческая республика неизменно проигрывала, и практически во всех критических ситуациях ей приходилось передавать бразды правления военачальнику феодального склада. Что касается Соединенных Штатов, то и здесь нетрудно привести перечень исключительно благоприятных условий, — впрочем, быстро идущих на убыль, — которые объясняют их успех [К этому вопросу мы еще вернемся в четвертой части]. 4. Вывод очевиден: если оставить в стороне подобные исключительные условия, мы увидим, что класс буржуазии плохо подготовлен к решению как внутренних, так и внешних проблем, с которыми обычно приходится иметь дело правительству всякой страны, как большой, так и малой. Буржуазия и сама это чувствует, несмотря на все ее заявления, в которых утверждается обратное, чувствуют это и массы. Под прикрытием защитной брони, выполненной из небуржуазного материала, буржуазия может добиваться успеха, причем не только в оборонительных, но и в наступательных действиях, особенно если она выступает как оппозиция. Какое-то время она чувствовала себя настолько защищенной, что стала даже позволять себе нападать на свой защитный панцирь — это великолепно иллюстрируют действия буржуазной оппозиции в имперской Германии. Но без защиты того или иного небуржуазного слоя буржуазия оказывается политически беспомощной и неспособной не только вести за собой нацию, но даже защитить свои собственные классовые интересы. Короче говоря, она нуждается в хозяйской руке. Но капиталистический процесс как благодаря своим экономическим механизмам, так и своим психосоциологическим эффектам покончил с этим хозяином-защитником, а кое-где, например в США, просто не дал ему или его наместнику шанса встать на ноги. Значение этого усиливается также другим следствием того же процесса. Капиталистическая эволюция устраняет не только короля Dei Gratia (Божьей милостью), но и другие политические укрепления, которые могли бы образовать деревня и ремесленные цехи. Конечно, ни та, ни другая организация в той конкретной форме, в какой их застал капитализм, прочными не являлись. Однако капитализм нес с собой разрушения, далеко выходившие за рамки неизбежного. Он атаковал ремесленника в резервациях, в которых он мог бы спокойно существовать неопределенно долгое время. Крестьянину он навязал все блага раннего либерализма — свободное и ничем не защищенное владение своим участком земли и веревку индивидуализма, чтобы на ней повеситься. Разрушая докапиталистический каркас общества, капитализм, таким образом, сломал не только преграды, мешавшие его прогрессу, но и те опоры, на которых он сам держался. Этот процесс, внушительный в своей неумолимой неизбежности, заключался не просто в расчистке институционального сухостоя, но и в устранении партнеров капиталистического класса, симбиоз с которыми был существенным элементом капиталистической системы. Обнаружив этот факт, скрытый за множеством лозунгов, мы имеем все основания задать вопрос, вполне ли корректно считать капитализм самостоятельно возникшей социальной формой или он является всего лишь последней стадией разложения того, что мы называем феодализмом. В целом, я склонен полагать, что его особенности достаточны, чтобы классифицировать его как самостоятельный тип и считать, что симбиоз классов, которые обязаны своим существованием различным эпохам и процессам, есть скорее правило, чем исключение, — по крайней мере, он был правилом в течение последних шести тысяч лет, т.е. с тех самых пор, как первобытные земледельцы превратились в подданных конных кочевников. Но и никаких серьезных возражений против сформулированной выше противоположной точки зрения я тоже не вижу. 3. Разрушение институциональной структуры капиталистического общества Мы возвращаемся теперь к нашей теме с внушительным грузом зловещих фактов. Этих фактов почти, хотя и не совсем достаточно, чтобы доказать наше следующее утверждение, а именно то, что капиталистический процесс, подобно тому как он разрушил институциональную структуру феодального общества, подрывает также и свою собственную институциональную структуру. Выше мы уже говорили о том, что самый успех капиталистического предпринимательства парадоксальным образом имеет тенденцию умалять престиж и социальный вес класса, который в первую очередь с этим предпринимательством связан, и что гигантская армия управленцев имеет тенденцию освобождать буржуазию от той функции, которой она обязана этим социальным весом. Соответствующие изменения в содержании и сопровождающий эти изменения упадок жизненных сил буржуазных институтов и установок нетрудно проследить. С одной стороны, капиталистический процесс неизбежно подрывает экономическую базу мелких производителей и торговцев. Он делает с нижними слоями капиталистической индустрии то же, что он сделал с докапиталистическими классами, причем использует для этого тот же механизм — механизм конкурентной борьбы. Здесь, конечно, Марксу трудно возразить. Пусть реальные факты промышленной концентрации не вполне соответствуют тем идеям, которые внушаются публике (см. гл.ХIХ). Процесс на самом деле зашел не так далеко и не так редко сталкивается с препятствиями и компенсаторными тенденциями, как это представлено во многих популярных изложениях. В частности, крупномасштабное предприятие не только уничтожает, но в определенной мере также и создает питательную почву для возникновения мелких производственных и особенно торговых фирм. К тому же, что касается фермеров и крестьян, то капиталистический мир наконец доказал, что он хочет и может проводить дорогостоящую, но в целом эффективную политику сохранения этих укладов. Однако в долгосрочном аспекте не может быть никаких сомнений относительно справедливости сделанного вывода или того, к каким последствиям этот процесс приведет. Более того, за пределами аграрной области буржуазия обнаружила лишь слабое понимание этой проблемы [Хотя есть и исключения. Так, правительство империалистической Германии много сделало для борьбы с этим конкретным видом рационализации, а сегодня сильные тенденции такого же рода мы наблюдаем и в США] и ее важности для выживания капиталистического строя. Прибыль, которую сулит рациональная организация производства, особенно удешевление многотрудного пути товаров от завода до конечного потребителя, — это слишком сильное искушение, противиться которому разум типичного бизнесмена не в состоянии. Здесь очень важно понимать, в чем именно состоят эти последствия. Широко распространенный вид социальной критики, с которым нам уже приходилось встречаться, оплакивает "закат конкурентной борьбы" и приравнивает его к закату капитализма в силу достоинств, которые приписываются конкуренции, и пороков, которые приписываются современным промышленным "монополиям". В таком понимании монополизация играет роль атеросклероза и подрывает жизнеспособность капиталистического строя, снижая экономическую эффективность. Мы показали, почему такой взгляд следует отвергнуть. С экономической точки зрения ни достоинства конкуренции, ни пороки концентрации экономического контроля и близко не имеют того значения, какое придается им в подобных теориях. А если бы и имели, все равно в этих рассуждениях упускается из виду одно очень важное обстоятельство. Даже если бы управление гигантскими концернами велось столь безупречно, что ему рукоплескали бы ангелы в раю, политические последствия концентрации все равно оставались бы теми же самыми, какие мы наблюдаем сегодня. На политическую структуру государства глубокое воздействие оказывает ликвидация множества мелких и средних фирм, владельцы которых вместе со своими семьями, помощниками и партнерами образуют весомую силу у избирательных урн и имеют такую власть над тем, что можно назвать классом мастеров, т.е. верхним слоем рабочих, какой никогда не сможет иметь руководство крупного предприятия; самый фундамент частной собственности и свободных договорных отношений стирается в государстве, в котором с этического горизонта людей исчезают самые энергичные, самые практичные, самые содержательные человеческие типы. С другой стороны, капиталистический процесс подрывает свою собственную институциональную структуру — давайте по-прежнему считать "собственность" и "свободу контрактов" раrtes pro toto (частями вместо целого — лат.) — и в рамках крупных предприятий. За исключением случаев, которые все еще играют значительную роль, — когда корпорацией практически владеет один человек или одна семья, — фигура собственника уходит в небытие, а вместе с ней исчезают и характерные интересы собственности. Остаются наемные управляющие высшего и нижнего звена. Остаются крупные и мелкие владельцы акций. Первая группа склонна приобретать установки, свойственные наемным служащим, и практически никогда не отождествляет свои интересы с интересами держателей акций, даже в самых благоприятных случаях, т.е. в случаях, когда такая группа отождествляет свои интересы с интересами концерна как такового. Представители второй группы, даже если они считают свою связь с концерном постоянной и действительно ведут себя так, как должны вести себя держатели акций согласно финансовой теории, все же отличаются от истинных хозяев как по своим функциям, так и по своим установкам. Что же касается третьей группы, то мелкие держатели акций, как правило, вообще не интересуются делами компании, акции которой для большинства из них образуют лишь небольшой источник дохода, но даже если они этим интересуются, они практически никогда не ходят на собрания акционеров, если только они или их доверенные лица не хотят кому-то нарочно досадить; поскольку их интересами часто пренебрегают, а сами они думают, что их интересами пренебрегают даже чаще, чем это случается на самом деле, они, как правило, враждебно относятся и к "своей" корпорации, и к крупному бизнесу вообще, и к капитализму как таковому — особенно если дела идут не слишком хорошо. Ни одна из этих трех групп, которые я выделил как самые типичные, не является безусловным выразителем интересов, характерных для такого любопытного явления, столь содержательного и так быстро исчезающего, которое обозначается понятием "собственность". То же самое можно сказать и о свободе контракта. В эпоху расцвета договорных отношений это понятие означало свободу заключать индивидуальные договоры на основании индивидуального выбора из бесконечного числа возможностей. Стандартизированный, лишенный индивидуальных черт, обезличенный и бюрократизированный контракт, который мы имеем сегодня, — в первую очередь мы имеем в виду договор трудового найма, хотя это относится также и ко многим другим контрактам, — который предоставляет весьма ограниченную свободу выбора, в основном строится по формуле "c'est a prendre ou a laisser" [хочешь бери, не хочешь — тебе же хуже — фр.]. Он совершенно лишен прежних характерных черт, большинство из которых стали невозможными в условиях, когда гигантские концерны имеют дело с другими гигантскими концернами или безликими массами рабочих или потребителей. Эта пустота заполняется тропической порослью новых юридических структур — и если подумать, то никак иначе и быть не могло. Таким образом, капиталистический процесс отодвигает на задний план все те институты, в особенности институт частной собственности и институт свободного контракта, которые выражали потребности и методы истинно "частной" экономической деятельности. Если он не устраняет их полностью, как это случилось со свободой договорных отношений на рынке труда, он достигает того же результата, изменяя относительную важность существующих юридических форм, — например, усиливая юридические позиции корпоративного бизнеса в противовес тем, которые занимают товарищества или фирмы, находящиеся в индивидуальной собственности, — или изменяя их содержание и смысл. Капиталистический процесс, подменяя стены и оборудование завода простой пачкой акций, выхолащивает саму идею собственности. Он ослабляет хватку собственника, некогда бывшую такой сильной, — законное право и фактическую способность распоряжаться своей собственностью по своему усмотрению. В результате держатель титула собственности утрачивает волю к борьбе — борьбе экономической, физической и политической за "свой" завод и свой контроль над этим заводом, он теряет способность умереть, если потребуется, на его пороге. И это исчезновение того, что можно назвать материальной субстанцией собственности, — ее видимой и осязаемой реальности — влияет не только на отношение к ней ее держателей, но и на отношение рабочих и общества в целом. Дематериализованная, лишенная своих функций и отстраненная собственность не впечатляет и не внушает чувства преданности, как собственность в период своего расцвета. Со временем не останется никого, кого бы реально заботила ее судьба, ни внутри больших концернов, ни за их пределами. Глава 13. Растущая враждебность1.Социальная атмосфера капитализма 1. Социальная атмосфера капитализма Из анализа, проделанного в двух предыдущих главах, должно быть достаточно ясно, каким образом капиталистический процесс породил ту атмосферу почти всеобщей враждебности по отношению к его собственному социальному строю, о которой я говорил в самом начале этой части. Это явление настолько поразительно, а объяснения, которые ему дают как марксизм, так и расхожие рии, настолько неадекватны, что нам представляется необходим, мым несколько углубить теорию этого вопроса. 1. Капиталистический процесс, как мы видели, постепенно снижает важность той функции, за счет которой живет класс капиталистов. Мы также видели, что он имеет тенденцию разрушать свой защитный слой, уничтожать свои собственные бастионы и разгонять гарнизоны, держащие линию обороны. И наконец, мы видели, что капитализм создает тот критический склад ума, который, разрушив моральный авторитет столь многих других институтов, в конце концов поворачивается против своих собственных; буржуа к своему удивлению обнаруживает, что рационалистическое отношение не ограничивается вопросом о законности власти королей и попов, но начинает ставить под сомнение и институт частной собственности, и всю систему буржуазных ценностей. Буржуазная крепость оказывается, таким образом, политически беззащитной. А беззащитные крепости всегда служили приманкой для агрессоров особенно те, что сулят богатую добычу. Агрессорам остается лишь найти своим враждебным помыслам рациональное объяснение [Надеюсь, что никакой путаницы из-за того, что я использую слово "рациональный" в двух разных смыслах, не возникнет. Завод работает рационально, когда его производственная отдача на единицу затрат высока. Мы находим рациональное объяснение своим действиям, когда придумываем для себя и для окружающих такие причины этих действий, которые отвечают нашим представлениям о добре и зле, независимо от того, каковы истинные мотивы этих действий], но это им всегда удается. Безусловно, на какое-то время от них можно откупиться. Но и эта последняя уловка перестает срабатывать, как только они поймут, что могут получить все. Отчасти это и есть объяснение того, что мы хотим объяснить. В той мере, в какой это так, а объяснение такое, конечно, неполно этот элемент нашей теории подтверждается высокой корреляцией, которая исторически существует между буржуазной беззащитностью и враждебностью по отношению к капиталистическому строю: пока буржуазия занимала прочные позиции, особой враждебности она не вызывала, хотя поводов для враждебности в те времена было гораздо больше; враждебность стала усиливаться одновременно с разрушением защитных стен. 2. Логично, однако, задать вопрос, и такой вопрос действительно задают в наивном изумлении многие промышленники, которые честно полагают, что выполняют свой долг перед всеми слоями общества, с какой стати капитализм должен нуждаться в какой-то защите со стороны некапиталистических сил или преданноcти, выходящей за рамки рационального? Разве он не может с честью выйти из этого испытания? Разве наши предыдущие рассуждения недостаточно показали, что капитализм может предъявить немало утилитарных доводов в свою защиту? Разве невозможно его полностью оправдать? К тому же вышеупомянутые промышленники, конечно, не упустят возможности подчеркнуть, что здравомыслящий рабочий, взвешивая все "за" и "против" своего контракта, скажем, с крупным сталелитейным или автомобильным концерном, имеет все основания прийти к выводу, что дела его в конце концов не так уж плохи и что сделка эта выгодна не только противной стороне. Да, конечно, только все это не имеет никакого отношения к делу. Во-первых, совершенно неправильно считать, что главной причиной политических нападок служит страдание и что для отражения этих нападок достаточно привести доводы в свою защиту. Политическую критику нельзя эффективно отразить разумными доводами. Из того обстоятельства, что критика капиталистического строя обусловлена критическим мышлением, т.е. установкой, отвергающей веру в ценности, не поддающиеся рациональному объяснению, еще не следует, что рациональное опровержение наветов будет услышано. Подобное опровержение может сорвать с этих наветов покров рациональности, но оно никогда не сможет сразить ту иррациональную движущую силу, которая за ними скрывается. Капиталистическая рациональность не кладет конец иррациональным или внерациональным импульсам. Она просто позволяет им выйти из-под контроля, снимая путы священных или полусвященных традиций. В цивилизации, где нет ни возможности, ни желания обуздать подобные страсти и подчинить их контролю, они неизбежно выходят из повиновения. А раз уже они вышли из повиновения, то здесь не играет роли, что в рационалистской культуре их проявлениям, как правило, находится какое-нибудь рациональное объяснение. Точно так же как требования обосновать свою утилитарную функцию, предъявляемые королям, лордам и попам, никогда не допускали возможности удовлетворительного ответа перед лицом беспристрастных судей, так и капитализм предстал перед судьями, в карманах у которых уже лежит его смертный приговор. Они его и вынесут, какие бы доводы не приводила защита; единственный успех, на который может рассчитывать обвиняемый, это измененная формулировка обвинительного акта. Утилитарный разум, во всяком случае, плохо подходит на роль главной движущей силы коллективных действий. В этом он никогда не сможет тягаться с внерациональными детер минантами поведения. Во-вторых, успех обвинения становится вполне объяснимым, как только мы поймем, к каким последствиям могло бы привести решение дела в пользу капитализма. Оправдание капитализма, даже если доводов в его пользу было бы гораздо больше, чем их есть на самом деле, в любом случае не было бы легкой задачей. Оно потребовало бы от людей в своей массе такой проницательности и таких аналитических способностей, которые совершенно выходят за рамки возможного. Да что говорить, если практически любой вздор, который когда-либо говорился о капитализме, всегда находил своего поборника в лице того или иного претендующего на ученость экономиста. Но даже если оставить это обстоятельство в стороне, рациональное признание экономической эффективности капитализма и перспектив, которые он сулит, потребовало бы от неимущих совершить почти невозможный моральный подвиг. Ведь эта эффективность заметна лишь в долгосрочной перспективе; таким образом, любые прокапиталистические доводы должны покоиться на долгосрочных соображениях. Если же говорить о ближайшей перспективе, то первое, что бросается в глаза, это прибыль и неэффективность. Чтобы смириться со своей судьбой, левеллер или чартист прежних эпох должен был бы утешать себя надеждой на то, что его правнуки будут жить лучше. Чтобы идентифицировать себя с капиталистической системой, современному безработному пришлось бы совершенно позабыть про свою личную судьбу, а современному политику про личные амбиции. Поскольку долгосрочные интересы общества целиком и полностью находятся в руках верхних слоев буржуазного общества, люди совершенно естественно считают их интересами только одного этого класса. А для народных масс важна именно ближайшая перспектива. Как и Людовик XV, они считают: "после нас хоть потоп". И, считая так, поступают совершенно рационально с точки зрения индивидуалистического утилитаризма. В-третьих, существуют будничные неурядицы или опасения этих неурядиц, с которыми людям приходится бороться при любой социальной системе, это неувязки и разочарования, крупные и мелкие неприятности, которые причиняют боль, раздражают и расстраивают планы. Думаю, что всем нам более или менее-свойственно целиком приписывать их той части реальности, которая лежит за пределами нашего контроля, и чтобы преодолеть этот стихийно возникающий враждебный импульс, необходима эмоциональная привязанность к социальному строю, т.е. та самая вещь, которую капитализм органически неспособен породить. Если эмоциональной привязанности нет, этот импульс начинает жить своей жизнью и постепенно превращается в неотъемлемую составную часть нашего психического склада. В-четвертых, постоянно возрастающий жизненный уровень и в особенности возможности проведения досуга, которые современный капитализм предоставляет тем, кто трудится, впрочем, мне нет необходимости доводить эту фразу до конца и вновь повторять самый избитый, старый и скучный довод, который, к сожалению, совершенно справедлив. От века происходящее улучшение жизни, которое воспринимается как должное, плюс индивидуальная незащищенность, которая вызывает острое возмущение, это, конечно, самая лучшая питательная среда для социальных беспорядков. Тем не менее, ни наличие возможности для атаки, ни реальные или воображаемые страдания не являются сами по себе достаточными условиями для проявления активной враждебности по отношению к социальному строю, как бы сильно они тому ни способствовали. Чтобы такая атмосфера возникла, необходимо, чтобы были группы, которым было бы выгодно эту враждебность нагнетать и организовывать, лелеять ее, стать ее рупором и лидером. Как будет показано в п. 4, народные массы сами по себе не способны выработать четкие и определенные взгляды. Тем более они не способны связно их сформулировать и превратить в последовательные установки и действия. Все, на что они способны, это оказать или не оказать поддержку группе, претендующей на лидерство. Пока мы не обнаружим социальные силы, которые подходят на такую роль, вся наша теория враждебной атмосферы вокруг капитализма будет оставаться незавершенной. Вообще говоря, коль скоро возникают условия, благоприятствующие общей враждебности по отношению к социальной системе или конкретным действиям, направленным против нее, всегда находятся и силы, которые смогут этими условиями воспользоваться. Но в случае капиталистического общества необходимо отметить еще одно обстоятельство: в отличие от любых других социальных систем капитализм неизбежно и в силу самой логики своей цивилизации порождает, обучает и финансирует социальные группы, прямо заинтересованные в разжигании социальных беспорядков [Любая социальная система боится мятежей, и в каждой социальной сиcтеме раз жигание мятежей это занятие, приносящее в случае успеха большие дивиденды, и потому всегда влечет к себе и умы, и мускулы. Так было и в феодальные времена. Однако воины-дворяне, восстававшие против своих начальников, направляли свой гнев против отдельных людей или должностей. Они не восставали против феодальной системы как таковой. И феодальное общество в целом совсем не склонно было поощрять будь то вольно или невольно какие бы то ни было действия, направленные против его социальной системы]. Объяснение этого явления, которое столь же важно, сколько любопытно, вытекает из наших рассуждений в гл. XI, но чтобы сделать его еще более убедительным, мы должны совершить небольшой экскурс в социологию Интеллектуалов. 1. Определить людей этого типа не так-то легко. Сама эта трудность на самом деле симптоматична. Интеллектуалы это не социальный класс в том смысле, в каком им являются крестьяне или промышленные рабочие; они приходят из всех уголков социального мира, а занимаются главным образом тем, что воюют между собой или формируют передовые отряды борьбы за чужие классовые интересы. Тем не менее, у них возникают групповые установки и групповые интересы, причем достаточно сильные, чтобы заставить многих из них вести себя таким образом, который в нашем представлении обычно ассоциируется с понятием социального класса. Опять-таки их нельзя определить просто как совокупность всех людей, получивших высшее образование, это бы заслонило от нас самые важные черты этого типа. При этом все, кто имеет высшее образование, являются потенциальными интеллектуалами, и никто из тех, кто его не имеет, таковым за редким исключением не являются; а то обстоятельство, что их головы сходным образом оснащены, облегчает взаимопонимание и сплачивает. Не приблизит нас к цели и попытка связать это понятие с принадлежностью к людям свободных профессий; врачи и юристы, например, не являются интеллектуалами в том смысле, который мы имеем в виду, если они не рассуждают письменно или устно о предметах, лежащих за пределами их профессиональной компетенции, хотя они, безусловно, имеют такую склонность и делают это весьма часто особенно юристы. И все же между интеллектуалами и свободными профессиями существует очень тесная связь. Дело в том, что некоторые профессии особенно если считать профессией журналистику на самом деле действительно почти целиком относятся к сфере обитания интеллектуалов; представители любой свободной профессии имеют возможность стать интеллектуалами; и многие интеллектуалы зарабатывают себе на жизнь, практикуя ту или иную свободную профессию. Наконец, определение интеллектуалов через противопоставление умственного и физического труда оказалось бы слишком широким [К своему сожалению, я обнаружил, что Оксфордский толковый словарь англий ского языка не приводит того значения, который мне хотелось бы вложить в это слово. Он приводит выражение dinner of intellectuals ("пиршество интеллектуалов"), но в связи со значением высшие виды умственной деятельности", которое уводит нас в совершенно иную плоскость. Как я ни старался, мне не удалось подыскать другое слово, которое столь же верно отвечало моим целям]. Выражение же герцога Веллингтона "братия бумагомарателей" представляется слишком узким [Эти слова герцога приведены в "The Croker Рареrs" (ed. L.J.Jennings, 1884.) То же относится и к термину hommes de lettres (литераторы)]. Впрочем, мы не совершили бы слишком большой ошибки, если бы воспользовались определением Железного герцога. На самом деле интеллектуалы это люди, владеющие устным и письменным словом, а от других людей, делающих то же самое, их отличает отсутствие прямой ответственности за практические дела. Вообще говоря, с этой чертой связана и другая а именно отсутствие практических знаний, знаний, которые даются только личным опытом. Установка на критику, которая объясняется не только положением интеллектуала как наблюдателя, причем в большинстве случаев наблюдателя стороннего, но в не меньшей мере и тем, что его главный шанс самоутвердиться заключается в его фактической или потенциальной способности досаждать, добавляет к портрету интеллектуала третий штрих. Профессия непрофессионалов? Профессиональный дилетантизм? Люди, которые берутся рассуждать обо всем, поскольку они ничего не понимают? Журналист из "Дилеммы доктора" Бернарда Шоу? Нет, нет, я этого не говорил, и я так не считаю. Такого рода ярлыки не только неверны, они еще и оскорбительны. Оставим тщетные попытки дать им словесное определение и определим их по методу подобия: подходящий экспонат, снабженный четкой этикеткой, мы найдем в музее греческой истории. Софисты, философы, риторики V и IV вв. до н.э. как бы они ни возражали против того, чтобы их всех валили в одну кучу, все они принадлежали к одной породе людей, идеально иллюстрируют мою мысль. То обстоятельство, что практически все они были учителями, не делает эту иллюстрацию менее ценной. 2. При анализе рационалистической природы капиталистической цивилизации (гл. XI), я подчеркнул, что от возникновения рациональной мысли до становления капитализма прошли тысячи лет; капитализм лишь придал новый импульс и специфический поворот этому процессу. Так и с интеллектуалами оставляя в стороне греко-римский мир, мы находим их в чисто докапиталистических условиях, например в Королевстве франков и в странах, на которые оно распалось. Однако число их было невелико; это были священнослужители, в основном монахи, а их писания были доступны лишь бесконечно малой части населения. Конечно, время от времени появлялись сильные личности, которым удавалось выработать неортодоксальные взгляды и даже донести их до широкой аудитории. Однако это, как правило, грозило вызвать враждебность очень жестко организованного окружения, из которого в то же время трудно было вырваться, и идя на этот шаг, человек рисковал обречь себя на участь еретика. Но мало было решиться на подобные действия, требовалась еще поддержка или доброе расположение какого-нибудь влиятельного сеньора или вождя, и тактика миссионеров убедительнейшее тому свидетельство. В целом, таким образом, интеллектуалов крепко держали в узде, и проявление своего норова было делом нешуточным даже во времена крайнего хаоса и смуты, как это было, например, в эпоху эпидемий чумы (в 1348 г. и позже). Но если колыбелью интеллектуалов средневекового образца служили монастыри, то капитализм отпустил их на волю и снабдил печатным станком. Медленная эволюция интеллектуалов-мирян была лишь одним из аспектов этого процесса; то, что возникновение гуманизма совпало во времени с появлением капитализма факт весьма примечательный. Большинство гуманистов составляли поначалу филологи, однако и это прекрасно иллюстрирует высказанную выше мысль они не замедлили освоить сферы морали, политики, религии и философии. Виной тому было не только содержание классических работ, по которым они изучали свою грамматику, ведь от критики текста до критики общества путь короче, чем это может показаться. Как бы то ни было, типичный интеллектуал не лелеял мечту быть сожженным на костре, который все еще угрожал еретикам. Как правило, почести и комфорт нравились ему гораздо больше. А получить все это можно было в конечном счете лишь из рук властителей, светских или духовных, хотя гуманисты были первыми интеллектуалами, имевшими массовую аудиторию в современном смысле этого слова. Установка на критику крепчала с каждым днем. Но социальная критика если не считать того, что содержалось в некоторых нападках на католическую церковь и в особенности на ее главу, в подобных условиях расцвета не получила. Однако почестей и приличных доходов можно добиваться разными путями. Лесть и подхалимство часто вознаграждаются хуже, чем их противоположность. Аретино [Пьетро Аретино (1492-1556)] не был первым, кто открыл эту истину, но ни одному смертному не удалось превзойти его в умении ею пользоваться. Карл V был преданным мужем, но во время своих походов, которые на много месяцев отлучали его от дома, он жил жизнью джентльмена своей эпохи и своего класса. Ну и прекрасно, общество и, что особенно было важно для Карла, императрица не должны были об этом узнать, и великий критик политики и морали своевременно получал убедительные и весомые доводы. Карл откупался. Но дело все в том, что это не был простой шантаж, который, как правило, одну сторону обогащает, а другой наносит ничем не компенсируемый ущерб. Карл знал, почему он платил, хотя, несомненно, он мог бы заручиться молчанием более дешевым и радикальным методом. Он не выказывал недовольства. Напротив, он даже превзошел самого себя и воздал почести этому человеку. Очевидно, ему необходимо было нечто большее, чем просто молчание, и, кстати говоря, его дары воздались ему сторицей. 3. Таким образом, в некотором смысле перо Аретино было действительно сильнее меча. Однако, возможно, виной тому мое невежество, мне неизвестно о случаях такого рода за последующие сто пятьдесят лет [Впрочем, в Англии роль и масштабы такого явления, как сочинение памфлетов, в XVII в. резко возросли], в течение которых интеллектуалы, похоже, не играли сколько-нибудь заметной роли вне и независимо от устоявшихся профессий, а это были главным образом право и богословие. Характерно, что это затишье примерно совпадает с задержкой в эволюции капитализма, которая имела место в этот период смуты в большинстве стран континентальной Европы. И позже, когда капитализм стал наверстывать упущенное, интеллектуалы не замедлили к нему присоединиться. Дешевые книги, дешевые газеты и памфлеты, а также расширение аудитории, достигнутое отчасти благодаря возросшей доступности печатного слова, но частично представлявшее собой независимое явление, явившееся результатом пришедших к промышленной буржуазии богатства и веса и по времени совпавшего с этим усиления политической значимости анонимного общественного мнения, все эти блага, равно как и возросшая свобода от всяческих пут, являются побочными продуктами капиталистической машины. В течение первых трех четвертей XVIII в. утрата той первостепенной важности, которую на первых порах в карьере интеллектуала играл его персональный патрон, происходила неспешно. Но, крайней мере, в случаях самых ярких удач мы явственно различаем возрастание важности нового элемента поддержки коллективного патрона буржуазной публики. В этом, как и во всех иных отношениях, бесценный пример дает нам Вольтер. Сама его поверхностность, которая позволяла ему охватывать все, начиная от религии, кончая ньютоновой оптикой, в сочетании с неукротимой энергией и ненасытной любознательностью, совершенным отсутствием внутренних тормозов и умением безошибочно угадывать настроения эпохи и безраздельно их воспринимать позволила этому некритичному критику и посредственному поэту и историку заворожить публику и труды его шли нарасхват. Он также спекулировал, жульничал, принимал дары и назначения, но в нем ощущалась независимость, основанная на прочном фундаменте его успеха у публики. Пример Руссо, хотя случай его совершенно иной и представляет он совершенно иной тип интеллектуала, не менее поучителен. В последние десятилетия XVIII в. один поразительный эпизод высветил природу могущества независимого интеллектуала, который по характеру своей работы ни с чем иным, кроме как с социопсихологическим механизмом, именуемым "общественное мнение", дела не имеет. Произошло это в Англии, стране, которая в то время намного дальше других продвинулась по пути капиталистаческого развития. Следует признать, что Джон Уилкс развернул свои атаки против политической системы Англии при исключительно благоприятном стечении обстоятельств; к тому же нельзя сказать, чтобы именно он опрокинул правительство, возглавляемое герцогом Бьютом, правительство, у которого и так никогда не было шансов выжить и которое должно было пасть в силу дюжины других причин; однако "Северный бритт" листок, выпускавшийся Уилксом, оказался, тем не менее, той последней соломинкой, которая сломала ... политический хребет лорда Бьюта. Номер 45 "Северного бритта" оказался первым залпом в кампании, которая добилась отмены безымянных ордеров на арест и сделала огромный шаг вперед по пути к свободной прессе и свободным выборам. Пусть этого недостаточно, чтобы считаться творцом истории или создателем условий, позволивших изменить социальные институты, но этого вполне достаточно, чтобы заслуженно претендовать на роль, скажем, подручного повитухи [Я не боюсь, что какой-либо специалист по истории политики обвинит меня в том, что я преувеличил значение успеха Уилкса. Чего я боюсь, так это возражений против того, что я назвал его независимым деятелем, откуда получается, что он всем был обязан коллективу, и ничем индивидуальному патрону. В начале своей карьеры он, безусловно, опирался на поддержку coterie (кружка доброжелателей). Но если разобраться, придется, я думаю, признать, что решающего значения это не имело и что вся поддержка, все деньги и почести, которые он впоследствии заслужил, были лишь следствием его предыдущего успеха и данью тому общественному авторитету, который он приобрел самостоятельно]. Неспособность врагов Уилкса помешать ему вот самый значительный факт во всей этой истории. Они имели в своем распоряжении всю мощь организованного государства, и все же что-то заставило их отступить. Во Франции годы, предшествовавшие революции, и сама революция тоже ознаменовались выпуском мятежного листка (Марат, Демулен), который, однако, в отличие от своего английского аналога не полностью выкинул за борт литературный стиль и грамматику. Но не будем на этом задерживаться, нам пора двигаться дальше. Террор и Первая империя, взявшиеся за дело более методично, положили этому конец. Затем последовал период, ненадолго прерванный периодом правления roi bourgeois (буржуазного короля) [Имеется в виду Луи Филипп Орлеанский. Прим.ред], более или менее жестких репрессий, который длился до тех пор, пока Вторая империя не была вынуждена ослабить узду, произошло это примерно в середине 60-х годов. В центральной и южной Европе этот период длился примерно столько же, а в Англии аналогичные условия преобладали с начала революционных войн до прихода к власти Каннинга. 4. То, что в условиях капитализма противостоять этому натиску невозможно, доказывает неуспех предпринимавшихся в то время правительствами практически всех европейских государств попыток заставить интеллектуалов повиноваться, некоторые из которых были весьма длительными и упорными. История их побед это всего лишь разные перепевы подвигов Уилкса. В капиталистическом обществе или обществе, в котором капиталистический уклад играет решающую роль, всякая атака против интеллектуалов наталкивается на частные бастионы буржуазного бизнеса, в которых гонимые всегда смогут найти приют. Кроме того, такая атака должна развиваться согласно буржуазным принципам законодательной и административной практики, которые, конечно, допускают определенную свободу толкования, но лишь в определенных пределах, за которыми любые преследования пресекаются. Буржуазия может смириться или даже одобрить беззаконие, но только в качестве временной меры. В условиях чисто буржуазного режима, такого, как правление Луи Филиппа, войска могут расстреливать забастовщиков, но полиция не может устраивать облавы на интеллектуалов, а если и устроит, то должна их тут же отпустить, иначе буржуазия, как бы она ни осуждала некоторые из их деяний, встанет на их защиту, поскольку свободу, которую она не одобряет, нельзя сокрушить, не сокрушая при этом и ту свободу, которую она одобряет. Заметим, что я вовсе не приписываю буржуазии бескорыстное великодушие или идеализм и не преувеличиваю значение мыслей, настроений и желаний людей в оценке важности этого фактора я почти полностью, хотя и не во всем, согласен с Марксом. Защищая интеллектуалов как социальную группу, конечно, речь не идет о каждом конкретном индивиде буржуазия защищает самое себя и свой жизненный уклад. Только небуржуазное по своей природе и по своей идеологии правительство, если говорить о нашем времени, то только социалистическое или фашистское правительство, располагает достаточной силой, чтобы заставить их покориться. Чтобы этого добиться, такое правительство должно изменить типично буржуазные институты и резко ограничить индивидуальные свободы всех слоев населения. И вряд ли оно при этом остановится перед частным предпринимательством оно просто не сможет этого сделать. Именно этим объясняется как нежелание, так и неспособность капиталистического строя эффективно контролировать свой интеллектуальный сектор. Нежелание, о котором здесь идет речь, это нежелание последовательно использовать методы, несвойственные менталитету, сформированному капиталистическим процессом; неспособность это неспособность использовать их в институциональных рамках, сформированных капиталистическим процессом, не прибегая к небуржуазным правилам игры. Таким образом, с одной стороны, наступление свободы слова, включая свободу критики основ капиталистического общества, в долгосрочном плане неизбежно. С другой стороны, интеллектуалы не могут не критиковать, поскольку критика это их хлеб, само их положение в обществе зависит от язвительности их нападок, а критика людей и текущих событий в условиях, когда нет ничего святого, с роковой неизбежностью приводит к критике классов и институтов. 5. Несколько последних штрихов завершат картину современного положения дел. Уровень жизни народа улучшился, стало больше свободного времени, и это изменило и все еще продолжает изменять состав коллективного патрона, вкусам которого интеллектуалы должны угождать. Книги и газеты продолжают дешеветь, возникли крупные газетные концерны [Появление и развитие крупных газетных концернов иллюстрируют два момента, которые мне хотелось бы особо подчеркнуть: во-первых, множественность аспектов, связей и влияний каждого конкретного элемента социальной структуры, которая не допускает простых и однозначных толкований, и, во-вторых, то, как важно проводить различие между краткосрочными и долгосрочными явлениями, для которых верны разные, часто прямо противоположные утверждения. В большинстве случаев крупный газетный концерн это просто деловое капиталистическое предприятие. Это не означает, что он обязательно должен защищать интересы капиталистов или интересы любого другого класса. Он действительно может их защищать, но только руководствуясь одним или несколькими из следующих мотивов, ограниченность которых очевидна: поскольку его финансирует та или иная капиталистическая группировка, желающая, чтобы этот концерн отстаивал ее интересы и взгляды, но чем больше концерн и его оборот, тем меньшую роль может играть этот мотив; поскольку он ориентируется на вкусы публики, придерживающейся буржуазных взглядов, но этот мотив, игравший значительную роль примерно до 1914 г., в настоящее время все чаще выходит друшм боком; поскольку рекламодатели предпочитают пользоваться услугами родственного им по духу издания но чаше всего они к этому вопросу подходят очень прагматично; поскольку владельцы газеты настаивают на проведении определенного курса, независимо от того, как это скажется на объемах продаж, в определенной мере они так и поступают, хотя раньше это происходило чаще, но практика показывает, что если конфликт с их материальными интересами по обеспечению продаж заходит слишком далеко, они идут на попятную. Иными словами, крупный газетный концерн это мощнейшее орудие укрепления положения и усиления влияния интеллектуальной прослойки, однако и по сей день он не находится под ее полным контролем. Он дает ей работу и выход на более широкую аудиторию, но он же и держит ее в "узде". "Узда" эта имеет значение в основном в краткосрочном аспекте; борясь за большую свободу делать то, что ему нравится, журналист легко может потерпеть поражение. Но именно этот краткосрочный аспект и коллективная память о прошлых трудностях не дает интеллектуалу покоя и определяет палитру той картины рабства и мученичества, которую он пишет для публики. На самом деле на этом холсте следовало бы изобразить победу. Победа в этом, как и во многих других случаях, является мозаикой, сложенной из поражений]. Есть радио. И была, и есть тенденция к полному устранению ограничений, методично отражающая некомпетентные, а иногда по-детски наивные попытки буржуазного общества оказать сопротивление. Существует, однако, и другой фактор. Одной из самых важных особенностей позднейших стадий капиталистической цивилизации является бурное развитие образовательного аппарата и в особенности высшего образования. Это развитие было не менее неизбежно, чем развитие крупнейших промышленных предприятий, но в отличие от последних оно находилось под опекой общественного мнения и государственной аяасти, благодаря чему продвинулось куда дальше, чем могло бы, если бы опиралось лишь на собственные силы. Что бы мы об этом ни думали и какой бы ни была здесь истинная причинная связь, этот процесс имеет ряд следствий, которые сказываются на численности и настроениях интеллектуальной прослойки. Во-первых, поскольку высшее образование увеличивает предложение услуг специалистов, квазиспециалистов и,наконец, всякого рода "белых воротничков" сверх пределов, определяемых оптимизацией соотношения затрат и результатов, оно может стать важней-шей причиной структурной безработицы. Во-вторых, наряду с такой безработицей или вместо нее оно создает неудовлетворительные условия занятости занятость на работах, не отвечающих стандартам или оплачиваемых хуже, чем труд квалифицированных рабочих, занятых физическим трудом. В-третьих, оно может порождать безработицу особенно неприятного свойства. Человек, окончивший колледж или университет, часто становится физически непригодным к работе по рабочим специальностям, но при этом нет никаких гарантий, что он окажется пригодным к работе в профессиональной области. Подобная профнепригодность может быть связана либо с отсутствием природных способностей вещь вполне возможная даже для тех, кто сумел успешно сдать все экзамены в институте, либо с низким качеством обучения, причем обе эти причины будут возникать все чаще как абсолютно, так и относительно по мере того, как в высшее образование вовлекаются все большие массы людей и по мере того, как потребность в преподавателях растет, никак не сообразуясь с тем, какое количество талантливых преподавателей и ученых решит произвести на свет природа. Результаты того, что мы закрываем на это глаза и действуем так, как если бы вопрос о школах, колледжах и университетах упирался лишь в деньги, слишком очевидны, чтобы на них задерживаться. Примеры, когда среди дюжины претендентов на должность, имеющих дипломы по специальности, не оказывалось ни одного, кто был бы способен удовлетворительно с ней справиться, знакомы всякому, кому когда-либо приходилось принимать людей на работу, я имею в виду всякому, кто сам способен быть в таких вопросах судьей. Все те, кто не имеет постоянной работы, недоволен своей работой или непригоден к работе вообще, постепенно оказываются на местах, где предъявляемые к ним требования наиболее расплывчаты или где ценятся знания и способности совершенно иного рода. Они пополняют собой армию интеллектуалов в строгом смысле этого слова, ряды которых, таким образом, непомерно возрастают. Они вступают в нее, испытывая глубокое недовольство. Недовольство порождает неприятие. А неприятие рационализуется в ту самую установку на критику общества, которая, как мы уже видели, является типичной установкой наблюдателя-интеллектуала по отношению к людям, классам и институтам, во всяком случае, в цивилизации, построенной на принципах рациональности и утилитарности. Ну что ж, вот вам и численность; четко определенное классовое положение пролетарского оттенка; групповой интерес, формирующий групповую установку, которая куда более убедительно объясняет враждебность по отношению к капиталистическим порядкам, чем теория, которая в психологическом смысле сама есть не что иное, как рационализация, в соответствии с которой справедливое негодование интеллектуалов по поводу пороков капитализма есть лишь логическое следствие возмутительных фактов. Такая теория ничем не лучше, чем вера влюбленных в то, что их чувства есть лишь логическое продолжение достоинств их возлюбленных [Читатель заметит, что любые подобные измышления были бы беспочвенными, даже если бы реалии капитализма или добродетели возлюбленных действительно соответствовали всему тому, что критики социального строя или любовники о них думают. Также важно заметить и то, что в подавляющем большинстве случаев и критики, и любовники совершенно искренни в своих оценках; ни психосоциологический, ни психофизический механизм, как правило, не попадает в центр внимания своего "Я", только в виде сублимаций]. Кроме того, наша теория объясняет также и то, что враждебность эта не только не убывает, но даже усиливается с каждым новым достижением капиталистической эволюции. Конечно, враждебность интеллектуалов, которая сводится к моральному осуждению капиталистического строя, это одно, а атмосфера всеобщей враждебности, которая окружает капиталистический двигатель, это другое. Последнее это действительно существенное явление, и оно не является лишь следствием первого, но проистекает отчасти из независимых источников, о некоторых из которых мы уже упоминали; в той мере, в какой это так, оно доставляет интеллектуалам сырой материал для обработки. Отношения между обоими строятся по принципу взаимного дополнения, но чтобы подробно разобраться в этом вопросе, потребовалось бы больше места, чем то, которым я располагаю. Общий контур такого анализа, однако, достаточно очевиден, и я думаю, достаточно будет просто еще раз повторить, что роль интеллектуала состоит в первую очередь в поощрении, возбуждении, облачении в словесную форму и организации этого материала и лишь во вторую очередь в обогащении его. Этот принцип можно проиллюстрировать на некоторых конкретных примерах. 6. Капиталистическая эволюция порождает рабочее движение, которое, очевидно, не является изобретением интеллектуалов. Но естественно, что подобная возможность приложения сил и интеллектуальный гений должны были найти друг друга. Рабочие никогда не покушались на интеллектуальное лидерство, зато интеллектуалы заполонили политику рабочих партий. Им было что в эту политику привнести: они стали рупором этого движения, снабдили его теориями и лозунгами классическим примером является лозунг классовой борьбы, привили ему самосознание и благодаря этому изменяли самый его смысл. Решая эту задачу со своих собственных позиций, они, естественно, ее радикализировали, сумев со временем придать революционный уклон даже самым буржуазным из тред-юнионистских начинаний, уклон, который поначалу вызывал негодование большинства лидеров, не относившихся к числу интеллектуалов. Но этому была еще и другая причина. Внимая интеллектуалу, рабочий почти неизбежно ощущает непреодолимую пропасть, если не откровенное недоверие. Чтобы завладеть его доверием и тягаться с лидерами-неинтеллектуалами, интеллектуалу приходится пускаться на такие уловки, которые последним совершенно ни к чему. Не имея подлинного авторитета и постоянно ощущая опасность, что ему бесцеремонно укажут на место, интеллектуал вынужден льстить, обещать и воодушевлять, уговаривать левых радикалов и недовольные меньшинства, покровительствовать сомнительным и субмаргинальным идеям, взывать к пограничным группировкам, выказывать свою готовность к повиновению короче, вести себя по отношению к массам так, как его предшественники вели себя сперва по отношению к своим церковным начальникам, затем по отношению к светским правителям и индивидуальным патронам, а еще позже по отношению к коллективному хозяину в буржуазном обличье [Все это мы покажем на примерах и обсудим подробнее в пятой части]. Таким образом, хотя интеллектуалы и не были создателями рабочего движения, они тем не менее превратили его своими усилиями в нечто такое, что существенно отличается от того, чем оно могло бы стать без их вмешательства. Социальная атмосфера, под которую мы пытались подвести теоретическую базу, объясняет, почему государственная политика становится со временем все более и более враждебной по отношению к капиталистическим интересам, достигая наконец той стадии, когда она принципиально отказывается учитывать требования капиталистической машины и превращается в серьезную помеху ее функционированию. Однако действия интеллектуалов имеют и более непосредственное отношение к антикапиталистической политике, чем то, которое связано с их функцией рупора этой политики. Интеллектуалы редко встают на стезю профессиональной политики и еще реже добиваются политического признания. Однако именно они укомплектовывают собой политические бюро, сочиняют политические памфлеты и речи, служат референтами и советниками, создают репутацию газетам тех или иных политиков, а этим, хотя само по себе это еще не решает успех дела, немногие могут позволить себе пренебречь. При этом они в определенной мере оставляют отпечаток своего менталитета практически на всем, что делают. Истинная степень оказываемого ими влияния может быть самой разной в зависимости от состояния политической игры от простой формулировки до превращения того или иного шага в политически возможный или невозможный. Но для такого влияния всегда находится достаточно места. Когда мы говорим, что те или иные политики или партии являются глашатаями классовых интересов, мы в лучшем случае говорим лишь одну половину правды. Другая ее половина, которая, по крайней мере, не уступает по важности первой, раскрывается, когда мы отдаем себе отчет в том, что политики это профессиональная группа, имеющая собственный интерес, который может противоречить, а может и совпадать с интересами тех группировок, "представителями" которых являются те или иные личности или партии [Это, разумеется, в равной мере относится и к самим интеллектуалам, и к классу, выходцами из которого они являются, или классу, к которому они примыкают в силу культурных или экономических обстоятельств. К этому вопросу мы еще вернемся в гл. ХХШ]. Мнения индивидов и партий самым чутким образом реагируют на те факторы политической ситуации, которые непосредственно затрагивают карьеру или положение индивидов или партий. Некоторые из этих факторов контролируются интеллектуалами, подобно тому, как моральный кодекс эпохи обеспечивает громкую защиту некоторых интересов, а другие молчаливо обходит своим вниманием. Наконец, социальная атмосфера или кодекс ценностей влияет не только на политику, душу законодательства но также и на административную практику. Но опять-таки между интеллектуалами и чиновниками существует и более прямая связь. Государственные структуры Европы по происхождению своему являются докапиталистическими и надкапиталистическими. Как бы сильно не изменялся государственный аппарат за прошедшие века, чиновники никогда полностью не отождествляли себя с буржуазией, ее интересами и ее системой ценностей и никогда не рассматривали ее как нечто большее, чем просто еще один актив, которым следует управлять в интересах монарха или нации. За исключением некоторых внутренних запретов, выработанных в ходе профессиональной подготовки или пришедших с опытом, чиновники, таким образом, открыты для восприятия доктрин интеллектуалов, с которыми, благодаря сходному образованию, они имеют много общего [См. примеры в гл. XXVI], тогда как ореол аристократизма вокруг современного чиновника, ореол, который в прошлом нередко воздвигал преграды к этому сближению, за последние десятилетия изрядно поблек. Кроме того, во времена быстрой экспансии сферы государственного администрирования значительная часть потребности в дополнительном персонале удовлетворяется непосредственно за счет интеллектуалов пример США убедительное тому свидетельство. Глава 14. Разложение
1. Сталкиваясь с растущей враждебностью окружения и законодательной, административной и судейской практикой, порожденной этой враждебностью, предприниматели и капиталисты — а на самом деле, весь социальный слой, воспринявший буржуазный уклад жизни, — со временем перестают функционировать. Традиционные цели становятся все более недостижимыми, а усилия — тщетными. Самая заветная из буржуазных целей — основать собственную промышленную династию — во многих странах уже стала недостижимой, но даже цели поскромнее настолько труднодостижимы, что по мере того, как все осознают, что неблагоприятные условия установились навсегда, они могут перестать бороться за эти цели. Учитывая ту роль, которую играла буржуазная мотивация в экономической истории за последние два или три столетия, ее подавление вследствие недоброжелательности общества или ее ослабление вследствие неупотребления, несомненно, представляет собой фактор, адекватно объясняющий провал капиталистического процесса, — если нам когда-нибудь доведется наблюдать этот провал как перманентное явление, — причем фактор гораздо более существенный, чем любые из тех, что выдвигаются так называемой "теорией исчезающих инвестиционных возможностей". Интересно поэтому отметить, что этой мотивации угрожают не только силы, являющиеся по отношению к буржуазному складу ума внешними, но и то, что она имеет тенденцию угасать также под воздействием внутренних причин. Между теми и другими существует, разумеется, тесная взаимосвязь. Но мы сможем поставить правильный диагноз только, если попытаемся их разъединить. С одной из этих "внутренних" причин мы уже встречались. Я назвал ее "размыванием субстанции собственности". Мы видели, что современный бизнесмен, будь то предприниматель или директор-распорядитель, принадлежит, как правило, к категории исполнителей. В силу логики занимаемого им положения его психология начинает приобретать некоторые черты, характерные для чиновников. Независимо от того, является такой бизнесмен держателем акций или нет, его воля к борьбе и выживанию уже не та, да и не может быть такой, какой обладал человек, знакомый с тем, что такое собственность и личная ответственность в первозданном смысле этих слов. Его система ценностей и его представление о долге претерпевают глубокое изменение. Рядовые держатели акций, разумеется, теперь вообще не принимаются в расчет — совершенно независимо от урезания их доли регулирующим и взимающим налоги государством. Таким образом, современная акционерная форма организации бизнеса, хотя она и является продуктом капиталистического процесса, социализирует буржуазное мышление; она беспрестанно сужает горизонт капиталистической мотивации; но и это еще не все — в конечном итоге она убивает его корни [Многие с этим не согласятся. Отчасти это связано с тем, что люди черпают свои впечатления из прошлого опыта и лозунгов, возникших в прошлом, когда институциональные перемены, привнесенные крупными корпорациями, еще окончательно не утвердились. Кроме того, они могут иметь в виду тот простор для незаконного удовлетворения капиталистической мотивации, который давала корпорация. Но это только подтверждает мою мысль: тот факт, что акционерный бизнес не оставляет исполнительным менеджерам никаких возможностей для личной наживы сверх зарплаты и премий, за исключением незаконных и полузаконных махинаций, как раз и доказывает, что идея акционерного предприятия противоречит идее личной заинтересованности]. 2. Однако еще важнее другая "внутренняя причина", а именно распад буржуазной семьи. Факты, на которые я ссылаюсь, слишком хорошо известны, чтобы подробно на них останавливаться. Для мужчин и женщин в современном капиталистическом обществе семейная жизнь и дети значат меньше, чем прежде, и потому их роль в качестве мотивационного фактора снизилась; строптивые сыновья и дочери, осуждающие нормы "викторианской" морали, на самом деле пусть неумело, но выражают непреложную истину. Весомость этих фактов не снижается от того, что мы не умеем измерить их статистически. Коэффициент брачности ничего не доказывает, поскольку сам термин "брак" охватывает так же много социологических значений, как и термин "собственность", и такой союз, какой раньше заключался посредством брачного может вообще отмереть, никак не затронув при этом ни юридическую форму, ни частоту заключения таких контрактов. Не более содержателен в этом смысле и коэффициент разводимости. Не важно, сколько именно браков расторгается в судебном порядке, — важно то, сколько браков лишено содержания, составлявшего существо брака прежнего образца. Если в наш статистический век читатели настаивают на том, чтобы им были предъявлены цифры, то доля бездетных или однодетных браков, хотя и этот показатель не вполне адекватен, чтобы количественно выразить то явление, которое я имею в виду, наверное, лучше всего отражает его масштаб. На сегодняшний день это явление в большей или меньшей степени распространилось уже на все классы, но впервые оно возникло в буржуазном (и интеллектуальном) слое, и его симптоматическое и причинное значение с точки зрения того вопроса, который мы здесь рассматриваем, целиком связано именно с этим слоем. Явление это можно полностью отнести на счет сплошной рационализации жизни, которая, как мы видели, является одним из результатов капиталистической эволюции. На самом деле оно представляет собой лишь один из результатов распространения этой рационализации на сферу частной жизни. Все прочие факторы, на которые обычно ссылаются при объяснении его причин, легко сводятся к этому. Как только урок утилитарного отношения к жизни усвоен и мужчины и женщины перестают принимать как должное традиционные роли, уготованные им их социальным окружением, как только они приобретают привычку взвешивать все плюсы и минусы, связанные с любым предпринятым ими шагом, — иначе говоря, как только они начинают пользоваться в своей личной жизни некой негласной системой учета издержек — они неизбежно начинают понимать, на какие жертвы им придется пойти, если они реч шатся создать семейные узы и завести детей, а также то, что в временных условиях дети уже не являются экономическим вом, если только речь не идет о семьях крестьян или фермеров. Эти жертвы не ограничиваются теми, которые можно измерить деньгами, но включают также и неизмеримый ущерб комфорту, беззаботности и возможности наслаждаться альтернативными занятиями, привлекательность и разнообразие которых все растет, — а радости материнства и отцовства, с которыми эти альтернативы сравниваются, подвергаются все более и более критическому анализу. То обстоятельство, что такое сравнение будет скорее всего неполным, возможно даже принципиально ошибочным, не только не ослабляет, но даже подтверждает общий вывод. Ведь самый главный плюс, тот вклад, который вносит рождение ребенка в физическое и моральное здоровье — в "нормальность" человека, если можно так выразиться, — особенно, если речь идет о женщине, почти наверняка ускользнет от рационального взгляда современного человека, который как в частной, так и в общественной жизни склонен сосредоточивать свое внимание на достоверно устанавливаемых деталях, имеющих непосредственное утилитарное значение, и презрительно отвергает идею о существовании скрытых потребностей человеческой натуры или социального организма. Я думаю, что мысль, которую я пытаюсь сформулировать, уже ясна без дальнейших пояснений. Ее можно кратко выразить в виде вопроса, который столь явно на уме у многих потенциальных родителей: "Почему это мы должны ставить крест на своих мечтах и обеднять свою жизнь ради того, чтобы на старости лет нас оскорбляли и презирали?" Одновременно с тем, как капиталистический процесс в силу создаваемых им психологических установок все более подрывает идеалы семейной жизни и снимает внутренние барьеры, которые прежняя моральная традиция воздвигла бы на пути к иному жизненному укладу, он прививает и новые вкусы. Что касается бездетности, то капиталистическая изобретательность постоянно создает все более и более эффективные контрацептивные средства, которые устраняют преграды на пути самого сильного человеческого импульса. Что касается стиля жизни, то капиталистическая эволюция снижает желанность буржуазного семейного очага и обеспечивает альтернативные возможности. Выше я ссылался на "размывание промышленной собственности", теперь я должен коснуться "размывания потребительской собственности". До последних десятилетий XIX в. городской дом и дом в деревне повсюду были не просто приятными и удобными оболочками частной жизни высокодоходных групп населения — без них нельзя было обойтись. Не только возможность принимать у себя гостей, какого бы уровня и стиля ни были эти приемы, но самый комфорт, достоинство, покой и изысканность семьи зависели от того, имеет ли она собственный, достойный ее домашний очаг с достойным ее штатом прислуги. Соответственно все, что входило в понятие "дом", и мужчинами и женщинами буржуазного статуса воспринималось как должное, так они относились и к браку, и к детям — "основам семьи". Итак, с одной стороны, прелести буржуазной семьи становятся все менее очевидными по сравнению с ее тяготами. Критическому взгляду критической эпохи семья представляется главным образом источником неоправданных неприятностей и расходов. И дело здесь вовсе не в современных налогах, уровне заработной платы и не в нерадивости современной домашней прислуги, хотя все эти факторы являются типичными результатами капиталистического процесса и, разумеется , значительно подрывают устои того образа жизни, который в недалеком будущем почти все поголовно будут считать старомодным и неэкономичным. В этом, как и в других отношениях, мы переживаем переходный период. Средняя буржуазная семья склонна избегать забот, связанных с содержанием большого дома и большого поместья в деревне, предпочитая небольшие и высокомеханизированные жилища плюс максимум внешних услуг и внешней жизни — в частности, приемы гостей все больше и больше переносятся в ресторан или клуб. С другой стороны, дом традиционного типа более не является необходимым требованием для удобной и изысканной жизни в буржуазных сферах. Многоквартирный дом и дома гостиничного типа представляют собой рационализированный тип человеческой обители и иной стиль жизни, который со временем, когда он получит свое полное развитие, несомненно, окажется на высоте требований, предъявляемых новой ситуацией, и обеспечит все необходимое для удобства и изысканной жизни. Еще раз подчеркну, что ни этот стиль, ни его оболочка до сих пор нигде еще не получили своего полного развития. Они сулят экономию издержек, только если все неприятности и трудности, связанные с содержанием современного дома, окажутся сравнительно менее значительными. Но другие преимущества они предлагают уже сейчас — это легкость доступа ко всему разнообразию современных радостей жизни, высокая мобильность, перенос груза текущих мелких жизненных забот на мощные плечи высокоспециализированных организаций. Нетрудно понять, каким образом это в свою очередь сказывается на проблеме обзаведения детьми в верхних слоях капиталистического общества. Здесь опять имеет место взаимное усиление: уход в прошлое просторного жилища, в котором только и может развернуться богатая жизнь многочисленной семьи [Современные отношения между родителями и детьми, разумеется, обусловлены разрушением этой прочной основы семейной жизни], и все усиливающиеся трения в механизме его функционирования дают еще один аргумент в пользу отказа от забот, связанных с рождением ребенка, однако и снижение рождаемости в свою очередь делает просторный дом все более и более ненужным. Выше я сказал, что новый стиль буржуазной жизни пока не дает никакой существенной экономии издержек. Но это относится только к текущим или основным затратам на обслуживание потребностей частной жизни. Что же касается накладных расходов, то здесь даже чисто материальное преимущество уже очевидно. И постольку, поскольку затраты на наиболее долгосрочные элементы домашнего уюта — особенно на покупку дома, картин, мебели — прежде финансировались главным образом из прошлых доходов, мы можем сказать, что необходимость в накоплении "потребительского капитала" в результате этого процесса резко сократилась. Это, разумеется, не означает, что спрос на потребительский капитал в настоящее время стал хотя бы относительно меньше, чем раньше; рост спроса на потребительские товары длительного пользования со стороны низко- и среднедоходных групп более чем компенсирует этот эффект. Но это значит, что если говорить о гедонистской компоненте в структуре мотивов совершения покупок, то за определенным порогом желательность доходов начинает снижаться. Чтобы в этом убедиться, читателю достаточно лишь взглянуть на ситуацию чисто практически: преуспевающий человек (один или со своей женой) или человек "из общества" (один или со своей женой), которые могут позволить себе снять самый роскошный номер в гостинице (каюту или купе) и покупать самые высококачественные предметы личного потребления — а высококачественных благ конвейер массового производства производит все меньше и меньше [Влияние возрастающей доступности товаров массового производства на потребительские бюджеты усиливается из-за разницы между ценами на эти товары и ценами на соответствующие потребительские блага, выполненными на заказ. Эта разница становится все больше вследствие роста заработной платы, сопровождаемого относительным снижением ее желанности; капиталистический процесс делает потребление оолее демократичным] — при нынешних условиях скорее всего будут приобретать все, что захотят, и в любых количествах, но только для себя. И нетрудно понять, что связанные с этим расходы будут намного меньше тех требований, которые предъявлялись стилем жизни "сеньоров" прошлых лет. 3. Чтобы понять, что все это значит для эффективности капиталистической производственной машины, достаточно лишь вспомнить, что в прежние времена именно семья и семейное гнездо были главной движущей силой того мотива к извлечению прибыли, который был типичен для буржуазии. Экономисты далеко не всегда придавали этому обстоятельству должный вес. Если повнимательней взглянуть на их идею о личном интересе предпринимателей и капиталистов, станет очевидно, что цели, которые этот интерес должен был, по их мнению, преследовать, не имеют на самом деле ничего общего с теми целями, которые выводятся из рационального личного интереса обособленного индивида или рационального интереса бездетной супружеской пары, которые уже, не смотрят на мир из окна семейного дома. Сознательно или неосознанно, они анализировали поведение человека, чьи взгляды и мотивы формируются таким домом, человека, который работает и сберегает в первую очередь для своей жены и детей. Как только дети исчезают с морального горизонта бизнесмена, мы получаем иной тип homo oeconomicus, который заботится о других вещах и ведет себя иначе. Для такого человека поведение прежнего типа представлялось бы совершенно иррациональным даже с позиций индивидуалистической утилитарности. Он утрачивает тот единственный вид романтики и героизма, который только и оставался в неромантической и негероической цивилизации капитализма, — героизм navigare necese est, vivere non est necese ["Мореплавание есть необходимость, жизнь не есть необходимость". Девиз, начертанный на старинном особняке в Бремене]. И он утрачивает капиталистическую этику, которая заставляла работать на будущее независимо от того, кому придется собирать урожай. Последнюю мысль можно подать более убедительно. В предыдущей главе мы отметили, что капиталистический строй возлагает защиту долгосрочных интересов общества на верхние слои буржуазии. На самом деле, он возлагает их на семейный мотив, действующий в этих слоях. Буржуазия работала в первую очередь ради того, чтобы инвестировать, и вовсе не стандарт потребления, а стандарт накопления пыталась она отстоять перед лицом близоруких правительств [Говорят, что в экономических вопросах "государство способно заглядывать, далеко вперед". Однако за исключением отдельных вопросов, лежащих за рамками партийной политики, таких как сохранение природных ресурсов, оно практически нигде этого не делало]. С затуханием движущей силы, в качестве которой ступал семейный мотив, временной горизонт бизнесмена сужае ся, грубо говоря, до ожидаемой продолжительности жизни. И пс му у него уже не будет такого желания, как прежде, продолжать: рабатывать, сберегать и инвестировать, даже если бы ему не угрожала опасность того, что весь его материальный интерес будет поглощен налогами. Он приходит в антисберегательное расположение духа и со все большей готовностью поддерживает антисберегательные теории, свидетельствующие о мировоззренческой близорукости. Но антисберегательными теориями дело не ограничивается. Вместе с иным отношением к концерну, на который он работает, и с иной моделью частной жизни он склонен вырабатывать и новый взгляд на ценности и нормы капиталистического строя. Возможно, самым поразительным здесь является то, что буржуазия не только дает образование своим врагам, но и позволяет им в свою очередь учить себя. Она впитывает в себя лозунги современного радикализма и, похоже, вполне готова обратиться в веру, враждебную самому ее существованию. И все это опять-таки становится вполне объяснимым, как только мы поймем, что социальные условия, в которых она только и могла возникнуть, отходят в небытие. Это подтверждается и той характерной манерой, в которой представители отдельных капиталистических интересов и буржуазия в целом ведут себя перед лицом непосредственной опасности. Они произносят речи и оправдываются — или нанимают людей, которые делают это за них; они хватаются за каждый шанс достичь компромисса; они в любой момент готовы пойти на уступки; они никогда не идут в бой под знаменем своих собственных идеалов и интересов — в США, например, не было никакого сопротивления ни против непомерных налогов, которые вводились на протяжении последних десяти лет, ни против трудового законодательства, несовместимого с эффективным управлением промышленностью. Как читатель уже наверняка убедился, я вовсе не склонен переоценивать политическую власть как большого бизнеса, так и буржуазии вообще. Более того, я готов многое списать на трусость. Но все же, совсем беззащитной буржуазию тоже не назовешь, а история знает немало примеров, когда даже малые группы, веря в правоту своего дела, решительно отстаивали свои позиции и добивались успеха. Единственное объяснение наблюдаемой нами смиренности заключается в том, что буржуазный строй потерял всякий смысл для самой буржуазии и что ей все стало попросту безразлично. Таким образом, тот же самый экономический процесс, который подрывает положение буржуазии, снижая важность функций предпринимателей и капиталистов, разбивая ее защитный слой и институты, создавая атмосферу враждебности, одновременно разлагает движущие силы капитализма изнутри. Именно это является самым убедительным доказательством того, что капиталистический порядок не только опирается на подпорки, сделанные из некапиталистического материала, но и энергию свою черпает из некапиталистических моделей поведения, которые в то же время он стремится разрушить. Мы заново открыли то, что с иных позиций и, как мне кажется, недостаточно обоснованно нередко утверждалось и раньше: что капиталистической системе органически присуща тенденция к саморазрушению, которая на ранних стадиях вполне может проявляться в виде тенденции к торможению прогресса. Я не стану задерживаться на повторении того, каким образом объективные и субъективные, экономические и внеэкономические факторы, усиливая друг друга во внушительном аккорде, вносят свой вклад в достижение этого результата, и на доказательстве того, что уже и так ясно, а в последующих главах станет еще яснее, а именно, что все эти факторы ведут не только к разрушению капитализма, но и к возникновению социалистической цивилизации. Все они указывают в этом направлении. Капиталистический процесс не только разрушает свою собственную институциональную структуру, но и создает условия для возникновения иной структуры. Наверное, все-таки разрушение — не совсем удачное слово. Возможно, мне следовало бы говорить о трансформации. Ведь этот процесс ведет не просто к образованию пустоты, которую можно заполнить всем, что ни подвернется; вещи и души трансформируются таким образом, что становятся все более податливыми к социалистической форме жизни. С потерей каждого колышка, на который опиралась капиталистическая система, усиливается возможность осуществления социалистического проекта. В обоих этих отношениях видение Маркса оказалось верным. Мы также можем согласиться с ним и в том, что основной движущей силой той конкретной социальной трансформации, которая происходит у нас на глазах, является экономический процесс. Та часть марксистской аргументации, которую наш анализ, если он верен, опровергает, имеет для нас в конце концов лишь второстепенную важность, как бы ни была велика та роль, которую она играет в социалистическом учении. В конце концов разница между тем утверждением, что загнивание капитализма есть результат его успеха, и тем, что это загнивание есть результат его несостоятельности, не так уж велика. Но наш ответ на вопрос, которым открывается настоящая часть, ставит гораздо больше проблем, чем дает ответов. С учетом того, о чем мы будем говорить дальше, читатель должен иметь в виду следующее: Во-первых, мы еще до сих пор ничего не узнали о том, какого рода социализм маячит впереди. Для Маркса и для большинства его последователей — и в этом заключается один из самых главных недостатков их доктрины — социализм означал нечто вполне определенное. Но эта определенность на самом деле не идет у них дальше национализации промышленности, хотя национализация промышленности может, как мы увидим, сочетаться с бесконечным разнообразием экономических и культурных возможностей. Во-вторых, мы точно так же еще ничего не знаем о том конкретном пути, которым может прийти социализм, за исключением того, что возможностей таких должно быть немало, начиная от заурядной бюрократизации, кончая самой живописной революцией. Строго говоря, мы не знаем даже, задержится ли социализм надолго. Должен повторить: выявить тенденцию и угадать цель, к которой она ведет, это одно, а предсказать, что цель эта действительно будет достигнута и что возникший при этом новый порядок вещей будет работоспособным, не говоря уже о том, что он будет перманентным, — это совершенно другое. Прежде, чем человечество задохнется (или познает счастье) в темнице (или раю) социализма, оно вполне может сгореть в пожаре (или лучах славы) империалистических войн [Написано летом 1935 г]. В-третьих, многочисленные аспекты той тенденции, которую мы пытались здесь описать, хотя они и наблюдаются повсеместно, еще пока нигде не раскрылись полностью. В разных странах они проделали разный путь, но нигде не достигли той зрелости, которая бы позволила нам с уверенностью судить о том, как далеко они могут зайти, или утверждать, что лежащая в их основе тенденция набрала уже такую силу, что с пути ее теперь не свернуть, и что речь может идти лишь о каких-то временных отступлениях. Промышленная интеграция еще далека от завершения. Конкуренция, как актуальная, так и потенциальная, до сих пор является главным фактором, определяющим экономическую конъюнктуру. Предпринимательство до сих пор играет активную роль, а лидерство буржуазного слоя до сих пор является главной движущей силой экономического прогресса. Средний класс до сих пор является политической силой. Буржуазные нормы и стимулы поведения, хотя они все более и более ослабевают, до сих пор еще не исчезли окончательно. Стремление сохранить традиции — и семейную собственность на контрольные пакеты акций — до сих пор заставляет многих управляющих вести себя так, как это делали единоличные хозяева в прежние времена. Буржуазная семья еще не умерла, она цепляется за жизнь настолько упорно, что ни один ответственный политик до сих пор не отважился на нее покуситься, разве что путем налогообложения. С позиций сегодняшней практики, а также с точки зрения задач краткосрочного прогнозирования — а в таких вещах и столетие считается "коротким сроком" [Именно поэтому факты и доводы, приведенные в настоящей и в двух предыдущих главах, вовсе не противоречат моим рассуждениям о возможных экономических путях капиталистической эволюции на протяжении последующих пятидесяти лет. Вполне может оказаться, что 30-е годы окажутся последним вздохом капитализма — вероятность этого, конечно, многократно усиливается нынешней войной. Но может случиться и иначе. Во всяком случае, нет никаких, чисто экономических причин, по которым капитализм не смог бы взять новый успешный старт, и именно это я и пытался здесь доказать] — все эти поверхностные процессы могут оказаться более существенными, чем тенденция движения к иной цивилизации, которая медленно вызревает в глубоких недрах капитализма. |
| Московский Либертариум, 1994-2020 |