 |
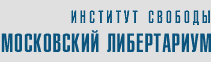 |
|
||
Интеллектуальная активность и государствоИнтеллектуальная политическая активность, как правило, предшествует иным видам политической активности, в чем и проявляется ее особенное свойство. Это активность первого порядка по отношению к практическим действиям -- активности второго порядка. В этом качестве теоретическая активность выступает квинтэссенцией политического. Недаром Б.Спиноза писал, что человек деятелен, поскольку познает, а В.Вернадский говорил о мощи свободной мысли и личности, царство которых впереди. Еще более определенно выразился Д.Дьюи: "Как это ни удивительно может звучать, вопрос, сформулированный И.Кантом, означает, что возможности <предоставляемые> знанием, являются фундаментальной политической проблемой современности" [Dewey D. The Essential Writings. -- N.-Y.: Harper Torchbooks, 1977. -- P. 61]. По мнению М.Новака, идеи и символы нашего времени стали могущественнее реальности, ведь они и есть новая реальность [Novak M. The Spirit of Democratic Capitalism. -- London: IEA Unit, 1991. -- P. 183]. Именно поэтому морально-культурные аспекты выдвигаются на главное место в развитии современных политических систем. Для О.Тоффлера в цивилизации "третьей волны" важнейшими факторами становятся информация и воображение. В сущности, это закономерно, ибо каждое столетие какая-либо грандиозная идея адаптируется в интеллектуальные потребности общества, проникая в самые отдаленные пространства нашей жизни [Easton D. A Systems Analysis of Political Life. -- Chicago: University of Chicago Press, 1965. -- P. 367]. Правильно организованные идеи всегда являлись решающим оружием политики. Недаром кладбища истории, писал В.Эбенстайн, заполнены "реалистами" вроде Наполеона, Вильгельма II, Гитлера или Муссолини [Эбенстайн В. Государь, государство, общество. -- Знание-сила, 1990, # 9. -- С. 70]. Цивилизацию продвигают вперед энергии народов, высвобождаемые посредством совершенно новых институтов и конституций [Toffler A. The Third Wave. -- N.-Y.: Bantam Books, 1994. -- P. 441]. Собственно говоря, за этим стоит нечто даже более мощное, чем энергия, а именно, коллективное воображение [там же]. Связывая политику и теоретическую мысль, Г.Моска писал, что каждая страна и эпоха обладают набором идей и верований, определяющим образом воздействующих на политический механизм. Для Ж.-Ф.Ревеля нищета народов есть следствие политики, основанной на плохих идеях [Revel J.-F. Democracy Against Itself. -- USA: Free Press, 1993. -- P. 167]. У Д.Писарева политически господствуют люди, обладающие наибольшей суммой развитых умственных сил. Не случайно еще в 1826 г. Д.Каннинг предсказал, что грядущая европейская война станет войной мировоззрений [Донцов Д. Клич доби. -- Лондон: Видво Союзу укра"нц?в у Велик?й Британ?"' 1968. -- С. 128]. Для Р.Рейгана решающим фактором современной войны являлось соревнование умов и идей, духовных ценностей, убеждений и идеалов. Впрочем, еще Ф.Ницше писал о борьбе, которая будет вестись от имени философских принципов [Камю А. Бунтующий человек. -- М.: Политиздат, 1990. -- С. 178]. Для П.Вайнцвайга идеи -- это основной источник человеческой энергии [Вайнцвайг П. Десять заповедей творческой личности. -- М.: Прогресс, 1990. -- С. 36], а для Ф.Хайека сохранение численности населения прямо связано с технологией добывания и передачи информации [Хайек Ф. Пагубная самонадеянность. -- М.: Новости, 1992. -- С. 212]. Как писал Ю.Каныгин, успехи и поражения наций связаны со складом мышления их авангардных групп [Каныгин Ю. Основы когнитивного обществознания. -- Киев: 1993. -- С. 208], ведь потенциал современного общества определяется не объемом накопленных в нем знаний, а их энтропией, разбросом, возможностями аккумуляции [там же. -- C. 33]. Сегодня многие согласны, что место любой страны и народа в ХХI в. будет определяться их интеллектуальной мощью. Диктовать условия будут интеллектуально сильные страны [там же. -- C. 167]. По мнению Б.Малиновского, борьбу за будущее выиграют общества, в которых образование будет более свободным и универсальным, а цели будут избираться спонтанно. Системы же, которые будут продолжать производить индивидов в качестве средств достижения запрограммированного результата, проиграют [Malinowsky B. Freedom and Civilization. -- London: George Allen, 1947. -- P. 94]. З.Бжезинский полагает, что общество будущего будет перефокусировано на значимость философии и духовных аспектов жизни. Поскольку информация -- это власть, режим информации становится политико-правовой проблемой. Должны ли банки данных контролироваться правительством, или им лучше развиваться свободно, есть важнейший для общества вопрос [Белл Д. Социальные рамки информационного общества // Новая технократическая волна на Западе. -- М.: Прогресс, 1986. -- С. 335]. Примечательно, что даже у Т.Гоббса суверен не должен вмешиваться во мнения и их выражение, если только последние не угрожают миру [Gray J. Post-Liberalism. -- London: Routledge, 1996. -- P. 9]. Уже сегодня увеличение скорости передачи информации есть политический вопрос [Лосев С. Практическими делами углублять перестройку. -- Известия, 1987, 16 июля. -- С. 2], а базы данных рассматриваются в качестве сердцевины управленческого процесса [Назаров А. К понятию организованности ноосферы // Кибернетика и ноосфера. -- М.: Наука, 1986. -- С. 47]. Гении рождаются в провинции и умирают в Париже, гласит французская поговорка. Интеллектуальное могущество спонтанно рассеяно в географической, временной и политической среде. Поэтому ни партия у власти, ни отдаленность провинции, ни несчастливые времена не должны препятствовать интеллектуальной активности общества, действительно озабоченного своим будущим. Как считает А.Зиновьев, изоляция одних регионов мира ведет к усилению ксенофобии в других, сокращая тем самым потенциальную способность каждого из регионов противостоять злу [Зиновьев А. Зияющие высоты. Т.1. -- М.: Изд-во ПИК, 1990. -- С. 231]. На примере Японии К.Кирквуд показал, насколько трудно предугадать, в какой момент общество может воспользоваться плодами информационного обмена. Ведь ни правительственные стратегии просвещения народа, ни средневековый культ знаний, поддерживаемый наиболее просвещенными монархами, не приводили к ощутимым результатам в консервативном и закрытом обществе. Европа вышла из мрака средневековья не по указаниям императоров, а благодаря пробудившемуся общественному сознанию. Не случайно по данным ЮНЕСКО политический выбор и свобода информации связаны неразрывно, так что движение информации стало отчетливо выраженной политической потребностью [В?д головно" редакц?". -- Кур'"р ЮНЕСКО' 1990' листопад. -- С. 11]. Логично, что оптимальное протекание всех этих процессов требует конституционных гарантий. Свобода интеллектуальной активности, писал З.Бжезинский, существенна потому, что демократия не способна ответить на вопрос о том, что же на самом деле является хорошей жизнью [Brzezinski Z. Out of Control. -- USA: 1993. -- P. 75]. Демократия обладает селективным, а не креативным, творческим даром. Ценности, мотивирующие поведение людей, генерирует культура и философия, и именно поэтому последние должны быть максимально свободны. Т.Джефферсон писал о свободе информации, как о политическом требовании, так как был, вслед за К.-А.Гельвецием, убежден, что свободный и мыслящий народ повелевает народами, которые не мыслят. Именно на основе данного убеждения возник затем конституционный императив, запрещающий правительству судить чьи-либо взгляды. У А.Токвиля демократическое правление хоть и базируется на простых принципах, однако в качестве своей основы предполагает высокую культуру и просвещенность общества [Tocqueville A. Democracy in America. Vol. 1. -- N.-Y.: Arlington House. -- P. 200]. И у К.Юнга политическое благополучие определяется интеллектуальным здоровьем. Ведь в современном мире слишком многое зависит от правильного функционирующего сознания. Если люди потеряют голову, будет взорвана водородная бомба [Юнг К. Воспоминания, сновидения, размышления. -- Киев: Air-Land, 1994. -- С. 138]. У А.Шлезингера интеллектуальная работа стимулирует идею равноправия и диверсификацию общества. Уже начиная с римского форума и новгородского вече демократия предполагала определенный способ закрепления, хранения и обмена информации. Информационной свободе сопротивлялись все диктаторские режимы, но правда, будучи обнаруженной, обычно их свергала [Смирнов К. Лошадиные силы для компьютера. -- Известия, 1990, 23 января. -- С. 3]. З.Бжезинский пишет, что именно резко возросшая в XX в. интеллектуальная активность Латинской Америки, Юго-Восточной Европы, Египта и Индии позволила им стать восприимчивыми к критике. Это важно, ибо интеллектуально активным обществам достаточно порой лишь толчка, чтобы устремиться вперед по пути перемен. В Португалии таким толчком стала книга, написанная генералом, в Иране -- голос Хомейни, записанный на магнитную ленту. В Польше 80-х папа римский мог вызвать любые события по своему выбору [Гаврилишин Б. Дороговкази в майбутн". -- Ки"в: Основи' 1993. -- С. 55]. Как писал К.Поппер, мысли и идеи являются не только орудиями, но и видом политических действий, а интеллектуальная честность -- фундаментом всего, чем мы дорожим. Ценность "общих идей" А.Токвиль усматривал в том, что эти идеи позволяют оценить ситуацию, в которой действует множество субъектов. О политическом мировоззрении, устанавливающем порядок всех вещей, писал Н.Шлемкевич [Шлемкевич М. Загублена укра"нська людина. -- N.-Y.: 1954. -- C. 107--108]. Обычно интеллект определяют как способность системы (человека, ЭВМ, общества) превращать данные в знания, извлекать смысл из наборов данных, декодировать их. При этом память и логический вывод являются определяющими для уровня интеллекта [Каныгин Ю. Основы когнитивного обществоведения. -- Киев: 1993. -- С. 18]. В морально-политическом же смысле интеллектуальная активность выступает как деятельность общественного организма в поисках справедливости. А это требует, чтобы ограничения интеллектуальных усилий были отброшены, а проблемы решались на основе всех доступных общественному сознанию фактов [Rawls J. A Theory of Justice. -- N.-Y.: Oxford University Press, 1973. -- P. 449]. В структурном смысле интеллектуальная активность общества является коллективным умственным действием, синтеллектикой. Ее главными качествами являются способность воспринимать, накапливать и хранить знания, вырабатывать идеи и затем использовать их [Каныгин Ю. Основы когнитивного обществоведения. -- Киев: 1993. -- С. 6--7]. Интеллект выступает здесь инструментом преобразований тонкой материи сознания. В политическом же смысле интеллектуальная активность является "вибрирующей структурой" (Ю.Каныгин) социального организма, которую представляют институты общественного мнения (масс-медиа), религиозные конфессии, политические течения а также такие слои населения, как студенчество, ученые и писатели [там же. -- С. 117--118]. Впрочем, еще В.фон Гумбольдт говорил, что человеческая индивидуальность есть идея, воплощенная в явлении. Иными словами, идея приняла форму индивида лишь для того, чтобы открыть себя. Недаром у П.-А.Гольбаха мысль -- это деятельность в человеке. Поскольку общий смысл интеллектуальной активности заключается в освоении обществом окружающей действительности, выработке стратегии и тактики реагирования на бесчисленное множество ситуаций, в интеллектуальную политическую активность включаются преимущественно, те формы мыслительной деятельности, которые стремятся к коммуникации, дискурсу. В большинстве случаев эта деятельность проявляет себя на научном, религиозном, общекультурном и бытовом уровне. Благодаря ей кооперируются усилия в образовании, науке и искусстве. Она может быть ориентирована как на конкретный результат, так и на самоценное вербальное или визуальное выражение. Чаще же всего она проявляет себя в поиске новых или прежде утраченных смыслов, выработке и выдвижении символов, разработке концепций, доктрин, социальных парадигм. К ней относится почти всякое организационное обеспечение прогресса. Э.Фромм считал интеллект человека производным от независимости, смелости и жизненности [Фромм Э. Душа человека. -- М.: Республика, 1992. -- С. 364]. Поэтому юридически гарантировать интеллектуальную активность должны нешаблонные правовые средства. В наборе конституционных гарантий им соответствуют законодательно очерченные пространства свободы, зоны, свободные от государственного регулирования. То обстоятельство, что интеллектуальная активность выступает предпосылкой любых перемен, как раз и придает ей политический характер. В этом качестве она является действием эфиризованного типа, которое, по мнению А.Тойнби, более походит на Божье деяние, чем какое-либо иное из человеческих действий. И хотя Ж.Ламетри подчеркивал в интеллектуальной активности лишь "высказывание мнений" [Ламетри Ж. Сочинения. -- М.: Мысль, 1983. -- С. 301], у Аристотеля такая активность является высшей формой praxis'a, созерцанием в поисках истины, которое он иногда также называл умственной интуицией, и по отношению к которой обсуждение выступает уже как деятельность. Теоретическая активность является фактором самоутверждения у Л.Фейербаха, который по этому поводу писал: "Философские системы -- необходимые, неизбежные точки зрения разума, такие точки зрения, в лице которых божественная истина однажды созерцает самое себя с явным удовлетворением..." [Фейербах Л. Собрание произведений. В 3-х т. Т.2. -- М.: Мысль, 1974. -- С. 26] У В.Гейзенберга этот фактор приобретает политическую окраску, ибо однажды избранную мировоззренческую позицию многие люди воспринимают обычно как "основу жизни", которую не под силу поколебать ни опыту, ни новому знанию. Подобная иррациональная вера является крупным политическим фактором истории, хотя первоначально многим и казалось, что веру легко потеснит рациональный анализ [Гейзенберг В. Физика и философия. Часть и целое. -- М.: Наука, 1989. -- С. 129]. В.Вернадский воспринимал теоретическую активность как совокупность человеческой мысли, к которой он относил религиозное мировоззрение, искусство, этику, социальную жизнь и философскую мысль. Для П.Сорокина абстракция есть imum fundamentum социального порядка, на котором держится продолжительность, сила и могущество обществ. У М.Дюверже сходную роль играют политические мифы, основанные на вере, традициях и социальном климате [Благош Й. Формы правления и права человека в буржуазных государствах. -- М.: Юридическая литература, 1985. -- С. 41]. Такую же функцию выполняет требующее чуткого отношения к жизни и независимости мысли "служение идеалам". Д.Шумпетер считал интеллектуалов людьми, которые обладают властью слова, не неся при этом ответственности за практические дела [Schumpeter J. Capitalism, Socialism and Democracy. -- London: George Allen, 1976. -- P. 147]. Иногда же интеллектуалы посвящают себя социальной критике, то есть, освоению мира через отрицание, которое Э.Шеварднадзе считает разновидностью политики [Шеварднадзе Э. Масштаб ответственности. -- Известия, 1989, 23 марта. -- С. 5]. Впрочем, даже в сказках и трагедиях, в которых происходит трасцендирование целей мифологического свойства, ради которых люди готовы приносить жертвы, воплощается отчетливо выраженный политический смысл [Олкер Х. Волшебные сказки, трагедии и способы изложения мировой истории // Язык и моделирование социального взаимодействия. -- М.: Прогресс, 1987. -- С. 434]. Что же касается самой технологии интеллектуальных процессов как распространения "количества непредсказуемого, содержащегося в сообщении" (А.Моль) [Моль А. Социодинамика культуры. -- М.: Прогресс, 1973. -- С. 132], то между этим действием и политической властью существует органическое противоречие, отражающее более общее противоречие "жизни и свободы" (Ф.Хайек), противостояние гражданского общества и государства. Как известно, Верховный Суд США отнес информационную открытость под защиту I Поправки к Конституции США, запрещающей какое-либо (в том числе законодательное) ограничение свободы слова, совести и петиций, тем самым выведя процессы интеллектуального обмена в свободное от правовых ограничений пространство. В политико-информационном смысле это означало защиту ремы -- структурной части сообщения, аккумулирующей в себе новизну, то есть ядро информации [Капустин В., Кухаренко Б. Базы данных и системы знаний -- симптом ноосферы // Кибернетика и ноосфера. -- М.: Наука, 1986. -- С. 92]. Лишь новое в сообщении заставляет людей жаждать свободного доступа к информации, только в этом заключается смысл свободы их убеждений. Как считает Н.Амосов, в основе теоретической активности человека лежит алгоритм разума и биологические потребности. Разум выдвигает и тренирует гипотезы, тем самым делая их источником активности человека вместе с центром биологических потребностей. Именно по этой схеме была реализована историческая гипотеза о Боге и идеализм, гипотеза о материальной силе и материализм, а также другие идеи, касающиеся проблем справедливости, распределения собственности и власти [Амосов Н. Реальности, идеалы и модели. -- Литературная газета, 1988, 5 октября. -- С. 13]. Именно так чаще всего проявлял себя процесс эволюционной цефализации, скачкообразное усовершенствование -- рост центральной нервной системы человека, позволившие биосфере перейти в ноосферу [Вернадский В. Философские мысли натуралиста. -- М.: Наука, 1988. -- С. 27]. При этом не имело существенного значения то обстоятельство, что время от времени материалисты покидали материализм, а психологи-детерминисты склонялись к индетерминизму в физике [Честертон Г. Вечный человек. -- М.: Политиздат, 1991. -- С. 305]. Реальность всегда удивляет, а мышление всегда создает, на чем и основана открытая диалоговая система, в рамках которой люди, находя окружающую действительность неудовлетворительной, фантазируют [Фрейд З. О психоанализе. -- М.: Наука, 1912. -- С. 60]. Замки политических фантазий не случайно кажутся людям более привлекательными, чем материальные блага [Донцов Д. Книга доби. -- Лондон: Вид-во Союзу укра"нц?в у Велик?й Британ?"' 1968. -- С. 115], ведь политический порядок есть царство фикций, в котором, как говорил П.Валери, свирепствует и блистает критика идеалов. По-видимому, способность человека вырабатывать мировоззрение следует считать глубоко политической. Недаром А.Швейцер отождествлял эту способность с высшим чувством ориентирования, а Д.Донцов называл ее "стеной фанатизма", которую не разрушить никакими насмешками и провокациями [Донцов Д. Нац?онал?зм // Укра"нська сусп?льно-пол?тична думка в 20 стол?тт?. Т. 2. -- Мюнхен: Сучасн?сть' 1983. -- С. 125]. Способность жертвовать собой ради идеалов давно считалась органически присущей индоевропейской расе [Франко ?. Поза межами можливого // Вив?д прав Укра"ни. -- Льв?в: Слово' 1991. -- С. 77], цивилизация которой всегда стремилась к прекрасному сильнее, чем к полезному. Святыни появились раньше, чем железные дороги и электрические лампы [Дв? концепц?" укра"нсько" пол?тично" думки: В.Лип?нський -- Д.Донцов. -- USA: Вид-во УККА' 1990. -- С. 173]. Поскольку же рафинированная теоретическая мысль развивается безотносительно к соображениям полезности, она не может и не должна зависеть от государственной поддержки. Как известно, переход от материальных потребностей к интеллектуальным и нравственным П.Чаадаев считал заслугой христианства, возбудившего в массах "великие прения". У Б.Данема отношение людей к Библии, как источнику интеллектуального вдохновения, имманентно природе личности, которая у Л.Эрхарда всегда стремится вырваться из материалистического мировоззрения [Эрхард Л. Благосостояние для всех. -- USA: Посев, 1990. -- С. 212]. Ведь люди порой жертвуют самым дорогим, чтобы сберечь красоту [Гари Р. Избранное. -- М.: Полярис, 1994. -- С. 23]. Критикуя материализм, К.Поппер упрекал К.Маркса в недооценке преимуществ свободы перед необходимостью [Поппер К. Открытое общество и его враги. Т. 2. -- М.: Феникс, 1992. -- С. 128]. В свою очередь, Ф.Фукуяма считал утилитаризм и ослабление веры в силу идей одним из наиболее унылых и разочаровывающих последствий марксизма [Фукуяма Ф. Конец истории? -- Вопросы философии, 1990, # 3. -- С. 137, 139]. Между тем сознание -- причина, а не следствие человеческой активности, а реальной подоплекой событий является все-таки идеология [там же]. Для Х.-Г.Гадамера социальная практика немыслима без функции риторики [Гадамер Х.-Г. Истина и метод. -- М.: Прогресс, 1988. -- С. 634], а у Г.Спенсера социальные действия вытекают из эмоций, руководимых идеями наших предков и современников [Spencer H. The Man Versus the State. -- USA: Indianapolis, 1981. -- P. 100]. У Ю.Хабермаса основания прогресса коренятся не в естествознании и технике, а в "производительной силе коммуникации", а у Л.фон Мизеса думающие люди отделены пропастью от тех, кто не умеет автономно мыслить [Мизес Л.фон. Антикапиталистическая ментальность. -- N.-Y.: Телекс, 1992. -- С. 80]. Г.Моска считал массовые иллюзии подлинными творцами исторических событий, напоминая нам при этом, что именно безумцы увлекали здравомыслящих в свою компанию, а не наоборот [Mosca G. The Ruling Class. -- USA: Greenwood Press, 1980. -- P. 187]. Ранний К.Маркс в письме к А.Руге справедливо сетовал на Л.Фейербаха, что тот много уповает на природу и мало -- на политику [Маркс К., Энгельс Ф. Из ранних произведений. -- М.: 1956. -- С. 257]. Ведь как писал Д.Дьюи: "Говорят Всевышний, Повелитель, Опыт, Опыт; но в действительности работает идея, внедренная в опыт, практику, а не приобретаемая из них" [Dewey J. The Essential Writings. -- USA: Harper Torchbooks, 1977. -- P. 75]. "Сама природа разума, -- говорил И.Кант, -- побуждает его выйти за пределы своего эмпирического применения, в своем чистом применении отважиться дойти до самых крайних пределов всякого познания посредством одних лишь идей и обрести покой, лишь замкнув круг в некотором самостоятельно существующем систематическом целом" [Кант И. Сочинения. В 6 т. Т. 3. -- М.: Мысль, 1964. -- С. 656]. Интересно, что у Э.Фромма вера и безверие разделены пропастью. Эпохи веры кажутся ему блестящими, возвышенными и плодотворными. Безверие же всегда проходит бесследно. Дух дерева существует, писал Д.Сорос, однако при условии, что мы в это верим. Нетрудно понять, писал И.Лысяк-Рудницкий, что идеология крайне необходима политической власти для самооправдания в неком духовном принципе [Лисяк-Рудницький ?. М?ж ?стор?"ю й пол?тикою. -- Мюнхен: Сучасн?сть' 1973. -- С. 279]. Мифы живучи, ибо лишь с ними выживают правительства, а народы приводятся к повиновению, пусть даже при этом и совершается известная рационализация иррационального. Как известно, в 1796 г. Д.де Трасси впервые применил термин "идеология". С тех пор этот термин стали использовать для обозначения морали, религии, метафизики и др. В частности, К.Маркс писал об "идеологических формах" [см.: Джилас М. Лицо тоталитаризма. -- М.: Новости, 1992; Лифшиц М. Джамбаттиста Вико // Вико Д. Основания новой науки об общей природе наций. - Москва-Киев: REFL-book, 1994. -- С. YII], а Б.Рассел -- о том, что всякому политику соответствует какой-нибудь идеолог. Например, О.Кромвелю -- Т.Гоббс, Наполеону -- Ж.-Ж.Руссо, А.Гитлеру -- Гегель. Вдохновленных идеологией политиков К.фон Штайн называл "метаполитиками" [Хайдеггер М. Основные понятия метафизики. -- Вопросы философии, 1989, # 9. - С. 144]. Сен-Симон писал, что идеологии служат цели интеграции человечества, а Д.Истон видел в них образец целей для будущих действий политической власти [Easton D. A System Analysis of Political Life. -- Chicago: University of Chicago Press, 1965. -- P. 43. Д.Истон развивает свое определение, добавляя, что идеология может быть описана как широкий спектр требований, предполагающих авторитарные решения с целью достижения идеалов, уже инкорпорированных в идеологию. -- там же. -- С. 44]. Р.Джонстон называл идеологии социальными парадигмами, обладающими собственным пониманием значения вещей и способов выявления этого значения [Джонстон Р. География и географы. -- М.: Прогресс, 1987. -- С. 298], а М.Янков определял "идеологическую парадигму" как совокупность теорий, концепций, идей, моделей, образцов, критериев, ценностей и норм, определяющих облик жизни современного общества [Янков М. Конструктивная критика и рациональное управление. -- М.: Прогресс, 1987. -- С. 185]. Ю.Скуратов идеологией называл общий компонент всех элементов политической системы [Скуратов Ю. О конституционном содержании некоторых политических категорий. -- Правоведение, 1986, # 1. -- С. 22--30], а Д.Грант считал, что идеологи призваны интеллектуально соблазнять массы [Грант Д. Философия, культура, технология: перспективы на будущее // Новая технократическая волна на Западе. -- М.: Прогресс, 1986. -- С. 158--159]. М.Рокар писал об идеологии, как о философии мира и жизни, а у А.Баллока она есть не более чем замкнутая система партийных убеждений [Баллок А. Гении зла. -- За рубежом, 1992, # 12. -- С. 17]. К.Ясперс считал идеологию системой идей, служащих субъекту суррогатом истины [Ясперс К. Смысл и назначение истории. -- М.: Политиздат, 1991. -- С. 146], а Э.Фромм думал, что идеология призвана оправдывать все аморальные, с позиций индивидуальной этики, действия. В.Гавел усматривал в идеологии бутафорию "надличностного", "вуаль потерянного бытия" [Гавел В. Сила бессильных. -- Новое время, 1991, # 16. -- С. 41], мост между политическим режимом и народом, а М.Шимечке идеология казалась зеркалом, из трещин которого выглядывает "рожа действительности". В идеологии, писал Н.Бердяев, реализуется "прагматизм лжи," в котором так или иначе нуждается общественная жизнь [Бердяев Н. Русская идея // О России и русской философской культуре. -- М.: Наука, 1990. -- С. 177]. А.Богданов считал идеологию чем-то вроде социального клея, которым в обществе все согласовывается и стройно связывается. Для Р.Арона идеология есть представление о должном, а для О.Ланге это всего лишь систематизированное собрание общественных идей. Д.Белл считал, что идеология превращает идеи в социальные рычаги [Bell D. The End of Ideology. -- USA: Free Press, 1960. -- P. 370], а Е.Вятр определял ее как систематизированную совокупность взглядов, имеющих функциональную связь с интересами и стремлениями общественной группы, в которую входят возникшие на основе опыта данной группы идеи, отображающие и оценивающие действительность, а также директивы к действиям, основанные на этих идеях [Вятр Е. Социология политических отношений. -- М.: Прогресс, 1979. -- С. 401]. Идеологии укрепляют ценности и установки, излагают теорию прошлого, узаконивают настоящее и рождают мечты о будущем. Они помогают сформулировать подход к современным проблемам, возбуждают энергию и определяют мотивы, необходимые для эффективного решения этих проблем, писал Г.Кан [Кан Г. Грядущий подъем: экономический, политический, социальный // Новая технократическая волна на Западе. -- М.: Прогресс, 1986. -- С. 187]. Поэтому идеология включает в себя убеждения, теории, верования, а также выражение последних словами, письменными знаками, рисунками, жестами и другими способами [Сорокин П. Голод и идеология общества // Квинтэссенция. -- М.: Политиздат, 1990. -- С. 376]. К.Леви-Строс считал идеологию производной от мифологии, а В.Чивилихин -- политической идеей, сопротивление которой ведет обычно к революции [Чивилихин В. Память. -- Наш современник, 1983, # 6. -- С. 61]. Как писал В.Розанов, вино, чай, "большие рыбы", варенье и хорошая квартира как символы капитализма, прокрались в Россию контрабандою [Розанов В. Религия и культура. Т. 1. -- М.: Правда, 1990. -- С. 563]. Но очевидно, что именно так в общество проникают новые идеологии. И хотя в экономической науке угроза трактовки абстрактных слов, как эквивалентов вещам, была распознана уже во второй половине XIX в. [Wallas G. Human Nature in Politics. -- London: Constable and Company, 1910. -- P. 140], еще и сегодня "неслыханные слова" действуют постольку, поскольку продолжает сохраняться ощущение, что это не слова [Баткин Л. Возобновление истории // Иного не дано. -- М.: Прогресс, 1988. -- С. 157]. По мнению П.Бурдье, идеологическое внушение совершается агентом государства, владеющим монополией легитимного символического насилия [Бурдье П. Социология политики. -- М.: Socio-Logos, 1993. -- С. 72], что и позволяет политическому функционеру "делать будущее правдой" [там же. -- С. 206]. Говоря о господстве "отвлеченной мысли", М.Бакунин писал, что за ней скрывается монополия элиты на истину [Бакунин М. Философия, социология, политика. -- М.: Правда, 1989. -- С. 433--434]. У Г.Марселя идеологии плохи своей способностью принуждать людей следовать мертвым постулатам. [Марсель Г. Быть и иметь. -- Новочеркасск: Сагуна, 1994. -- С. 145. В этом контексте интересна мысль Г.Валлеса о том, что в политике предпочтение разума чувствам особенно неэффективно, так как чувства не только мотивируют политическую мысль, но также фиксируют масштаб ценностей, используемых в политическом дискурсе. -- Wallas G. Human Nature in Politics. -- London: Constable and Company, 1910. -- P. 188] Ведь, в сущности, всякая доктрина, ограничивающая свободу выбора, ослабляет индивидуальную ответственность. Тем самым она создает психологические установки, поддерживающие тоталитарное государство [Dewey J. Freedom and Culture. -- N.-Y.: Capricorn Books, 1963. -- P. 172]. Не удивительно, что с концом "века идеологий" З.Бжезинский и Д.Белл связывали свои надежды на счастье человечества [Бжезинский З. Окончилась ли холодная война? -- Международная жизнь, 1989, # 10. -- С. 35]. Сегодня деидеологизация охватила посттоталитарные страны, отразившись в их конституциях. Однако, политическая жизнь без стратегий вряд ли возможна. Поэтому реальная проблема посттоталитарных стран состоит, как представляется, не столько в отказе от идеологии, сколько в признании идеологического плюрализма, права человека на неконформное поведение и сопротивление организациям, основанным на моноидеологическом или просто коллективном интересе. Очевидно, что граждане современных государств должны быть защищены не только от физического, но также и от идеологического насилия. Их интеллектуальная свобода должна быть защищена не только от правительства, но и от демократии. Ведь и сегодня законы слишком часто оказываются не более, чем рычагами исполнительной власти государства. Проблема, однако, стоит шире и заключается не только в законах. Из отрицания моноидеологии вытекает также и то, что всякая возможная государственная экспертиза интеллектуальных проектов гражданского общества не может и не должна признаваться окончательной. Государство также не должно сертифицировать частные образовательные учреждения, принимать обязательные для них учебные программы и др. [Анализируя практику Верховного Суда США, Р.Дворкин упоминает "четыре существенных свободы" американских университетов: а) свободу определять академические основы обучения; б) свободу выбирать преподавателей; в) свободу методики обучения; г) свободу выбора обучающихся. -- Dworkin R. A Matter of Principle. -- USA: Harvard University Press, 1985. -- P. 313] Иными словами, граждане посттоталитарных стран должны быть защищены от рецидивов интеллектуально-корпоративного насилия. Следует признать, что государство давно осознало, что идеи способны переворачивать мир, и что социальная динамика мира основывается на убеждениях. Отрицая разногласие умов по основным вопросам бытия, государство обычно уважает традицию, как важнейшее условие социального порядка. Еще Т.Гоббс писал, что политической власти присуще судить о мнениях, препятствующих или содействующих водворению мира; о людях, обращающихся с речами к народной массе, а также о доктринах неопубликованных книг [Гоббс Т. Левиафан. -- М.: Изд-во социально-экономической литературы, 1936. -- С. 150]. У Д.Локка правитель может запретить опубликование мнений, подрывающих власть правительства [Локк Д. Сочинения. В 3-х т. Т. 3. -- М.: Мысль, 1988. -- С. 72], а у В.Розанова правительственный функционер должен быть свободным "от гнета печати" и исходить в своих действиях лишь из собственных убеждений и принципов. А.Миллер писал, что не бывает правительства, не стремящегося скрыть нежелательную для политической власти правду [Миллер А. Борьба за правду должна быть защищена законом. -- Известия, 1992, 26 июня. -- С. 7]. Ведь сохранение стабильности заложено в правительственной природе. По свидетельству Ф.Броделя, государство всегда надзирало над движениями культуры, оспаривающими традицию, опасаясь быть захваченным врасплох какими-либо новшествами. Доказательства этого мы обнаруживаем как в эпоху Лоренцо Великолепного, так и в канун Французской революции. Иными словами, логика власти закономерно не совпадает с логикой прессы -- во все времена и во всех странах [Маринович М. Укра"на: дорога через пустелю. -- Харк?в: Фол?о' 1993. -- С. 83]. Судьбы Анаксагора и Сократа лишь напоминают нам, что и в Греции инакомыслие порой путали с ересью, а свободные размышления -- с опасными мыслями. Поскольку государство не может разрешить коллизию науки и идеологии, не признающей "свободы научного искания", научная мысль ни в коем случае не должна соединяться с государственной силой. Ведь подлинная научная мысль является, главным образом, источником народного, а не государственного богатства. Примечательно, что высказывания В.И.Ленина об интеллектуальной свободе расходились до противоположности в зависимости от того, в какой роли -- общественного или государственного деятеля -- он выступал. [Характерны следующие места из произведений В.И.Ленина: Полн. собр. соч.: Т. 8. -- С. 442; Т. 9. -- С. 4-6; Т. 9. -- С. 10; Т. 10. -- С. 355; Т. 15. -- С. 73; Т. 15. -- С. 297; Т. 16. -- С. 164--165; Т. 32. -- С. 388; Т. 34. -- С. 213; Т. 39. -- С. 117.] Как писал Д.Фурман, любая тирания делает вид, что она избрана народом, любая олигархия -- что она элита талантов, любая политическая догма -- что она научная теория [Фурман Д. Наш путь к нормальной культуре // Иного не дано. -- М.: Прогресс, 1988. -- С. 572]. По этой причине не только правительства, но и парламентские большинства почти всех стран пытаются контролировать средства массовой информации: телевидение, радио и печать [Бадентер Р. Пятый человек в пятой республике. -- Аргументы и факты, 1989, # 47. -- С. 7]. Удивительную же терпимость французского абсолютизма к Вольтеру Д.Писарев объяснял лишь тем обстоятельством, что сила мысли и возможные последствия ее применения в те времена еще не осознавались начальствующими лицами. Как считал Г.Шпет, "зажигая государственные огоньки" нельзя не "погасить свободное распространение света" [Шпет Г. Сочинения. -- М.: Правда, 1989. -- С. 282], ведь стратегия всякого политического руководства рассматривает доктрины не как правильные или ложные, а только как благоприятные для организации или опасные для нее. Доктрина ортодоксальна, если способствует единству организации, и еретична, если подрывает его. По мнению Т.Адорно, антиинтеллектуализм укоренен в государственном мышлении. И хотя государство постоянно твердит, что критика должна быть ответственной, из этого вытекает лишь то, что право на критику имеет политический истэблишмент. Так из человеческого права и гражданской обязанности критика превращается в привилегию. Неудивительно, что все функционально связанные с политическим режимом в стране лица обычно воздерживаются от критики политического порядка [Адорно Т. Разумно ли действительное? -- Новое время, 1989, # 46. -- С. 34]. Как писал М.Салтыков-Щедрин, здесь возникает порочный круг: как бы и нужна самостоятельность, и не нужна. То есть нужна "известная" самостоятельность. Как бы и нужна критика, и не нужна. То есть, опять-таки, нужна "известная" критика [Салтыков-Щедрин М. До боли сердечной... -- Известия, 1989, 10 мая. -- С. 4]. Позиция государства, говорил Л.Эрхард, не вызывает воодушевления народа, ибо государство стремится водить свободу на помочах [Эрхард Л. Благосостояние для всех. -- USA: Посев, 1990. -- С. 277]. Правительства, отрицающие свободу говорить, что каждому вздумается, Б.Спиноза считал насильническими. Бюрократы всегда разведывают настроения граждан, угрожающие системе политического контроля, а управляемые -- решения бюрократов, не совпадающие с их интересами, что закономерно [Болинджер Д. История -- проблема лингвистическая // Язык и моделирование социального взаимодействия. -- М.: Прогресс, 1987. -- С. 27]. Именно поэтому правительства, запрещающие свободно писать по вопросам управления, являются негодными [Гельвеций К.-А. Сочинения. В 2-х т. Т. 2. -- М.: Мысль, 1974. -- С. 137], а правительства, претендующие на вседозволенность, считаются деспотическими [Гольбах П.-А. Избранные произведения. В 2-х т. Т. 2. -- М.: Мысль, 1963. -- С. 248]. Поскольку, как принято сегодня считать, недоступность информации даже для половины населения страны обычно разрушает механизм демократии, утаивание информации компрометирует власть больше, чем принятие ею плохих решений. В результате, государственный истэблишмент вырабатывает специальный, лишь внешне кажущийся открытым язык политики [Блакар Р. Язык как инструмент социальной власти // Язык и моделирование социального взаимодействия. -- М.: Прогресс, 1987. -- С. 105]. Так возникает феномен политической "логократии", то есть современной системы изощренного применения слова [Клод А. Возможности языка. -- Курьер ЮНЕСКО, 1986, апрель. -- С. 24]. Как констатировал М.Шимечка, обычные люди в этом смысле могут лишь жалко подражать профессионалам [Шимечка М. Мой товарищ Уинстон Смит. -- Проблемы Восточной Европы, 1989, # 27--28. -- С. 251]. Оценивая политическое поведение советской бюрократии, А.Оболонский указывал на использование ее представителями речевых клише, специального языка для посвященных [Оболонский А. Бюрократическая деформация сознания и борьба с бюрократизмом. -- Советское государство и право, 1987, # 1. -- С. 56]. Впрочем, язык политического доминирования всегда применялся для легитимации государства [Гилберт Д., Малкей М. Открывая ящик Пандоры: социологический анализ высказываний ученых. -- М.: Прогресс, 1987. -- С. 29], а угроза дезориентации общественного мнения демагогами никогда не переставала быть реальной [Селье Г. От мечты к открытию: как стать ученым. -- М.: Прогресс, 1987. -- С. 149]. Как писал еще Ж.Мелье, власть всегда хочет, чтобы массы не знали многого о существующем, и верили в то, чего на самом деле нет [Мелье Ж. Завещание. Т. 3. -- М.: Изд-во АН СССР, 1954. -- С. 338]. Иными словами, для власти всегда существует соблазн подавления воображения гражданского общества и распространения атмосферы интеллектуального изоляционизма. Именно поэтому интеллектуальная активность гражданского общества не совпадает с идеологической активностью государства. И хотя, в конечном счете, государству также выгодна свобода и демократия, эта выгода существует для государства лишь стратегически, как бы только в исторической перспективе. Наоборот, гражданское общество может развиваться исключительно в условиях повседневной интеллектуальной свободы, хотя стратегически и оно заинтересовано в порядке и стабильности. Д.Шумпетер, по-видимому, был прав, когда писал, что ни одно современное общество не обеспечивает абсолютной свободы, равно как и ни одно государство не сводит ее к нулю [Schumpeter J. Capitalism, Socialism and Democracy. London: George Allen, 1976. -- P. 271]. Однако по контрасту с государством, в гражданском обществе императив интеллектуальной свободы доминирует. "Превратившись в правительство", -- писал О.Конт, мысль тотчас же развращается. В здоровом же виде она недовольна существующим. Если наш век действительно является веком свободы, то одновременно он является и веком критики, которой подчинено все. В самом деле, лучше вообще не мыслить, чем только соглашаться. Да и как можно познать истину без мнений, противоположных нашим, спрашивал Ж.Ламетри [Ламетри Ж. Сочинения. -- М.: Мысль, 1983. -- С. 304, 320]. По мнению В.фон Гумбольдта, гарантию прогресса может дать лишь автономная позиция общества по отношению к государственной власти. Иными словами, для обеспечения прогресса необходимо соединение "господствующей" и "подчиненной" частей нации таким образом, чтобы первой гарантировалось сохранение власти, а второй -- обеспечение выгод свободы. Лучшим поэтому он считал политическое устройство, способное воспитывать в гражданах высочайшее уважение к чужому праву в соединении с любовью к собственной свободе. Кроме того, государство не должно угрожать интеллектуальной свободе, ибо, с точки зрения народного суверенитета, интеллектуальная цензура политически абсурдна. Логично поэтому, что в свободном обществе единственным эффективным способом нейтрализации негативного влияния прессы является увеличение количества ее источников до неограниченных пределов [Tocqueville A. Democracy in America. Vol. 1. -- N.-Y.: Arlington House. -- P. 168--169, 169, 170, 171]. В сущности, антагонизм государственного порядка и свободы гражданского общества всегда выгоднее признавать открыто. Поскольку интересы прогресса требуют ценить гражданскую свободу выше, чем государственный порядок, из этого следует, что свобода интеллектуальной активности должна быть защищена конституцией, а информационная активность гражданского общества выведена за пределы законодательного (кроме таких норм, как правила доставки почты) регулирования. Иначе говоря, если правительственные и вообще какие-либо официальные властные инстанции запрещают искажать правду, то этого уже достаточно, чтобы создать смертельную опасность интеллектуальной свободе человека. Ведь за этим реально кроется абсурдность признания, что некто заведомо знает правду или владеет ее критериями [Баткин Л. Возобновление истории // Иного не дано. -- М.: Прогресс, 1988. -- С. 163]. Поэтому не стоит удивляться, что американская конституционная система и основанная на ней доктрина считает свободу убеждений более священной, чем даже честь национального флага [Феофанов Ю. Граждане и власти. -- Известия, 1989, 1 ноября]. Следует также упомянуть, что в рамках американской традиции свобода печати означает, что люди могут печатать и передавать в эфир неразумную, нецивилизованную, неприятную, неправдивую, опасную и подстрекательскую информацию. Ибо именно такова, как пишет Д.Уэбстер, оказывается порой цена свободы [Уэбстер Д. Создание свободных и независимых средств массовой информации // Материалы о свободе. -- USA: Изд-во USIA, 1998. -- Р. 3]. В свое время А.Солженицын обоснованно назвал "лютой опасностью" государственное вмешательство в информационные процессы. Поскольку же пресечение информации ведет к энтропии и разрушению [Солженицын А. Нобелевская лекция. -- Новый мир, 1989, # 7. -- С. 142], все препятствия для свободного обмена идеями в обществе должны быть уничтожены. Характерно, что уже К.-А.Гельвеций ограничение свободы слова трактовал как оскорбление нации. Не услышанный голос народа порождает апатию, апатия же способна разрушить демократию. Примечательно, что в Швеции право доступа граждан страны к государственной информации уже 200 лет является одним из основных конституционных принципов. Уже в 1766 г. специальный закон предусмотрел здесь свободный доступ населения к документальным материалам из государственных архивов [Голдберг С. Доступн?сть ?нформац?" для громадськост? // Допов?дь про свободу # 6. -- USA: Вид-во USIA, Regional Program Office, 1998. -- P. 5]. Известно также, что В.Вернадский теоретическую активность гражданского общества считал свободной в англосаксонских и скандинавских странах и несвободной в СССР [Вернадский В. Философские мысли натуралиста. -- М.: Наука, 1988. -- С. 104]. Как свидетельствует М.Джилас, ни одно великое научное открытие не было сделано в стране [Джилас М. Лицо тоталитаризма. -- М.: Новости, 1992. -- С. 288], где объятый отчаянием дух творил под маской оптимизма. Наоборот, в США мнения независимых ученых побудили Конгресс принять решение о том, чтобы в правительственных подходах использовались, где это возможно, лишь научные установки [Прайс Д. Наука, техника и Конституция. -- Америка, 1987, # 370 (сентябрь). -- С. 5]. Впрочем, как заметил однажды Д.Оруэлл, повсюду писатель в политике не солдат, а партизан. Как принято считать, в царской России литература долгое время играла роль парламента [Менерт К. О русских сегодня. Что они читают, каковы они. -- Иностранная литература, 1987, # 11. -- С. 181], а в Центральной Европе именно писатели первыми попытались внедрить мораль в политику [Salteris S. Tales of Northern Athens. -- Moscow News, 1990, # 43. -- P. 16]. Поэтому они взяли на себя здесь даже больше политической ответственности, чем их коллеги на Западе. Исключения при этом лишь подтверждают правило. Как писал И.Лысяк-Рудницкий, уже политический режим Б.Хмельницкого потерпел фиаско из-за недостатка интеллектуалов, публицистов и мудрых законодателей. В свое время О.Уайльд писал о ценности людей, умеющих выходить за границы жизненной прозы. Обычно ведь именно индивиды, не обремененные властью, обеспечивают ренессанс идей [Тойнби А. Постижение истории. -- М.: Прогресс, 1991. -- С. 605]. Идеи же существуют лишь в условиях свободной конкуренции. Даже на случай войны К.Ясперс допускал ограничения только в отношении сведений, а не мнений. В свободной стране, писал А.Моруа, даже несправедливая критика властей оказывается полезной. Ничто не способно возмутить граждан США больше, чем попытка скрыть от них информацию на том основании, что она может оказаться вредной для лиц, облеченных властью [Капп И. О причинах насилия в США. -- Америка, 1972, январь. -- С. 15]. Не удивительно также, что интеллектуальная свобода для А.Сахарова была единственной гарантией от заражения народа массовыми мифами. Как принято считать, от интеллектуальной политической активности человека нельзя требовать большего, чем только распространения мнений, в которые он верит сам. Ведь интеллектуальная истина добывается в усилиях, главным образом, нравственного и умственного характера. Закономерно, что Т.Дезами считал враждебным прогрессу любое ограничение свободы дискуссии, а Л.Фейербах -- что книги следует защищать так же, как жизнь граждан. Ведь оригинальные книги -- это не что иное, как "солнца в ночи времен" (К.-А.Гельвеций). Как известно, В.Вернадский считал необходимым существование исключающих друг друга интеллектуальных представлений и систем. Ибо точка зрения, как писал Х.-Г.Гадамер, которая возвышается над другими в роли истинного тождества проблемы, есть чистая иллюзия [Гадамер Х.-Г. Истина и метод. -- М.: Прогресс, 1988. -- С. 442]. Вот почему между истинной наукой и религией конфликта не существует. Мистиками были А.Эйнштейн, Н.Бор, Э.Шредингер, Т.де Шарден [Гроф С. Целительные возможности необычных состояний сознания // Глобальные проблемы и общечеловеческие ценности. -- М.: Прогресс, 1990. -- С. 455--467]. И у М.Хайдеггера человеческая история, философия и политика не детерминированы в марксистском смысле [Хайдеггер М. Разговор на проселочной дороге. -- М.: Высшая школа, 1991. -- С. 146]. Создание истин -- трудное дело, говорил Ф.Ницше. Недаром вербализацию мысли Л.Шестов считал "целым искусством", которому у М.Хайдеггера сопутствует ужас творческой тоски, далекий мирному самодовольству уютных занятий [Хайдеггер М. Что такое метафизика // Новая технократическая волна на Западе. -- М.: Прогресс, 1986. -- С. 40--41]. В целом, мышление человека является настолько сложным, хрупким и тонким процессом, что почти всякое организационное насилие уничтожает его. По мнению П.Юркевича, в человеческом духе есть то, что католики называют "сверхдолжными делами у Святых своих" [Юркевич П. Философские произведения. -- М.: Правда, 1990. -- С. 182]. Закономерно поэтому, что свобода слова, культурный, религиозный, политический плюрализм и сегодня остаются предметом главной заботы интеллигенции в посттоталитарных странах. Именно здесь писателю уместно ощутить себя на месте самого высокого политического деятеля (А.Довженко). Как доказали Д.Лакофф и М.Джонсон, идея существования абсолютной объективной истины опасна в социальном и политическом плане [Лакофф Д., Джонсон М. Метафоры, которыми мы живем // Язык и моделирование социального взаимодействия. -- М.: Прогресс, 1987. -- С. 148]. Ведь каким бы значительным не было логическое воздействие мысли на историю, человеческое мышление все равно следует толковать психологически, а не как логически обусловленный процесс [Вебер М. Избранные произведения. -- М.: Прогресс, 1990. -- С. 397]. Не случайно Х.Ортега-и-Гассет называл рационализм одной из форм интеллектуального ханжества, а А.Бирс определял "реализм", как искусство изображения природы с точки зрения лягушки [Bierce A. Tales and Fables. -- M.: Прогресс, 1982. -- Р. 461]. "Я мыслю -- это не источник, это завеса", -- говорил Г.Марсель [Марсель Г. Быть и иметь. -- Новочеркасск: Сагуна, 1994. -- С. 24]. Для А.Уайтхеда ментальность есть фактор упрощения, а интеллектуальная видимость, в свою очередь, упрощенным выражением реальности. Видимо, по этой же причине А.Вайда отрицал примат политической идеи в ущерб человеческому счастью [Вайда А. Бесстрашие памяти. -- Огонек, 1989, # 5. -- С. 10], а П.Валери говорил о разуме, действующем вопреки природе человека. Чем больше развивается разум, тем меньше остается места воображению, писал аббат Трюбле еще в 1735 г. Истинно свободен лишь тот, кто обращается с идеями, не полагаясь исключительно на логику. Ведь логика, как писал Р.Гари, подобна тюрьме, а строгие принципы способны не только озарить мир, но и сжечь его. Для Г.Моска гонения и кровопролития всегда предпринимались именем доктрин, провозглашавших свободу, равенство и братство. Поэтому требование, чтобы наши идеалы были осуществлены в действительном мире, есть тюрьма, из которой мудрости следует давно освободиться, писал Б.Рассел Любые идеи остаются, в конечном счете, обскурантистскими. Любое слово, писал А.Богданов, не только закрепляет содержание опыта, но и стесняет его. Слово есть догмат, а догмат -- это явно выраженное запрещение думать, говорил Л.Фейербах. Догма -- это "массовый идейный костюм" у А.Богданова, она же -- "чугунные отливки" ума для А.Уайтхеда. Догма держит мысль по стойке "смирно". "Каждый, -- писал М.Вебер, -- кто когда-либо работал с применением марксистских понятий, хорошо знает, как велико неповторимое эвристическое значение этих идеальных типов, если пользоваться ими для сравнения с действительностью, но в равной мере знает и то, насколько они могут быть опасны, если рассматривать их как эмпирически значимые или даже реальные (то есть, по существу метафизические) "действующие силы", "тенденции" и т.д." [Вебер М. Избранные произведения. -- М.: Прогресс, 1990. -- С. 404] Теоретической политической активности известен не только простой, но и сложный догматизм. Будучи представлен догматиками-виртуозами, сложный догматизм может быть даже диалектичен. Но и в этом качестве последний противен разуму. Доктрины, говорил У.Самнер, есть ужасные тираны. Овладевая человеческим рассудком, они тем самым предают его. Философии не случайно присуще тираническое влечение к власти, претензия быть causa prima [Ницше Ф. По ту сторону добра и зла. -- Вопросы философии, 1989, # 5. -- С. 127--128]. Примечательно, что по свидетельству Н.Берберовой, Г.Уэлс и М.Горький считали себя лучшими умами в мире, которые не могут ошибаться [Берберова Н. Железная женщина. -- М.: Книжная палата, 1991. -- С. 300], а Э.Канетти проявления этого же синдрома обнаруживал у Д.Свифта, всегда якобы дававшего почувствовать своему читателю, насколько же лучше он мог бы обустроить описываемые им королевства сам. Даже М.Лютер хотел уложить человеческую мысль в "заранее приуготовленную им коробочку" (Д.Писарев). Известно, что Л.Шварцшильд считал К.Маркса личностью, уверенной в своем праве манипулировать людьми. Неудивительно поэтому, что Э.Канетти, А.де Сент-Экзюпери и А.Бирс серьезно опасались всезнаек, а М.Бакунин "превышение своего знания" и "презрение ко всем незнающим" считал органическими пороками ученых. Дай волю педанту, и он начнет ставить над человечеством опыты как над кошками и собаками, говорил он [Бакунин М. Философия, социология, политика. -- М.: Правда, 1989. -- С. 435]. У П.Сорокина умники в политике всегда обманывают невежд [Сорокин П. Проблема социального равенства и социализм. -- Коммунист, 1990, # 12. -- С. 79]. Поэтому интеллектуальный деспотизм в целом, начиная с безумия охоты на ведьм, всегда был крупной политической проблемой [Корнуэлл Д. Козни дьявола или буйство фантазии. -- За рубежом, 1992, # 11. -- С. 15]. Оценивая размеры тиражей сочинений классиков марксизма-ленинизма и энергию, с которой распространялись их книги, удивительными сегодня кажутся не масштабы распространения этой идеологии, а ее фиаско. Как писал Ж.-Ф.Ревель, хотя восстание против европейского демократического капитализма в 1968 г. потерпело неудачу, оно было предпринято студентами лучших университетов мира, которые всем иным идеям парадоксальным образом предпочли идеи Мао Цзедуна и Ф.Кастро, заложившие основу не лучшего правления, а террора, не социальной справедливости, а экономической некомпетентности, не свободы, а преступлений против нее [Revel J.-F. Democracy Against Itself. -- USA: Free Press, 1993. -- P. 91--92]. Чтобы избежать политической диктатуры, мы должны жить в умственно подвижной терпимой интеллектуальной среде, открытой воображению и стилевому многообразию. Естественно, что подобная жизнь во многих аспектах воспринимается скорее игрой, чем "подлинной жизнью". Ведь ее темп и ритм, а также традиционные риски не задаются властью, не являются предметом заботы государства и возникают спонтанно. С другой стороны, такая жизнь нуждается в "негативных" правовых гарантиях невмешательства. В конституционном аспекте это означает, что интеллектуально-креативная инфраструктура гражданского общества должна быть защищена от всякого официального, прежде всего государственного, вмешательства. Из этого также вытекает, что никакие сведения не могут считаться тайными неограниченно долго, что частные лица не должны и не могут нести ответственность за разглашение государственной тайны, что свобода слова не может быть ограничена как живой политической (воплощенной в людях), так и абстрактной правовой властью. Духовной свободе вредит любое ограничение. С другой стороны, сохранение безопасности государства вовсе не требует, чтобы развитию умов давалось определенное направление [Гумбольдт В.фон. Язык и философия культуры. -- М.: Прогресс, 1985. -- С. 74, 76]. В сфере интеллектуального соревнования, открытого для всех, государству вряд ли уместно претендовать на котурны и нимб над головой [Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 7. -- С. 280], ибо сегодня считается доказанным, что интеллектуальный патернализм ведет лишь к деградации и "социальному идиотизму" (Ю.Каныгин). Судя по всему, моральный кризис, переживаемый сегодня в посттоталитарных странах, является глубоко закономерным. Характерно, что даже выход из него переживается как фрустрация, "посттоталитарная депрессия" (С.Хантингтон). На этом фоне более благополучные нации продолжают прогрессировать. Перешагнув через индустриализацию и информатизацию, страны-лидеры ориентируются теперь на ценности коллективного воображения. Иными словами, возникает реальность, в которой мода, секс, честь, аристократизм, этикет и воспитанность воспринимаются реальными и даже порой доминирующими ценностями, а не презираемой тоталитаризмом "чепухой". Именно игровое, легкое отношение к жизни во многих отношениях делает ее цивилизованной. Ведь когда видишь, какие бедствия и какую угрозу человеческому роду породили века серьезной работы мозга, писал Г.Грин, тянет заглянуть в прошлое и установить, где же мы сбились с пути... [Грин Г. Путешествие без карты. -- М.: Прогресс, 1989. -- С. 224] Касаясь правовых аспектов темы, следует признать, что конституционные формы обеспечения теоретической политической активности в посттоталитарных странах являются однотипными. Почти повсеместным здесь стал запрет цензуры. Такой запрет содержится в ст. 67 Конституции Узбекистана 1991 г.; ст. 33 Конституции Молдовы 1994 г. ("творчество не подлежит цензуре"); ст. 21 Конституции Японии 1947 г. ("никакая цензура не допускается"); ст. 44 Конституции Литвы 1992 г. ("цензура массовой информации запрещается"); ст. 29 Конституции России 1993 г.; ст. 38 Конституции Хорватии 1990 г. (запрет цензуры дополнен здесь правом журналистов на свободу подачи репортажного материала и доступа к информации); ст. 21 Конституции Италии 1947 г.; ст. 5 Конституции ФРГ 1949 г. ("цензуры не существует"); ст. 15 Конституции Украины 1996 г.; ст. 14, 54 Конституции Польши 1997 г. В ст. 61 Конституции Венгрии 1990 г. принятие законов о надзоре за публичным радио, телевидением и агентством новостей возможно лишь в случае, если за такой закон проголосует 2/3 представителей Национальной Ассамблеи. В свою очередь, автономия высших учебных заведений предусмотрена в ст. 35 Конституции Молдовы 1994 г., ст. 58 Конституции Словении 1991 г., ст. 40 Конституции Литвы 1992 г., ст. 67 Конституции Хорватии 1990 г., ст. 53 Конституции Болгарии 1991 г., ст. 46 Конституции Македонии 1991 г., ст. 33 Конституции Италии 1947 г., (здесь в приравненных к государственным частных школах также должна сохраняться полная свобода) [Конституции буржуазных государств. -- М.: Юридическая литература, 1982. -- С. 130]. В ст. 70 Конституции Венгрии 1990 г. утверждается, что "решать научные вопросы... и определять научную значимость исследований является исключительным правом лиц, которые способствуют развитию науки" [Конституц?" нових держав "вропи та Аз?". -- Ки"в: УПФ, 1996. -- С. 337]. Общая свобода интеллектуального творчества защищена посттоталитарными конституциями более разнообразно. Например, в ст. 32 Конституции Молдовы 1994 г. говорится о свободе мысли и выражения, включая свободу взглядов и публичных высказываний. Ст. 59 Конституции Словении 1991 г. говорит о свободе научного и художественного творчества. Ст. 29 Конституции Узбекистана 1991 г. защищает свободу мысли, слова и убеждений. Ст. 19 Конституции Японии 1947 г. гарантирует ненарушимую свободу мысли, совести, слова, печати и всех иных форм выражения мнений, а ст. 42 Конституция Литвы 1992 г. закрепляет свободу культуры, науки и исследований. Ст. 27 и 29 Конституция России 1993 г. гарантирует свободу мысли, слова, а также художественного, научного и технического творчества. О свободе литературного творчества и преподавания говорится в ст. 44 Конституции России 1993 г. Ст. 38 Конституции Хорватии 1990 г. гарантирует свободу мысли и ее выражения, включая свободу печати и иных средств массовой информации, свободу слова и публичного высказывания, а также свободу создания средств общественного информирования. В ст. 68 этой же Конституции к ним добавлена свобода научного, культурного и художественного творчества. Ст. 37 и 54 Конституции Болгарии 1991 г. гарантирует свободу совести, мысли, выбора вероисповедания, а также свободу художественного, научного и технического творчества. Ст. 16 Конституции Македонии 1991 г. гарантирует свободу личных убеждений, совести, мысли и их публичного выражения. Конституцией гарантируется также свобода публичных обращений и создание свободных общественных средств информации. В соответствии со ст. 33 Конституции Италии 1947 г. искусство, наука и преподавание провозглашены свободными. По ст. 5 Конституции ФРГ 1949 г. каждый может свободно черпать знания из общедоступных источников. Автономия высшей школы обеспечивается в ст. 70 Конституции Польши 1997 г. Что же касается конституционных ограничений интеллектуальной активности в посттоталитарных странах, то они предусмотрены в большинстве их конституций, хотя условия и объем таких ограничений различны. Например, в ст. 32 Конституции Молдовы 1994 г. запрещаются и караются законом отрицание существования народа и государства Молдова, призывы к агрессивной войне, национальной или расовой вражде, подстрекательство к дискриминации, территориальному сепаратизму, гражданскому насилию, а также иные действия, посягающие на конституционный режим. [Там же. -- С. 199. В американской конституционной теории, писал Д.Ролз, отсутствие такого преступления как мятежная клевета на правительство оценивается как прагматический тест свободы слова (см.: Rawls J. Political Liberalism. -- N.-Y.: Columbia University Press, 1993. -- P. 342, 347).] В ст. 34 этой же Конституции записано, что право на информацию не должно причинять вреда действиям, имеющим целью защиту граждан или национальной безопасности. Ст. 29 Конституции Узбекистана 1991 г. запрещает распространение информации, направленной против существующего конституционного строя. Свобода мнений и их выражения может ограничиваться по мотивам государственной или иной тайны [Новые конституции стран СНГ и Балтии. -- М.: Манускрипт, 1994. -- С. 441]. В ст. 18 Конституции ФРГ 1949 г. записано, что каждый, кто использует свободу выражения мнений, свободу печати и свободу преподавания для борьбы против основ свободного демократического общества, лишается основных прав [Конституции буржуазных государств. -- М.: Юридическая литература, 1982. -- С. 177]. В ст. 41 Конституции Болгарии 1991 г. право распространения информации не может быть использовано против прав и доброго имени других граждан, национальной безопасности, гражданского порядка, здоровья населения и морали. Ст. 29 Конституции Узбекистана 1992 г. запрещает искать, получать и распространять информацию, направленную против существующего в стране конституционного строя. Кроме того, свобода мыслей и их высказывания ограничивается мотивами сохранения государственной или иной тайны [Конституц?" нових держав "вропи та Аз?". -- Ки"в: УПФ, 1996. -- С. 347]. Ст. 21 Конституции Италии 1947 г. запрещает печатные произведения, зрелища и манифестации, противоречащие добрым нравам. Свобода преподавания не освобождает от верности Конституции, гласит также ст. 5 Конституции ФРГ 1949 г. Достоверность информации, как предварительное и обязательное условие возможности ее распространения, предусматривается в ст. 67 Конституции Узбекистана 1991 г., ст. 34 Конституции Молдовы 1994 г., ст. 67 Конституции Узбекистана 1992 г. Специально подчеркнута информационная свобода в конституциях Узбекистана, Молдовы, Венгрии, Болгарии, Словакии, Литвы, Италии, ФРГ. Запрет монополии средств массовой информации записан в Конституции Литвы 1992 г. Что же касается гарантий интеллектуальной политической активности в Конституции Украины 1996 г., то они начинаются с закрепления в ст. 15 Конституции принципа политического и идеологического плюрализма. В соответствии с Конституцией Украины никакая идеология не может признаваться обязательной. Стоит заметить, что данная формула, если ее трактовать буквально, образует ситуацию понятийного круга, в которой тезис упраздняет сам себя. Ведь необязательной в таком случае является и идеология данной статьи. Возможно, лучшим вариантом было бы провозгласить в Конституции Украины идеологию открытого, свободного и демократического общества. Отказываясь же от любой идеологии, Конституция Украины, пусть только формально, санкционирует политический произвол. Свобода политической деятельности, не запрещенной Конституцией и законами Украины, гарантирована ч. 4 ст. 15 Основного Закона. Однако, и в этом случае невольно возникает структурное напряжение. Следуя логике статьи, политика выступает в Конституции Украины как послеправовая реальность, в то время как на самом деле она во многих отношениях остается реальностью предправовой. Ведь в историческом, политическом и хронологическом смысле (порядке) политический дискурс опережает тенденции, принципы и конкретное содержание законов. Кроме того, записанное в ст. 34 Конституции Украины 1996 г. право каждого на свободу мысли и слова, свободное выражение взглядов и убеждений, а также право собирать, использовать и распространять информацию может быть ограничено законом в интересах национальной безопасности, территориальной целостности или общественного порядка с целью предотвращения беспорядков или преступлений, для охраны здоровья населения, для защиты репутации или прав других людей, для предотвращения разглашения информации, полученной конфиденциально, либо для поддержания авторитета и непредвзятости правосудия, то есть по 11 основаниям. Право на свободу мировоззрения и вероисповедания в соответствии со ст. 35 Конституции Украины 1996 г. может быть ограничено по 5 основаниям. Право граждан Украины на свободу объединения в политические партии и общественные организации для осуществления и защиты своих прав и свобод, а также удовлетворения политических и иных интересов (ч. 1 ст. 36 Конституции Украины 1996 г.) может быть, в свою очередь, ограничено в интересах национальной безопасности, общественного порядка, охраны здоровья населения, защиты прав и свобод других людей. В ст. 37 Конституция Украины 1996 г. признает порочными еще 14 целей, преследование которых является непреодолимым препятствием для создания и деятельности политических партий и иных общественных организаций в Украине. Ст. 54 Конституции Украины 1996 г. гарантирует свободу литературного, художественного и научного творчества, защиту интеллектуальной собственности и авторских прав. В ст. 50 этой же Конституции гарантируется свобода доступа к информации о состоянии окружающей среды, качестве пищевых продуктов и бытовых предметов, а также право на распространение такой информации. Стоит добавить, что такая информация не может быть засекречена. В ч.2 ст. 105 Конституции Украины 1996 г. предусматривается ответственность за посягательство на честь и достоинство Президента, а в ч. 1 ст. 65 Конституции Украины 1996 г. закреплена обязанность ее граждан уважать государственные символы. Информационная безопасность страны объявлена в ч. 1 ст. 17 Конституции Украины 1996 г. "делом всего народа", что весьма затруднительно прокомментировать. |
| Московский Либертариум, 1994-2020 |