 |
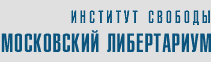 |
|
||
Социализм (части IV-V)ЧАСТЬ IV. СОЦИАЛИЗМ КАК
НРАВСТВЕННЫЙ ИМПЕРАТИВ 1. Социалистическое отношение к этике С точки зрения чистого марксизма социализм не является политической программой. Он не требует трансформации общества на социалистических началах, а также не осуждает либерального устройства общественной жизни. Он провозглашает себя научной теорией, которая претендует на то, что в законах исторического развития выявила тенденцию к обобществлению средств производства. Сказать, что чистый марксизм выступает за социализм, или что он желает прихода социализма, или стремится к его введению, -- значит примерно то же, что сказать, что астрономия считает желательным или стремится устроить предсказанное ею солнечное затмение. Мы знаем, что жизнь Маркса, так же как и многие его устные и письменные высказывания, резко противоречит его теоретическим установкам и что в социалистическом негодовании всегда просвечивает раздвоенное копыто. Последователи Маркса, по крайней мере в практической политике, давно забыли, чем же именно они обязаны его доктрине. Их слова и дела далеко выходят за пределы того, что допускает "теория повивальной бабки". {Имеется в виду тезис марксизма, что смена способов производства есть объективный процесс, а революции лишь освобождают дорогу новым общественным отношениям, вызревшим в недрах старого общества. Самое выражение "теория повивальной бабки" восходит к словам К. Маркса: "Насилие является повивальной бабкой всякого старого общества, когда оно беременно новым" (Маркс К., Энгельс Ф., Соч., Т. 23, С. 761).} [Сколь в малой степени учение Маркса стало доктриной социал-демократов, показывает беглый взгляд на их литературу. Один из лидеров германских социал-демократов, бывший министр национальной экономики Виссель кратко и ясно заявляет: "Я социалист и останусь социалистом, поскольку в социалистической экономике с ее подчинением индивидуума целому я вижу выражение более высокого морального принципа, чем тот, что лежит в основе индивидуалистической экономики" (Praktische Wirtschaftspolitik, Berlin, 1919, S. 53).] Для нашего исследования это, однако, имеет небольшое значение, поскольку здесь мы имеем дело с чистой, не профанированной доктриной. Помимо чисто марксистского взгляда, что социализм должен прийти в силу неумолимой неизбежности, у адвокатов социализма есть еще два мотива. Они являются социалистами либо потому, что ожидают роста производительности труда в социалистическом обществе, либо потому, что верят в большую справедливость социалистического общества. Марксизм несовместим с этическим социализмом. Но его отношение к рационально-экономическим аргументам в пользу социализма совсем иное: материалистическую концепцию истории вполне можно истолковать так, что экономическое развитие естественно ведет мир к самой производительной экономике, т. е. к социализму. Конечно, от такого понимания очень далеки многие марксисты. Они за социализм, во-первых, потому, что он все равно придет, во-вторых, потому, что он морально предпочтителен, и, наконец, потому, что он предполагает более рациональную организацию экономики. Два мотива немарксистского социализма взаимно исключают друг друга. Если кто-то выступает за социализм, потому что ожидает от него роста производительности труда, ему не следует подпирать свое требование высокой моральной оценкой социалистического общества. Если же он это делает, то должен быть готов к вопросу: будет ли он выступать за социализм, если обнаружится, что это далеко не совершенный в этическом отношении строй? В то же время ясно, что тот, кто оправдывает социализм по моральным причинам, должен быть готов продолжать это, даже убедившись, что общество, основанное на частной собственности на средства производства, обеспечивает более высокую производительность труда. 2. Эвдемонистская этика и социализм С точки зрения эвдемонистско-рационалистического подхода к общественным явлениям сама постановка проблемы этического социализма выглядит неудовлетворительной. Если не рассматривать этику и экономику как две ничего общего между собой не имеющие системы деятельности, тогда этические и экономические суждения и оценки нельзя считать взаимно независимыми. Все этические целеполагания суть просто часть человеческих целеполаганий вообще. Это означает, что, с одной стороны, в человеческом стремлении к счастью этические цели выступают как средства, а с другой стороны, они включены в процесс выработки ценностей, в результате которого все промежуточные цели формируются в единую шкалу ценностей и располагаются на ней в соответствии с собственной значимостью. В силу этого представление об абсолютных этических ценностях, которые могут быть противопоставлены экономическим ценностям, является необоснованным. Конечно, не приходится обсуждать эту тему с интуитивистом или этическим априористом. Те, для кого нравственность есть конечный аргумент и кто исключает научный анализ ее элементов ссылкой на трансцендентальность ее происхождения, никогда не смогут согласиться с теми, кто подвергает концепцию истины дотошному научному анализу. Этические идеи долга и совести требуют слепого подчинения [Jodl, Geschichte der Ethik als philosophischer Wissenschaft, II Aufl., II Bd., Stuttgart, 1921, S. 450 <Иодль Ф., Кант и этика в девятнадцатом столетии // История этики в новой философии, Т. 2, М., 1896--1898, С. 21>]. Априорная этика, настаивающая на безусловной вескости своих норм, ко всем земным отношениям подходит с внешней точки зрения, чтобы всему придать свою собственную форму безо всякой заботы о последствиях. Fiat justitia, pereat mundus -- это ее выражение, и она наиболее искренна тогда, когда честно негодует против вечно непонимаемого утверждения "цель оправдывает средства". {Fiat justitia, pereat mundus -- да свершится правосудие, <пусть даже> погибнет мир (лат.). Ставшее крылатым выражение, служившее девизом германского императора Фердинанда I (1503--1564).} Воображаемый изолированный человек устанавливает свои цели в соответствии с собственным законом. Он не знает и не учитывает ничего, кроме самого себя, и соответственно устраивает свои дела. Человек общественный, однако, должен сообразовывать свои действия с требованиями общества, и его действия должны утверждать существование и прогресс общества. Из основного закона общественной жизни следует, что никого не привлекают цели, лежащие за пределами личных устремлений. Превращая общественные цели в свои собственные, человек при этом не подчиняет свою личность и свои желания намерениям высшей личности; точно так же он не отказывается от удовлетворения любых своих желаний в пользу устремлений мистического Целого. Ведь с точки зрения его собственной шкалы ценностей общественные цели являются целями не конечными, а всего лишь промежуточными. Он должен принимать общество, поскольку оно позволяет полнее удовлетворять его собственные желания. Отрицая общество, он получит только временное преимущество; разрушив общество, он, в конечной перспективе, навредит самому себе. Совершенно неосновательна развиваемая большинством этических теорий идея дуализма мотивации, т. е. различения между эгоистическими и альтруистическими мотивами действий. Противопоставление эгоистических и альтруистических действий имеет источником непонимание социальной взаимозависимости индивидуумов. Мне, к счастью, не дано выбирать, служить ли своими действиями только себе или только другим. Если бы это было не так, человеческое общество оказалось бы невозможным. В обществе, основанном на системе разделения труда и сотрудничестве, интересы всех членов гармонируют между собой, а из этого основного факта общественной жизни следует, что не существует конфликта между действиями ради себя и ради других, поскольку интересы индивидуумов в конечном итоге совпадают. Можно считать, что мы тем самым определенно разделались со знаменитым научным спором относительно возможности вывести альтруистические мотивы поведения из эгоизма. Нет противоположности между моральным долгом и эгоистическими интересами. То, что индивидуум отдает обществу ради его сохранения как общества, он отдает не ради чуждых себе целей, но во имя собственных [Izoulet, La cite moderne, S. 413 ff.]. Индивидуум, который является продуктом общества не только как мыслящий, чувствующий, волеизъявляющий человек, но просто как живое существо не может отрицать общество, не отрицая самого себя. Это положение общественных целей в системе индивидуальных целей воспринимается разумом индивидуума, что и позволяет ему верно осознать собственные интересы. Но общество не может положиться на то, что индивидуум всегда будет правильно осознавать их. Если индивидууму дать возможность ставить под вопрос существование общества, оно станет заложником капризов каждого глупого, больного, порочного человека. Тем самым подвергнется опасности продолжение общественного развития. Это соображение и легло в основу общественного принуждения, которое противостоит индивидууму как требующая безоговорочного подчинения внешняя сила. В этом общественное значение государства и правовых норм. Они не есть нечто чуждое индивидууму, не требуют от него поведения, противоречащего его интересам, не принуждают его служить чужим целям. Они только препятствуют тому, чтобы запутавшиеся, асоциальные личности, слепые к собственным интересам, наносили вред окружающим своим бунтом против общественного порядка. Неверно утверждение, что либерализм, эвдемонизм и утилитаризм "враждебны государству". Они отрицают идею этатистов, которые обожествляют государство как мистическое бытие, недоступное человеческому пониманию; они направлены против Гегеля, для которого государство представляло "божественную волю"; они отвергают гегельянца Маркса и его школу, которые заменили культ "государства" культом "общества". Они борются с любым, кто хочет, чтобы "государство" или "общество" выполняли задачи иные, чем те, которые соответствуют их представлениям о целях общественного устройства. Оправдывая частную собственность на средства производства, они требуют, чтобы государственный аппарат принуждения был направлен на ее защиту, и отвергают все предложения, клонящиеся к ограничению или ликвидации частной собственности. Но они вовсе не помышляют об "устранении государства". Либеральная концепция общества никоим образом не пренебрегает аппаратом государства: она возлагает на него защиту жизни и собственности. Чтобы обвинить противников государственных железных дорог, государственных театров или государственных молочных ферм во "враждебности к государству", нужно совершенно погрязнуть в реалистической (в схоластическом значении термина) концепции государства. В определенных обстоятельствах государство может контролировать граждан, даже не прибегая к насилию. Не каждая социальная норма для проведения в жизнь требует обращения к крайним мерам государственного принуждения. Во многих отношениях нравы и обычаи сами по себе, без обращения к силе закона, могут побуждать индивидуумов к признанию общественных целей. Мораль и нравы сильнее государственного закона, когда дело касается защиты широких социальных целей. Отличаясь по сфере и силе воздействия от законов, они в принципе не противостоят им. Существенное противоречие между правовым порядком и нравственными законами возникает только там, где они порождены различными воззрениями на общественное устройство, т. е. когда они принадлежат к различным общественным системам. Тогда это противоречие носит динамический, а не статический, характер. Этические оценки "добро" или "зло"
приложимы только к целям, на которые направлено
действие. Как сказал Эпикур {Эпикур
(341--270 до н. э.) -- древнегреческий философ} Единство действий возможно, только если все конечные ценности могут быть сведены в единую шкалу ценностей. Будь это невозможным, человек не смог бы действовать, т. е. работать как существо, осознающее свое стремление к цели; ему пришлось бы все отдать на волю сил, находящихся вне его контроля. Сознательное ранжирование ценностей предшествует каждому человеческому действию. Тот, кто предпочел достичь цели А, отказываясь одновременно от достижения В, С и Д, решил, что в данных обстоятельствах для него достижение А ценнее, чем достижение всего остального. Прежде чем вопрос о предельном благе был разрешен современными исследованиями, эта проблема долгое время привлекала внимание философов. В настоящее время эвдемонизм более не доступен для нападок. В конечном итоге все аргументы, выдвинутые против него философами от Канта до Гегеля, не смогли вбить клин между концепциями нравственности и счастья. Никогда еще в истории столько интеллекта и одаренности не было поставлено на защиту неосновательной позиции. Нас изумляют масштабные труды этих философов. Можно сказать, что сделанное ими для доказательства невозможного вызывает большее восхищение, чем достижения великих мыслителей и социологов, которые сделали эвдемонизм и утилитаризм неотъемлемым достоянием человеческого разума. Конечно, их старания не были напрасны -- колоссальные усилия по обоснованию антиэвдемонистской этики были необходимы для выявления проблемы во всех ее разветвлениях и тем помогли достижению окончательного решения. Поскольку несовместимые с научным методом принципы интуиционистской этики подорваны, для каждого, кто понимает эвдемонистический характер всех этических оценок, дальнейшее обсуждение этического социализма становится излишним. Для него моральное не есть нечто лежащее за пределами единой шкалы жизненных ценностей. Для него никакие этические нормы не являются обоснованными per se {сам по себе -- лат.}. Прежде он должен иметь возможность изучить, почему эти нормы так оцениваются. Он никогда не может отвергнуть то, что признал разумным и полезным, просто потому, что норма, основанная на некоей мистической интуиции, провозглашает это безнравственным, -- при том, что ему даже не позволено исследовать смысл и цели данной нормы [Bentham, Deontology or the Science of Morality, Ed. Bowring, Vol. 1, London, 1834, P. 8 ff. <Бентам И., Деонтология, или наука о морали // Избр. соч., Т. 1, С. 6>]. Его принцип не fiat justitia, pereat mundus {да свершится правосудие, <пусть даже> погибнет мир -- лат.}, но fiat justitia, ne pereat mundus {да свершится правосудие и да не погибнет мир -- лат.}. Тем не менее, отдельное обсуждение аргументов этического социализма представляется не совсем бесполезным не только потому, что у него много приверженцев. Что намного важнее, это дает возможность показать, как за любым ходом рассуждений априористски-интуитивной этики скрываются эвдемонистские идеи и как эта система (буквально каждое ее высказывание) может привести к неосновательным представлениям об экономическом поведении и общественном сотрудничестве. Любая этическая система, построенная на идее долга, даже если она столь же строга, как кантовская, в конечном счете, так много вынуждена заимствовать у принципа эвдемонизма, что лишается собственного обоснования [Mill, Utilitarianism, London, 1863, Р. 5 ff. <Милль Д. С., Утилитарианизм..., С. 9 и след.>; Jodl, Geschichte der Ethik als philosophischer Wissenschaft, 11 Bd. S. 36 <Иодль, Указ. соч., С 14 и след.>]. В этом же смысле каждое отдельное требование априористски-интуитивистской этики носит в конечном счете эвдемонистический характер. 3. Вклад в понимание эвдемонизма Формалистская этика слишком значительно облегчает себе борьбу против эвдемонизма, когда истолковывает счастье, о котором говорит эвдемонизм, как удовлетворение чувственных желаний. Более или менее сознательно формалистская этика приписывает эвдемонизму утверждение, что все человеческие стремления направлены единственно к наполнению желудка и чувственным наслаждениям низшего рода. Не приходится отрицать, конечно, что мысли и влечения многих очень многих людей сконцентрированы на этих вещах. Но при чем же здесь социальная наука, которая просто указывает на существующий факт. Эвдемонизм не подталкивает людей -- стремиться к счастью; он просто показывает, что человека неизбежно влечет именно в этом направлении. И, в конце концов, счастье не сводится только к наслаждениям секса и хорошего пищеварения. Если энергистическая концепция морали видит высшее благо в самореализации, в полном проявлении сил, то это может рассматриваться как иное выражение того, что эвдемонисты имеют в виду, говоря о счастье. Конечно же, счастье сильного и здорового существа не заключается в ленивом безделье. Но как противопоставление эвдемонизму эта концепция несостоятельна. Какой смысл в высказывании Гюйо: "Жизнь это не расчет, а действие. В каждом живущем есть запас силы, избыток энергии, которая стремится истратить себя не ради сопутствующих ощущений удовольствия, но ради того, чтобы истратиться. Долг возникает из силы, которая неизбежно тяготеет к действию" [Guyau, Sittlichkeit ohne "Pflicht", S. 272 ff. <Гюйо Ж. М., Нравственность без обязательств и без санкции, С. 51 и след.>]. {Гюйо Жан Мари (1854--1888) -- французский философ, склонный к биологическому истолкованию нравственности и других социальных явлений. Нравственность Гюйо толковал как природное явление, порождение внутренней необходимости равновесия жизненных сил человека.} Действие всегда целесообразно, т. е. основано на размышлении и расчете. Гюйо скатился к интуиционизму, который он отвергает в других случаях, когда некое темное устремление изображается как руководитель морального поведения. Еще яснее интуитивистский элемент проявляется у Фулье в его идеях-силах (idees-forces) [Fouillee, Humanitaires et libertaires au point de vue sociologique et moral, P. 157 ff.]. {Фулье Альфред Жюль Эмиль (1838--1912) -- французский философ, социолог, этнопсихолог и этик. Он выдвинул положение об "идеях-силах" как двигателях эволюции. У Фулье в основе этики лежит, с одной стороны, стремление к благополучию, а с другой -- воля как атрибут существования всего живого.} У него то, что мыслится, стремится к реализации. Но ведь так бывает только в тех случаях, когда желанна сама цель, к которой направлено действие. А на вопрос, почему цель представляется нам благом или злом, Фулье ответа не дает. Попытки сконструировать этику, какой она должна быть, без учета природы человека и его жизни, -- занятие бесплодное. Декламации философов не изменят того, что жизнь стремится к внешнему выражению, что живое существо ищет удовольствий и избегает боли. Все сомнения в возможности признать это как основной закон человеческого действия отпадают с признанием фундаментального принципа общественного сотрудничества. То, что каждый живет и желает жить в первую очередь ради самого себя, никак не препятствует, а, наоборот, скрепляет совместную жизнь людей, поскольку высшая самореализация индивидуальной жизни возможна только в обществе и через общество. В этом и состоит истинное значение учения об эгоизме как основном законе общества. Высшее требование, которое может выдвинуть общество по отношению к индивидууму, это пожертвовать собственной жизнью. Если все другие ограничения действий, которые общество налагает на индивидуума, могут быть истолкованы как направленные к его же в конечном счете выгоде, то одно это, утверждает антиэвдемонистская этика, не может быть объяснено никакой попыткой перебросить мост между индивидуальными и общими интересами, между эгоизмом и альтруизмом. Смерть героя полезна для общества, но для него это не великое утешение. Только этика долга может разрешить эту трудность. При близком рассмотрении выясняется, что это возражение легко может быть отвергнуто. Когда существование общества под угрозой, каждый должен рискнуть чем может, чтобы избежать разрушения. Даже перспектива гибели не может в таком случае стать помехой. Ведь здесь нет выбора между продолжением прежнего образа жизни и самопожертвованием ради отчизны, общества или убеждений. Здесь нужно противопоставить неизбежность смерти, рабства или невыносимой нищеты -- возможности победоносного возвращения с поля боя. Война, которую ведут pro aris et focis {pro aris et focis -- за алтари и очаги (лат.)}, не требует жертв от индивидуума. В ней участвуют не для того, чтобы таскать каштаны из огня для других, а для сохранения собственного существования. Это, конечно, относится только к войнам, в которых люди воюют за собственное существование. Это вовсе не относится к войнам ради обогащения, как во времена феодальных раздоров. Потому-то империализм, всегда жадный до завоеваний, не может обойтись без этики, требующей от человека "готовности к жертвам на благо государства". Долгая борьба моралистов против эвдемонистического объяснения нравственности через выгоду имеет параллель в усилиях политэкономов разрешить проблемы экономической ценности иначе, чем через полезность потребительских благ. Ведь не было для политэкономов ничего проще объяснения ценности через значимость вещи для благосостояния человека, но, тем не менее, попытки такого построения концепции ценности отвергались опять и опять, и непрерывно подыскивались другие теории ценности. Причина была в трудности, которую представляет собой проблема величины ценности. Например, явным было противоречие между высокой стоимостью драгоценных камней, удовлетворяющих отнюдь не главные потребности, и низкой ценой хлеба, который удовлетворяет одну из самых важных нужд. Вода и воздух, без которых просто жить нельзя, как правило, вовсе не оцениваются. Полезность благ оказалось возможным положить в основу теории ценности, когда удалось понятийно разделить ранжирование классов потребностей и сами конкретные потребности. При этом было осознано, что шкала, по которой измеряется важность потребностей, зависит от наличия благ и от насущности конкретных потребностей [Bohm-Bawerk, Kapital und Kapitalzins, 3 Aufl., II Abt., Innsbruck, 1909, S. 233 ff. <Бем-Баверк Е., Капитал и прибыль..., С. 225 и след.>]. Утилитарно-эвдемонистическому объяснению морали пришлось преодолеть трудности не меньшие, чем те, с которыми столкнулась экономическая теория в усилиях вернуть экономические ценности к идее полезности. Никак не удавалось согласовать учение эвдемонизма с тем очевидным фактом, что нравственный поступок заключается как раз в том, что человек избегает того, что ему непосредственно полезно, и делает то, что представляется прямо вредным ему же. Либеральная философия общества первая нашла решение. Она показала, что, сохраняя и развивая общественные связи, каждый человек служит своим высшим интересам, так что жертвы, приносимые ради совершенствования общественной жизни, суть только временные жертвы. Он обменивает меньшее непосредственное преимущество ради существенно большего косвенного преимущества. Так сходятся долг и интерес [Bentham, Deontology, Vol. 1, Р. 87 ff. <Бентам И., Указ. соч., С. 107 и след.>]. В этом значение той гармонии интересов, о которой говорит либеральная теория общества. Глава XXVIII. Социализм как эманация аскетизма 1. Аскетическая точка зрения Уход от мира и отрицание жизни даже с религиозной точки зрения являются не конечными целями, к которым стремятся ради них самих, но средствами достижения определенных трансцендентных целей. {Термин "трансцендентный" введен И. Кантом для обозначения недоступного познанию и относящегося только к области веры.} Но хотя в мире верующего они выступают как средства, исследование, которое не может выйти за пределы этой жизни, должно рассматривать их как конечные цели. Ниже под аскетизмом мы будем понимать только то, что вдохновляется философией жизни или религиозными мотивами. Аскетизм (при этих ограничениях) есть предмет нашего исследования. Его не нужно путать с того рода аскетизмом, который является средством для достижения определенных земных целей. Верящий в отравляющие свойства спиртных напитков будет воздерживаться от выпивки ради собственного здоровья либо чтобы укрепить себя перед каким-то испытанием. Он не является аскетом в том смысле, который был указан выше. Идея ухода от жизни и отрицания жизни нигде не была выражена полнее и логичнее, чем в индийской религии -- джайнизме, который насчитывает 2500-летнюю историю. "Бездомность, -- говорит Макс Вебер, -- есть фундаментальный путь к спасению в джайнизме. Это означает разрыв всех земных отношений, а значит, прежде всего предполагает безразличие к переживаниям и избегание всех мирских мотивов, отказ от действия, от надежды, от желания. Человек, у которого сохранилось из всех способностей мыслить и чувствовать только сознание "Я есть Я", в этом смысле является бездомным. У него нет друзей, не возникает протеста против направленных на него действий других (например, против обычного омовения ног, которое выполняют для святых благочестивые люди). Он ведет себя в соответствии с принципом, что не надо сопротивляться злу и что состояние благодати проверяется способностью переносить боль и страдания" [Weber, Gesammelte Aufzatze zur Religionssoziologie, II Bd., Tubingen, 1920, S. 206]. Джайнизм особенно строг в запрете убийства живых существ. Ортодоксальный джайн не зажигает огонь в темное время года, чтобы не жечь мошкару, не разводит костров, чтобы не навредить насекомым, процеживает воду перед кипячением, закрывает повязками нос и рот, чтобы не вдохнуть насекомых. Дать насекомым мучить себя, не отгоняя их, есть проявление высшего благочестия [Ibid., S. 211]. Только часть общества может реализовать идеал аскетической жизни, поскольку аскет не может быть работником. Тело, истощенное упражнениями по умертвлению плоти, способно только претерпевать происходящее либо сжигать последние силы в экстатических трансах. Аскет, который возвращается к труду и хозяйству, чтобы заработать для себя минимум необходимого, тем самым предает свои принципы. История монашества, и не только христианского, подтверждает это. Монастыри из обителей аскетизма превращались порой в места утонченного наслаждения жизнью. Неработающий аскет может существовать только в том случае, если аскетизм не обязателен для всех. Поскольку он не прокормит себя без труда других, необходимо существование работников, за счет которых аскет мог бы жить [Weber, Op. cit., 1 Bd., S. 262]. Он нуждается в платящем дань мирянине. Его половое воздержание требует существования мирянина, который бы выращивал для аскета последователей. Если бы отсутствовало это необходимое дополнение, род аскетов быстро вымер бы. Аскетизм в качестве общего правила поведения означал бы конец рода человеческого. Истребление собственной жизни есть цель, к которой стремится отдельный аскет, и хотя аскетизм не обязательно требует воздержания от всех действий по поддержанию жизни -- ради скорого конца, преодоление сексуального влечения предполагает разрушение общества. Аскетический идеал есть идеал добровольной смерти. Следует ли пояснять, что ни одно общество не может быть основано на принципах аскетизма? Ведь это разрушение жизни и общества. Этот факт можно упустить из виду только потому, что аскетический идеал редко додумывают до конца и еще реже реализуют до его логического конца. В полном ладу с принципами тот аскет, который живет в лесу подобно животному, питаясь травами и корешками. Такая строгая логичность поведения редка; на деле не так уж много людей, готовых отринуть все плоды культуры, как бы уничижительно ни относились они к ним в мыслях и на словах, готовых без дальнейших церемоний вернуться к жизни оленей и коров. Св. Эгидий, один из самых ревностных спутников св. Франциска, считал пчел суетными, поскольку они слишком уж заняты накоплением запасов; он полностью одобрял только птиц, которые не запасают пищи в амбарах. {Франциск Ассизский (1182--1226) -- итальянский религиозный деятель, основатель монашеского ордена францисканцев -- нищенствующих проповедников евангельской бедности и аскетизма. Эгидий Ассизский (?--1262) -- его сподвижник. Оба канонизированы католической церковью.} Ведь птица в воздухе, животное на земле и рыба в море довольны, когда у них есть корм. Сам он считал, что живет в соответствии с теми же принципами, когда кормит себя трудом собственных рук и собиранием милостыни. Когда он вместе с другими бедняками выходил подбирать колоски во время жатвы и люди предлагали поделиться с ним урожаем, он отказывался со словами: "У меня нет амбара для хранения, и он мне не нужен". Тем не менее, этот святой извлекал свои преимущества из осуждаемого им экономического порядка. Его жизнь в бедности, возможная только внутри и благодаря этому экономическому порядку, была бесконечно лучше, чем у тех птичек и рыбок, которым он подражал. За свой труд он получал доход из запасов упорядоченного хозяйства. Если бы остальные не собирали добро в амбары, святому пришлось бы голодать. Вот если бы и для всех остальных рыбка была жизненным идеалом, святой смог бы узнать, что значит жить подобно рыбе. Критически настроенные современники осознавали это. Английский бенедиктинец Матвей Парижский сообщает, что папа Иннокентий III, выслушав св. Франциска, посоветовал ему идти жить к свиньям, на которых он похож больше, чем на человека, рыться с ними в грязи и учить их своим правилам [Glaser, Die franziskanische Bewegung, Stuttgart und Berlin, 1903, S. 53 ff., 59]. {Матвей Парижский (ок. 1200 -- после 1259) -- английский монах, автор "Большой хроники" -- важного исторического источника и ряда других работ. Иннокентий III (1160--1216) -- римский папа с 1198 г. Утверждение Матвея Парижского, приводимое Мизесом, сомнительно. Именно при Иннокентии III было положено начало нищенствующим орденам францисканцев и доминиканцев, которые он использовал как мощное орудие усиления своей власти.} Правила аскетической жизни не могут быть универсально обязательной нормой. Последовательный аскет добровольно уходит из жизни. Аскетизм, стремящийся к утверждению на земле, не доводит собственных принципов до логического конца, он останавливается в каком-то пункте. И неважно, какой софистикой он пытается это оправдать, -- достаточно, что он это делает и должен делать. Более того, он обязан терпимо относиться к неаскетам. А в итоге возникает двойная мораль, одна -- для святых, другая -- для мирян, что раскалывает этику. Жизнь профанов терпима, но не более. Действительно моральным является образ жизни монахов, какое бы имя они ни носили, которые стремятся к совершенству с помощью аскезы. Раскалывая таким образом мораль, аскетизм отказывается от своих претензий на руководство жизнью. Единственное требование, которое аскетизм может после этого предъявить мирянам, -- это маленькие даяния с их стороны, чтобы у святых душа не рассталась с телом. Идеал аскетизма вообще не знает об удовлетворении желаний. Он вне экономики в самом прямом смысле слова. Разбавленный идеал аскетизма, единственно доступный на практике мирянам общества, поклоняющегося аскетизму праведников, как и аскетизм монахов, живущих самодостаточной общиной, может ограничиваться производством только хлеба насущного, но при этом никак не враждебен крайней рационализации хозяйственной деятельности. Напротив, он требует такой рационализации. Раз уж погруженность в мирские заботы, которые приходится терпеть как средство для достижения промежуточных, но, увы, неизбежных целей, сбивает, людей с единственно праведного пути, тем важнее, чтобы эта далекая от святости деятельность была бы максимально экономичной, сводилась к минимуму. Рационализм, нужный мирянину, чтобы смягчить тяготы и сделать жизнь приятнее, делается обязательным для аскета; тяготы труда и лишения есть, конечно, ценные уроки смирения, но его прямой долг -- уделять временному не больше, чем абсолютно необходимо. С аскетической точки зрения, следовательно, социалистическое производство можно предпочесть капиталистическому только в том случае, если оно окажется более производительным. Аскетизм может требовать ограничения всякой деятельности, направленной на удовлетворение потребностей, поскольку питает отвращение к чрезмерному комфорту. Но в допускаемых им границах комфорта он не имеет оснований для отказа от требований рационального хозяйствования. 2. Аскетизм и социализм Социалистическое святое благовествование сначала игнорировало воззрения аскетизма. Социалисты яростно отвергали успокоительные обещания жизни после смерти и стремились к прижизненному раю для всех. Обещания грядущего рая, как и любые другие религиозные приманки, не интересовали их. Единственной заботой социализма было гарантировать каждому наивысший возможный уровень жизни. Его принципом было не самоотрицание, но наслаждение. Вожди социализма всегда и со всей определенностью противостояли тем, кто выказывал безразличие к росту производительности. Они подчеркивали, что для смягчения тягот труда и увеличения радости жизни нужно умножить производительность труда. Широкие жесты выродившихся наследников богатых семей во славу обаяния бедности и простой жизни никогда их не привлекали. Но при более внимательном рассмотрении мы можем обнаружить постепенное изменение социалистических установок. По мере того как бесхозяйственность социалистического производства становилась все более явной, социалисты начали менять свое отношение к желательности изобильного удовлетворения человеческих нужд. Многие даже стали проявлять свою симпатию к авторам, которые восхваляли средние века и презирали капиталистическое богатство. [Heichen, Sozialismus und Ethik // Die Neue Zeit, 38 Jahr., 1 Bd., S. 312 ff. Особенно примечательны в этом контексте замечания Шарля Жида: Charles Gide, Le Materialisme et l'Economic Politique // Le Materialisme actuel Paris, 1924.] Утверждение, что мы можем быть счастливы или даже более счастливы при меньшем количестве благ, нельзя ни опровергнуть, ни доказать. Конечно, большинство людей воображают, что у них нет материального достатка; они истощают себя напряженным трудом, поскольку ценят рост благосостояния больше, чем тот досуг, который стал бы им доступен при меньших притязаниях. Но если даже принять тот половинчатый аскетизм, о котором говорилось выше, то из него никак не следует преимущество социалистических методов производства перед капиталистическими. Если капитализм производит слишком много благ, то лекарство всегда под рукой -- достаточно уменьшить количество труда. Такими аргументами нельзя оправдать требования об уменьшении производительности труда просто за счет выбора менее плодотворного способа производства. Глава XXIX. Христианство и социализм 1. Религия и этика общественного поведения Христианство не только как церковь, но и как философия подобно любому другому оплоту духовной жизни есть продукт сотрудничества людей. Наше мышление никоим образом не есть индивидуальное явление, оторванное ото всех общественных отношений и традиций. Оно имеет общественный характер просто в силу того факта, что использует методы мышления, выработанные за тысячелетия сотрудничества бесчисленных групп людей, и мы способны овладеть этими методами только потому, что являемся членами общества. Именно по этой причине мы не можем представлять себе религию как изолированное явление. Даже мистик, забывающий действительность в благоговейной радости слияния с Богом, не только своим усилиям обязан собственной религиозностью. Не он один создавал те формы мышления, которые привели его к религии: они принадлежат обществу. Каспар Гаузер не может стать религиозным без помощи извне. {Гаузер Каспар (1812--1833) -- таинственная фигура немецкой истории. По его рассказу, с детства он был в одиночном заключении и общался только с одним человеком, приносившим ему еду и обучившим чтению и письму. В 1828 г. он был выпущен в мир, где через несколько лет был смертельно ранен неизвестным.} Религия, как и все остальное, возникла исторически и постоянно изменяется, как и всякое другое общественное явление. Но религия и сама является фактором общественной жизни в том смысле, что она под определенным углом истолковывает общественные отношения и соответственно устанавливает правила поведения. Она не может уклониться от формулирования принципов этики общественного поведения. Ни одна религия, претендующая на решение жизненных вопросов, на утешение своих последователей в самые ответственные моменты жизни, не может ограничиться истолкованием отношения человека к физическому миру, к рождению и смерти. Если она обойдет вниманием отношения между людьми, не выработает правил поведения в обществе, то оставит верующего одного, когда он начинает размышлять о недостатках общественных отношений. Религия должна отвечать на вопросы: почему есть богатые и бедные, насилие и суд, война и мир, -- иначе человеку придется искать ответы в другом месте. А ведь это будет означать утрату влияния на последователей, утрату духовной власти. Без этики общественного поведения религия мертва. Сегодня ислам и иудаизм мертвы. {Написано в начале 20-х годов. Жизнь показала, что Л. Мизес поспешил похоронить эти религии: после второй мировой войны они, особенно ислам, стали важной идейной и политической силой.} Своим последователям они не предлагают ничего, кроме ритуала. Они устанавливают правила молитвы и поста, определенные пищевые ограничения, требования обрезания и тому подобное -- и это все. Для духа они не дают ничего. Полностью обездуховленные, они учат только правовым формам и обрядам. Они замыкают верующих в клетке традиционных обычаев, а этого совершенно недостаточно для жизни; им нечего сказать душе верующих. Они подавляют духовную свободу, вместо того чтобы возвышать и спасать душу верующих. Много столетий в исламе и почти два тысячелетия в иудаизме не было новых религиозных движений. Сегодня иудаизм есть то же самое, что в период создания Талмуда. {Талмуд -- собрание догматических, правовых, этических и бытовых предписаний иудаизма, сложившихся в период с 4 в. до н. э. по 5 в. н. э.} Ислам не изменился со времен арабских завоевательных походов. {В VII--VIII вв. мусульманские племена Аравийского полуострова захватили Палестину, Сирию, Иран, вторглись в Среднюю Азию и Закавказье, завоевали Северную Африку и Пиренейский полуостров.} Их литература, их школьная мудрость продолжают повторять старые идеи и не выходят за рамки теологии. Напрасно вы здесь будет искать людей и движения того типа, какие каждое столетие появлялись в западном христианстве. Они держатся только за счет отрицания всего чужого и инородного, за счет традиционализма и консерватизма. Только лишь ненависть ко всему иностранному подвигает их время от время на крупные действия. Все возникающие здесь новые секты и новые доктрины суть не что иное, как формы войны с чужим, ранее несуществовавшим, иноверием. Религия не оказывает влияния на духовную жизнь индивидуума, если, конечно, эта духовная жизнь вообще возможна под удушающим давлением жесткого традиционализма. Особенно ясно это видно в невлиятельности клира. Уважение к священникам имеет чисто внешний характер. В этих религиях нет ничего и близко сравнимого с глубоким влиянием священнослужителей Западных церквей, хотя это влияние весьма различно в разных церквях; нет ничего сопоставимого по влиятельности с фигурой иезуита, католического епископа или протестантского пастора. Такого же рода инерционность характеризовала политеистические религии античности, и до сих пор мы можем ее наблюдать в восточном православии. Греческая церковь мертва уже более тысячи лет [ср. характеристику Восточной церкви у Гарнака: Harnack, Das Monchtum, 7 Aufl., Giessen, 1907, S. 32 ff.]. Только во второй половине XIX века она еще раз оказалась способной породить человека, в котором вера и надежда пылали как огонь. Но христианство Толстого при всех его внешних чертах русскости и востока в основе своей -- западное. Весьма характерно, что в отличие от Франциска Ассизского, сына итальянского купца, или Мартина Лютера, сына немецкого горняка, этот великий проповедник вышел из знатной семьи, которую образование и воспитание полностью вестернизировали. Русская церковь с большей легкостью порождала людей типа Иоанна Кронштадтского или Распутина. {Лютер Мартин (1483--1546) -- виднейший деятель религиозной реформации в Германии, основатель лютеранства -- одного из течений протестантской церкви. Иоанн Кронштадтский (1821--1908) -- настоятель собора в Кронштадте, протоиерей (в миру -- Иван Ильич Сергеев). Еще при жизни имел славу чудотворца. Русской православной церковью причислен к лику святых. Распутин Григорий Ефимович (1872--1916) -- сибирский крестьянин, приобретший славу прорицателя и целителя. Стал фаворитом Николая II и его супруги Александры Федоровны, убедив их, что своими молитвами он спасает больного гемофилией наследника и обеспечивает Господню поддержку царствующему дому.} У этих мертвых церквей отсутствует какое-либо определенное учение об этике. Гарнак {Гарнак Адольф (1851--1930) -- немецкий протестантский теолог и историк, глава либерального течения в лютеранстве} говорит о греческой церкви [Harnack, Op. cit., S. 33]: "Вся сфера трудовой жизни, поведение в которой должно регулироваться верой, оказалась вне ее влияния. Все предоставлено государству и обществу". В живых церквах Запада это иначе. Здесь, где вера еще не иссякла, где она не выродилась в пустую форму, сводящуюся к бессмысленным ритуалам, где, иными словами, она охватывает всего человека, есть постоянное стремление к поиску этических основ общественной жизни. Вновь и вновь верующие возвращаются к Евангелию, чтобы обновить свою жизнь в Господе и его Послании. 2. Евангелие как источник христианской этики Для верующего Святое Писание есть кладезь божественного откровения, слова Божьего к людям, которое должно быть вечно непоколебимым основанием всей религии и всего поведения, контролируемого ею. Это верно не только для протестантов, которые принимают поучения проповедников лишь в той мере, в какой они совпадают со Святым Писанием; это верно и для католиков, которые, с одной стороны, основывают авторитет Святого Писания на авторитете церкви, а с другой -- признают божественное происхождение и самого Святого Писания, поскольку верят, что оно явилось в мир через посредство Святого Духа. Дуализм здесь разрешен благодаря тому, что одна только церковь дает окончательное и достоверное, т. е. непогрешимое, толкование Святого Писания. Обе конфессии предполагают логическое и системное единство всего собрания священных книг; устранение трудностей, порождаемых таким подходом, должно быть, следовательно, одной из самых важных задач церковного учения и науки. Наука рассматривает тексты Ветхого и Нового Завета как исторические источники, к которым следует подходить так же, как и ко всем другим историческим документам. Она разрывает единство Библии и пытается для каждой из ее книг найти собственное место в истории литературы. Современные библейские исследования такого рода несовместимы с теологией. Католическая церковь уже осознала этот факт, но протестантизм все еще вводит себя в заблуждение. Бессмысленно реконструировать облик исторического Иисуса, чтобы потом на выводах этих исследований строить учение о вере и нравственности. Усилия такого рода мешают научным исследованиям текстов, поскольку отвлекают их от действительной цели и навязывают задачи, которые нельзя решить без привнесения современных ценностей. Более того, они и сами по себе внутренне противоречивы. С одной стороны, предпринимается попытка исторического объяснения Христа и христианства, а с другой -- эти исторические явления рассматриваются как незыблемая почва всех правил духовного поведения, истинных даже в совершенно изменившемся современном мире. Ведь это противоречие -- подвергнуть христианство историческому исследованию, а затем в результатах исследования искать ключ к современности. Историческая наука не может представить христианство в его "чистом виде", но только в его "первоначальном виде". Отождествить эти два образа можно, лишь закрыв глаза на две тысячи лет исторического развития [Troeltsch, Gesammelte Schriften, II Bd., Tubingen, 1913, S. 386 ff.]. Ошибка многих протестантских теологов в этом вопросе та же, что совершается частью сторонников исторической школы права, когда они пытаются использовать выводы исторического исследования юриспруденции для современного законодательства и отправления правосудия. Так не может поступать настоящий историк; такой подход -- для тех, кто отрицает все развитие и даже саму возможность развития. По сравнению с таким абсолютизмом абсолютизм многократно осужденных, "поверхностных" рационалистов XVIII века, которые подчеркивали как раз эту сторону прогресса и развития, выглядит истинно историческим воззрением. Для анализа отношений между христианской этикой и проблемой социализма непригоден подход протестантских теологов, исследования которых нацелены на выявление неизменной и недвижной "сущности" христианства. Если взглянуть на христианство как на живое, а значит, и постоянно изменяющееся явление (взгляд не столь уж несовместимый, как может показаться, со взглядом католической церкви), тогда следует с самого начала уклониться от исследования того, что же именно -- социализм или частная собственность -- больше соответствуют идее христианства. Лучшее, что можно сделать, -- это рассмотреть историю христианства с точки зрения того, выказывало ли оно когда-либо особую склонность к той или этой организации общества. Наше внимание к текстам Ветхого и Нового Завета оправдано их значимостью как источников духовного учения, но не расчетом на то, что они одни способны дать понимание того, что же такое христианство. В конечном итоге исследования такого рода должны выяснить: обязательно ли христианству -- и сейчас, и в будущем -- отвергать экономику, основанную на частной собственности на средства производства? Вопрос этот не может быть разрешен простым указанием на тот известный факт, что с самого возникновения, уже почти два тысячелетия, христианство умело ладить с частной собственностью. Ведь может случиться, что либо частная собственность, либо христианство достигнет в своем развитии точки, после которой они станут несовместимыми, если, конечно, они были совместимы прежде. 3. Первоначальное христианство и общество Первоначальное христианство не было аскетичным. Свойственное ему радостное приятие жизни отодвинуло на задний план аскетические идеалы, характерные для многих тогдашних сект (даже Иоанн Креститель жил аскетом). Только в III и IV веках аскетизм был привнесен в христианство, и с этого времени начинается аскетическое перетолкование и преобразование евангельских учений. Евангельский Христос наслаждается жизнью среди учеников, укрепляет себя пищей и питьем и разделяет людские праздники. Он так же далек от аскетизма и желания бежать от мира, как и от невоздержанности и разврата [Harnack, Das Wesen des Christentums, Leipzig, 1907, S. 50 ff.]. Только его отношение к половой жизни производит впечатление аскетического, но это можно объяснить тем же, чем мы объясняем практически все целесообразные поучения Евангелий, -- а они не предлагают других правил жизни, кроме целесообразных, -- основной концепцией, которая раскрывает нам всю идею Иисуса, концепцией Мессии. "Исполнилось время и приблизилось Царство Божие: покайтесь и веруйте в Евангелие". Таковы слова, с которыми, по Евангелию от Марка, является Спаситель [Библия. Евангелие от Марка., Гл. 1, Ст. 15]. Иисус смотрит на себя как на пророка приближающегося Царства Божия. Царства, которое согласно древнему пророчеству принесет избавление от всех земных несовершенств, а с этим и от всех хозяйственных забот. Его последователи не имели других забот, кроме как подготовиться к этому дню. Время для земных дел прошло, и теперь, в ожидании Царства, человек должен обратиться к более важным вещам. Иисус не предлагает правил земного поведения и борьбы; его Царство не от мира сего. Правила, которым он наставляет своих последователей, ценны только на краткий промежуток времени, который осталось прожить в ожидании надвигающихся великих событий. В Царстве Божием не будет хозяйственных забот. Здесь верующие будут есть и пить за столом Господа [Евангелие от Луки, Гл. 22, Ст. 30]. В близкой перспективе такого Царства все хозяйственно-политические распоряжения были бы излишними. Все указания Иисуса следует рассматривать просто как предписания переходного периода [Harnack, Aus Wissenschaft und Leben, II Bd., Giessen, 1911, S. 257 ff.; Troeltsch, Die Soziallehren der christlichen Kirchen und Gruppen, S. 31 ff.]. Это единственный способ понять, почему в Нагорной проповеди Иисус советует своим людям не заботиться о пище, питье и одежде; почему он убеждает их не сеять, не жать и не собирать в амбары, не трудиться и не прясть. Это единственное объяснение "коммунизма" его и его учеников. Этот "коммунизм" не является социализмом; здесь нет общины, которой бы принадлежали средства производства. Это только распределение потребительских благ среди членов общины -- "каждому давалось, в чем кто имел нужду" [Деяния Апостолов, Гл. 4, Ст. 35]. Это коммунизм потребительских благ, а не средств производства, это община потребителей, а не производителей. Первоначальное христианство не производит, не трудится и не собирает. Новообращенные распродают собственность и делят полученное с братьями и сестрами. Долго так жить нельзя. Подобный образ жизни можно понимать только как временный порядок, каковым он на деле и был. Ученики Христа жили в ежедневном ожидании Спасения. Свойственная первоначальному христианству идея близкого избавления постепенно преображалась в концепцию Страшного Суда, которая лежит в основе всех церковных движений, имевших сколь нибудь долгую жизнь. Бок о бок с этим преображением шло полное преобразование христианских правил жизни. Ожидание Царства Божия больше не могло служить основой поведения. Когда церковные братства начали приспосабливаться к долгой земной жизни, им пришлось отказаться от требований, чтобы прихожане воздерживались от труда и посвящали себя целиком созерцательной жизни в ожидании Царства Божия. Им не только пришлось терпеть участие их братии в трудах этого мира, но даже поощрять их к труду, поскольку в ином случае были бы разрушены условия для существования религий. Вот так христианству, которое начало с полного безразличия ко всем общественным обстоятельствам, пришлось практически узаконить общественный порядок разлагавшейся Римской империи -- раз уж процесс приспособления церкви к этим порядкам начался. Ошибкой является разговор о социальном учении первоначального христианства. Исторический Христос и его учение, как они представлены в старейших памятниках Нового Завета, вполне безразличны ко всем общественным обстоятельствам. Не то чтобы Христос не давал резкой критики существовавшего положения вещей, но он не считал стоящим делом рассмотрение того, как можно улучшить дела, а может быть, и вовсе не думал об этом. У Него Божьи заботы. Он установит свое славное и беспорочное Царство, и время это близко. Никто не знал, на что будет похоже это Царство, но одно было определенным: жизнь в нем будет беззаботной. Иисус опускает все малые детали, да они и не были важны; иудеи в его время не сомневались в том, что жизнь в Царстве Божием будет восхитительной. Пророки это предсказывали, и их слова продолжали жить в умах людей, образуя самое существо их религиозного мышления. Ожидание того, что Господь, когда придет время, сам все. преобразует, а также обращение всех действий и мыслей к будущему Царству Божию делают учение Иисуса чисто отрицательным. Он отрицает все существующее, не предлагая ничего взамен. Он доходит до разрушения всех существующих общественных связей. Ученик должен быть не просто безразличным к собственной жизни, воздерживающимся от всякой работы и избавившимся от всякой собственности. Не может быть учеником Христа тот, кто "не возненавидит отца своего и матери, и жены и детей, и братьев и сестер, а при том и самой жизни своей" [Библия. Евангелие от Луки., Гл. 14, Ст. 26]. Иисус презирает мирские законы Римской империи и предписания иудейского закона. Он способен переносить их в силу полного безразличия, как нечто только временно полезное, но не потому, что признает их истинную ценность. Его рвение в разрушении общественных связей безгранично. Побудительной силой этой чистоты и мощи полного отрицания является экстатическое вдохновение и энтузиастическая надежда на новый мир. Отсюда его страстные нападки на все существующее. Позволительно все разрушить, поскольку Бог в его всемогуществе заново создаст строительный камень для будущего порядка. Нет нужды уточнять, что же именно может быть перенесено из старой жизни в новую, потому что новый порядок возникнет без человеческого участия. Поэтому он и не требует от своих последователей никакой системы этики, никакого определенного позитивно-созидательного поведения. Лишь одна вера, и ничего кроме веры, надежды и упования -- вот все, что требуется. Не нужно вклада для созидания будущего -- это обеспечит сам Господь. В современности отчетливейшей параллелью к этой установке первоначального христианства на полное отрицание является большевизм. Большевики также хотят разрушить все существующее, поскольку они рассматривают все как безнадежно дурное. Но у них есть некие идеи, пусть неопределенные и противоречивые, об общественном строе будущего. Они требуют от своих последователей не только разрушения всего, что есть, но также и определенной линии поведения по отношению к будущему Царству, о котором они столько мечтали. В этом отношении учение Иисуса есть более полное отрицание [Pfleiderer, Das Urchristentum, 1 Bd., S. 649 ff. <Пфлейдерер А., Возникновение христианства, С. 47 и след.>]. Иисус не был социальным реформатором. Его учение было неприложимо к земной жизни, и его наставления ученикам имели значение только в свете непосредственной цели -- ждать Господа, препоясавши чресла и возжегши светильники, "дабы, когда придет и постучит, тотчас отворить ему" [Евангелие от Луки, Гл. 12, Ст. 35--36]. Именно это и обеспечило христианству триумфальное шествие по миру. Будучи безразличным к любой общественной системе, оно прошло сквозь века и не было разрушено грандиозными социальными революциями. Только по этой причине оно смогло быть религией римских императоров и англосаксонских предпринимателей, африканских негров и европейских германцев, феодальных властителей средневековья и современных промышленных рабочих. Каждая эпоха и каждая партия могли почерпнуть здесь, что хотели, поскольку ничто не привязывало христианство к определенной общественной системе. 4. Запрет процента в каноническом праве Каждая эпоха находила в Евангелиях то, что
искала, и не замечала того, чего не хотела видеть.
Лучше всего это видно на примере того, какое
чрезвычайное значение многие века церковная
мораль уделяла учению о ростовщичестве. ["Доктрина
средневекового торгового права основывается на
канонической догме о бесплодности денег и на
совокупности выводов из нее, известных под
именем законов о ростовщичестве. История
торгового права этого периода не может быть не
чем иным, как историей господства учения о
ростовщичестве в сфере права." (Endemann, Studien in der
romanisch-kanonistischen Wirtschafts- und Rechtstslehre bis gegen Ende des siebzehnten
Jahrhunderts, 1 Bd., Berlin, 1874--1883, S. 2)] Требования к
ученикам Христа в Евангелиях и других текстах
Нового Завета очень далеки от идеи отказа от
процента на отданный в ссуду капитал.
Каноническое запрещение процента есть
порождение средневекового учения об обществе и
торговле, и первоначально оно не имело ничего
общего с христианством и его учением. {В
католицизме каноническими именуются
обязательные, имеющие правовой характер нормы,
сформулированные на основе канонов-актов
церковной власти. В эпоху раннего феодализма
экономические воззрения находили свое выражение
в трудах канонистов-кодификаторов канонического
права. Канонисты резко отрицательно относились к
ростовщичеству, опираясь на утверждения
Аристотеля, содержащиеся в книге 1 его
"Политики", что "деньги не могут порождать
деньги" и из всех сфер приобретения
ростовщичество "наиболее противно природе".}
Моральное осуждение процента и запрещение
ростовщичества предшествовали христианству.
Позаимствованные у писателей и законодателей
античности, они приобрели актуальность по мере
обострения борьбы между аграриями, с одной
стороны, и поднимающимися купцами и
ремесленниками -- с другой. Только в это время
начали поддерживать эти запреты цитатами из
Святого Писания. Взимание процента осуждалось не
потому, что так требовало христианство. Скорее, в
силу общественного негодования люди старались
вычитать в христианских писаниях осуждение
ростовщичества. Новый Завет сначала показался
бесполезным для этой цели, и соответственно
обратились к Ветхому. Столетиями никому и в
голову не приходило привести хоть один отрывок
из Нового Завета в поддержку запрета. Это длилось
до тех пор, пока схоластическое искусство
толкования не преуспело в вычитывании всего
нужного в одном часто цитировавшемся месте
Евангелия от Луки, и, таким образом. Евангелие
стало оружием против ростовщичества [Библия.
Евангелие от Луки., Гл. 6, Ст. 35]. Это
произошло на исходе XII века. Впервые в
декреталиях папы Урбана III указанный отрывок был
приведен как подтверждение запрета
ростовщической прибыли. [С.10.Х. De usuris (Ш. 19) См.
Schaub, Der Kampf gegen den Zinswucher, ungerechten Preis und unlautern Handel im
Mittelalter, Freiburg, 1905, S. 61 ff.] {Урбан
III (Уберто Кривелли) был папой римским в 1185--1187
гг. Декреталиями именуются папские
постановления, имеющие форму посланий к
верующим.} Но то, значение, которое
придали словам Луки, было, конечно, совершенно
невозможно защитить: отрывок, конечно же, не
касается взимания процента. Вполне возможно, что
в контексте Значение, которое придавалось этому отрывку, резко контрастирует с тем невниманием, которое проявляют к этой теме запреты и повеления других Евангелий. Средневековая церковь намеревалась довести запрет на ростовщичество до логического предела, но она же упрямо пренебрегала тем, чтобы затратить хоть долю той же энергии на исполнение многих ясных и недвусмысленных предписаний Евангелий. В той же главе Евангелия от Луки другие вещи запрещаются или предписываются в точных и ясных словах. {В гл. 6 Евангелия от Луки приводятся заповеди Христа, в том числе: "Ударившему тебя по щеке подставь и другую; и отнимающему у тебя верхнюю одежду не препятствуй взять и рубашку"; "Всякому, просящему у тебя, давай, и от взявшего твое не требуй назад"; "Не судите, и не будете судимы; не осуждайте, и не будете осуждены...".} Но церковь никогда всерьез не пыталась, например, запретить ограбленным требовать назад свое добро, не запрещала сопротивление грабежу, не пыталась заклеймить как нехристианский акт осуждения. Такие предписания Нагорной проповеди, как не заботиться о еде и питье, точно так же никогда никто не пытался навязывать верующим [о раннем церковном законодательстве, признавшем в 1553 г. правомерность условий взимания процента, см. Zehentbauer, Das Zinsproblem nach Moral und Recht, Wien, 1920, S. 138 ff.]. {В Нагорной проповеди Христа заповедано: "Не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить... Взгляните на птиц небесных: они не сеют, не жнут, не собирают в житницы; и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их" (Евангелие от Матфея, Гл. 6. Ст. 25--26).} 5. Христианство и собственность Христианство всегда, начиная с III века, одновременно использовалось и теми, кто поддерживал социальный порядок, и теми, кто хотел его сокрушить. Обе партии с равной неискренностью обращались к Евангелиям и находили библейские пассажи в свою поддержку. То же мы видим и сегодня: христианство воюет и за, и против социализма. Но все усилия найти в учении Христа поддержку для институтов частной собственности вообще, и частной собственности на средства производства в частности, вполне тщетны. Никакое искусство толкования не способно найти в Евангелии хоть один отрывок, который мог бы быть прочитан как поощряющий частную собственность. Те, кто ищет в Библии такое указание, должны или обратиться к Ветхому Завету, или удовлетвориться оспариванием утверждения, что в общинах ранних христиан господствовал коммунизм [Pesch, Lehrbuch der Nationalokonomie, S. 212 ff.]. Никто никогда не отрицал, что еврейское общество было знакомо с частной собственностью, но это никак не помогает нам уяснить отношение первоначального христианства к этому вопросу. Столь же мало доказательств того, что Иисус одобрял экономические и политические идеи еврейской общины, как и того, что он их осуждал. Конечно, Христос говорит, что пришел не разрушить закон, но исполнить его [Евангелие от Матфея, Гл. 5, Ст. 17]. Но и эти слова следовало бы толковать в свете представлений о деятельности Иисуса в целом. Эти слова едва ли могут относиться к Моисееву закону, ориентированному на земную жизнь до наступления Царства Божия, поскольку некоторые предписания Христа резко противоречат этому закону. Точно так же то обстоятельство, что "коммунизм" первых христиан никак не свидетельствует в пользу "коллективистского коммунизма в его современном понимании" [Pesch, Op. cit., S. 212], не означает, что Христос одобрял частную собственность. [Пфлейдерер {Пфлейдерер Отто (1839--1908) -- немецкий протестантский теолог и историк религии} объясняет пессимистические суждения Иисуса о земных владениях апокалипсическими ожиданиями близкой мировой катастрофы. "Вместо того чтобы пытаться перетолковать и приспособить его ригористические высказывания по этому вопросу в смысле современной этики общественного поведения, следовало бы раз и навсегда усвоить, что Иисус был не рациональным моралистом, а исполненным энтузиазма пророком близящегося Царства Божия, и только поэтому стал источником религии спасения. Тот, кто намерен извлечь из эсхатологического энтузиазма пророка прямые и ясные указания относительно общественной морали, действует столь же мудро, как человек, желающий согреть себя и свой суп на пламени вулкана" (Pfleiderer, Das Urchristentum, I Bd., S. 651). 25 мая 1525 г. Лютер писал Данцигскому Совету: "Евангелие есть духовный закон, на основании которого нельзя управлять" (Neumann, Geschichte des Wuchers in Deutschland, Halle, 1865, S. 618; см. также Traub, Ethik und Kapitalismus, 2 Aufl., Heilbronn, 1909, S. 71).] Одно, конечно, ясно, и никакие искусные толкования не могут этого затемнить: слова Иисуса полны осуждения богачей, и апостолы в этом отношении не мягче. Богатый человек проклят за то, что богат, нищий превознесен за то, что беден. Иисус не призывал к войне против богатых и не проповедовал мести богачам только по одной причине -- возмездие осуществляет сам Господь: "Мне отмщение и аз воздам". В Царстве Божием бедные станут богатыми, а богачей заставят помучиться. Позднее толкователи пытались смягчить высказывания Христа против богатых, с наибольшей силой и полнотой явленные в Евангелии от Луки, но их осталось вполне достаточно для поддержки тех, кто подбивает мир ненавидеть богатых, подбивает его к возмездию, убийству и пожару. Вплоть до появления современного социализма ни одно движение против частной собственности в христианском мире не упустило возможности укрепиться авторитетом Иисуса, апостолов и отцов церкви, не говоря уже о тех, кто подобно Толстому сделал евангельское негодование на богатство душой и сердцем своего учения. Это злые всходы, взошедшие из слов Спасителя. Они стали причиной больших страданий и большего кровопролития, чем преследования еретиков и ведьм. Они всегда оставляли церковь беззащитной перед лицом движений, стремившихся к разрушению человеческого общества. Церковь как организация, конечно же, всегда стояла на стороне тех, кто пытался отразить коммунистические атаки. Но она не могла достичь многого в этой борьбе. Ее обезоруживали слова: "Блаженны нищие, ибо их есть Царство Небесное". Совершенно неосновательно часто повторяемое утверждение, что религиозность, в данном случае исповедание христианства, служит защитой от учений, враждебных собственности, и что она предохраняет массы от яда социального возмущения. Каждая церковь, возникшая в обществе, основанном на частной собственности, должна каким-то образом научиться с ней ладить. Но, учитывая отношение Иисуса к вопросам общественной жизни, никакая христианская церковь не могла здесь добиться ничего, кроме слабого компромисса, действенного лишь до тех пор, пока никто не настаивает на буквальном понимании слов Писания. Было бы глупостью утверждать, что просвещение, которое ослабило религиозные чувства масс, расчистило дорогу социализму. Напротив, именно сопротивление христианства распространению либеральных идей приготовило почву для разрушительной злобы современной социалистической мысли. Церковь не только ничего не сделала для прекращения пожара, она сама раздувала огонь. В католических и протестантских странах возник христианский социализм; в русской церкви зародилось учение Толстого, ни с чем несравнимое по враждебности к обществу. Конечно, официальная церковь пыталась сначала противодействовать этим движениям, но была вынуждена сдаться как раз в силу своей беззащитности перед словами Писания. Евангелия не коммунистические, не социалистические. Как мы видели, они, с одной стороны, безразличны ко всем социальным вопросам, а с другой -- полны гнева на всякую собственность и на всех собственников. Потому-то и христианское учение, уже отделенное от ситуации, в которой проповедовал Христос, -- ожидания близкого Царства Божьего, может быть крайне разрушительным. Нигде и никогда система социальной этики и общественного сотрудничества не может быть построена на учении, которое запрещает труд и любую заботу о средствах к существованию и при этом яростно выступает против богатых, проповедует ненависть к семье и оправдывает добровольное самооскопление. Культурные достижения церкви за столетия развития есть труд и заслуга церкви, но не христианства. Остается открытым вопрос, какая часть этих достижений обязана цивилизации, унаследованной от Римской империи, а какая -- идее христианской любви, которую полностью преобразило влияние философии стоиков и многих других учений античности. Социальная этика Иисуса не участвовала в этом творчестве культуры. Заслугой церкви в данном случае была только нейтрализация этого учения, что всегда удавалось лишь ненадолго. Поскольку церковь обязана утверждать Евангелия как свое основание, она должна быть всегда готова к восстанию тех своих членов, которые толкуют слова Христа совсем не так, как предписывает церковь. Из Евангелий невозможно вывести этическое учение, пригодное для общественной жизни. И не имеет значения, насколько верно они передают слова и поступки исторического Иисуса. Ведь для каждой христианской церкви эти и другие книги Нового Завета являются тем единственным фундаментом, без которого невозможно ее существование. Даже если исторические исследования с высокой степенью достоверности покажут, что исторический Иисус думал и учил о человеке и обществе иначе, чем записано в Новом Завете, для церкви его учение не изменится. Для церкви тексты Нового Завета должны навечно остаться словом Божиим. Здесь есть только два выхода. Либо церковь, как это сделало православие, складывает с себя долг по формированию этики общественных отношений, но тогда она перестает быть нравственной силой и ограничивает свою роль чисто ритуальными действиями. Либо она может выбрать путь Западной церкви, которая всегда включала в свое учение те элементы социальной этики, которые лучшим образом служили в данный момент ее интересам, ее положению в государстве и обществе. Она была союзницей феодальных властителей в борьбе против крепостных, она поддерживала рабовладельческую экономику южных штатов, но она же, как протестантская и особенно кальвинистская церковь, сделала своей этику крепнущего рационализма. {Кальвинизм (по имени основателя Жана Кальвина) -- течение в протестантизме, возникшее в XVI в., наиболее последовательно выражавшее антифеодальные настроения крепнущей буржуазии. Кальвинисты всячески приветствовали деловое преуспеяние, видя в нем свидетельство божественного покровительства.} Она поддерживала борьбу ирландских арендаторов против английских аристократов, она была вместе с католическими профсоюзами в борьбе против нанимателей и снова -- с консервативными правительствами против социал-демократии. И в каждом случае ей удавалось подкрепить свою позицию цитатами из Библии. Это также свидетельствует о том, что христианство отрекается от выработки этики общественной жизни, что и делает церковь безвольным орудием времени и моды. Но, что еще хуже, церковь пытается обосновать каждую фазу своей политики учением Евангелий, а тем самым подталкивает каждое движение к тому, чтобы искать в Писаниях опоры для своих целей. Если учесть характер используемых таким образом евангельских отрывков, ясно, что на успех обречены самые разрушительные учения. Но если нет надежды воздвигнуть на словах Евангелий христианскую социальную этику, может ли христианское учение прийти к согласию с такой социальной этикой, которая не разрушает общество, но созидает его, чтобы таким образом поставить великие силы христианства на службу цивилизации? Примеры подобного преображения известны в истории христианства. Церковь смирилась с тем, что современная наука разрушила представления Ветхого и Нового Заветов, касающиеся естествознания. Церковь больше не превращает в жаркое еретиков, утверждающих, что Земля движется, не привлекает к трибуналу инквизиции тех, кто сомневается в воскрешении Лазаря и телесном восстании из мертвых. Даже священники римской церкви могут сегодня изучать астрономию и историю эволюции. Не может ли нечто подобное случиться и в области социологии? Не может ли церковь приспособиться к принципам свободного сотрудничества в системе разделения труда? Может быть, можно истолковать в этом направлении сам принцип христианской любви? Эти вопросы интересуют не только церковь. Здесь речь идет о судьбах цивилизации. Ведь сопротивление церкви либерализму далеко не безвредно. Церковь обладает такой властью, что ее враждебности к силам, созидающим общество, хватит, чтобы разнести всю культуру вдребезги. В последние десятилетия мы с ужасом наблюдали, как она превращалась во врага общества. Ведь церковь, как католическая, так и протестантская, была не последним из факторов, ответственных за преобладание разрушительных идеалов в сегодняшнем мире. Для воцарения нынешнего смятения христианский социализм сделал не меньше, чем социализм атеистический. 6. Христианский социализм Исторически легко понять неприязнь церкви к любым формам экономической свободы и политического либерализма. Либерализм есть цветок того рационалистического просвещения, которое нанесло смертельный удар по старому положению церкви, которое дало начало современной исторической критике. Именно либерализм подорвал могущество классов, которые веками были тесно связаны с церковью. Он преобразил мир сильнее, чем когда-либо это сделало христианство. Он вернул человечность миру и жизни. Он разбудил силы, которые пошатнули основы инертного традиционализма, на котором покоились церковь и вера. Новое видение мира доставило церкви немало тревог, и она все еще не приспособилась даже к внешним проявлениям современности. Конечно, священники в католических странах спрыскивают святой водой вновь уложенные железнодорожные пути и турбины новых электростанций, но верующий христианин все еще внутренне содрогается перед работой цивилизации, которую его вера не может охватить. Церковь противостоит духу современности и самой современности. Нет ничего удивительного в том, что церковь стала союзником тех самых сил, которых гнев побуждает разрушить этот чудесный новый мир, что она лихорадочно обследовала весь свой богатый арсенал в поисках средств для отрицания труда и богатства. Религия, которая называет себя религией любви, стала религией ненависти в мире, который кажется созревшим для счастливой жизни. Возможные разрушители современного общественного строя могут рассчитывать на содействие христианства. Трагично, что как раз величайшие умы церкви, понявшие значение христианской любви и действовавшие по любви, приняли участие в этой работе разрушения. Действовавшие с истинно христианским милосердием священники и монахи, которые несли службу, и учили в госпиталях и тюрьмах, и знали все, что можно знать о страдающем и грешном человечестве, первыми попались на приманку нового евангелия разрушения общества. Только "прямая прививка" либеральной философии могла бы сделать их невосприимчивыми к заразе гнева, который обуревал их подопечных и к тому же находил оправдание в Евангелиях. Они превратились в опасных врагов общества. Из труда милосердия возникла ненависть к обществу. Многие из этих эмоциональных оппонентов либерального экономического порядка быстро остановились в своем противостоянии. Многие, однако, стали социалистами -- конечно, не атеистическими социалистами, как пролетарские социал-демократы, а христианскими социалистами. Но христианский социализм есть все тот же самый социализм. Социализм заблуждался, когда искал предтеч в общинах первохристиан. Даже "потребительский коммунизм" этих общин исчез, когда ожидания прихода Царства Божия начали отступать на задний план. И социалистические методы производства не пришли ему на смену. То, что производил христианин, было произведено индивидуумом в его собственном хозяйстве. Пожертвования в пользу бедных и на общие нужды, добровольные или принудительные, делались членами церковной общины, которые трудились самостоятельно и с помощью собственных средств производства. Отдельные случаи социалистического производства в христианских общинах первых столетий могли иметь место, но документальных подтверждений тому нет. Нам не известен ни один учитель христианства, который бы советовал поступать так. У апостолов и отцов церкви мы часто встречаем призывы вернуться к коммунизму первых церковных общин, но речь идет всегда о потребительском коммунизме. Они никогда не советовали организовать производство по-социалистически [Seipel, Die wirtschaftsethischen Lehren der Kirchenvater, Wien, 1907, S 84 ff.]. Лучшие из проповедей коммунизма принадлежат Иоанну Златоусту. {Иоанн Златоуст (3457--407) -- константинопольский патриарх с 388 по 404 г., видный идеолог раннего христианства. Его проповеди и завоеванная у горожан популярность вызвали недовольство светских властей, добившихся его низложения и ссылки. Впоследствии причислен к лику святых.} В одиннадцатой проповеди, посвященной деяниям апостолов, святой прославляет потребительский коммунизм первых христианских общин и со всем жаром красноречия призывает вернуться к нему. Он превозносит эту форму коммунизма не только с помощью ссылок на апостолов и их современников, но пытается и рационально обосновать преимущества коммунизма, как он их понимал. Если бы все христиане Константинополя передали свою собственность в общее пользование, тогда всего стало бы так много, что каждый бедный христианин был бы накормлен, и никто не страдал бы от нужды, потому что расходы на совместную жизнь намного меньше, чем расходы на семейное хозяйство. Здесь святой Иоанн обращается к аргументам вроде тех, которыми сегодня доказывают преимущество домов с одной кухней или с коммунальными кухнями, приводя расчеты, насколько экономно совместное ведение домашнего хозяйства и приготовление пищи. Расходы, говорит отец церкви, не будут велики, а обильные запасы, полученные от объединения семейных кладовых, окажутся неисчерпаемыми, особенно если милость Господня к верующим от этого возрастет. Более того, каждый вновь пришедший добавит еще что-то к общим запасам [Migne, Patrologiae Graecae, Vol. LX, P. 96 ff.]. Как раз эти трезвые детальные подсчеты показывают, что Златоуст имел в виду только потребительский коммунизм. Его замечания об экономических преимуществах объединения, вершиной которых является утверждение, что разделение на части ведет к умалению, а объединение и сотрудничество -- к возрастанию благосостояния, делают честь экономической интуиции автора. Но в целом его предложения демонстрируют полное непонимание проблем производства. Его мысли направлены исключительно на потребление. Он никогда и не задумывался над тем, что производство предшествует потреблению. Все блага следовало передать в общину. Возможно, по примеру Евангелий и Деяний апостолов Иоанн Златоуст предполагал их продажу, после чего община приступает к совместному потреблению. {Согласно Евангелию от Матфея, на вопрос юноши, что сделать доброго, чтобы обрести вечную жизнь, Иисус, в частности, ответил: "Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим" (Гл. 19, Ст. 21). Аналогичны места в Евангелии от Марка (Гл. 10, Ст. 21), в Евангелии от Луки (Гл. 18, Ст. 22). В Деяниях святых апостолов говорится об уверовавших в Христа: "Все же верующие были вместе и имели все общее: и продавали имения и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого" (Деяния, Гл. 2, Ст. 44--45)} Он не сообразил, что так не может продолжаться вечно. Он полагал, что собранные воедино миллионы -- по его оценкам, величина совокупного богатства должна была составить от одного до трех миллионов фунтов золота -- не могут быть исчерпаны. Похоже, что экономические прозрения святого шли не дальше, чем мудрость наших политиков, когда они пытаются перестроить всю национальную экономику по образцу системы благотворительной помощи. Святой Иоанн Златоуст поясняет, что миряне боятся предлагаемого им перехода к коммунизму больше, чем прыжка в море. Но и церковь вскоре отбросила коммунистические идеи. Монастырское хозяйство нельзя рассматривать как образец коммунизма. Монастыри, которым не хватало частных даяний, обычно жили за счет десятины и арендных платежей, а также других доходов от собственности. Очень редко работали сами монахи как члены чего-то вроде производственного кооператива. В целом монастырская жизнь есть идеал, доступный для очень немногих, а монастырское производство не может рассматриваться как образец для всего народного хозяйства. Социализм же есть всеохватывающая система хозяйства. Христианский социализм своими корнями не связан ни с первоначальной, ни со средневековой церковью. Только в XVI веке христианство, обновленное войнами за веру, начало воспринимать идеи социализма, хотя очень медленно и не без сильной оппозиции. Современная церковь отличается от средневековой тем, что должна непрерывно вести борьбу за существование. Господства средневековой церкви никто не оспаривал; все, что человек думал, писал или учил, имело своим источником церковь и, в конце концов, к ней же и возвращалось. Духовное наследие классической античности не смогло пошатнуть ее господства, поскольку поколение, воспитанное на феодальных концепциях и идеях, не способно было понять полное значение этого наследия. Но по мере того как развитие общества продвигалось к большей рациональности мышления и действия, попытки людей стряхнуть оковы традиционного понимания последней истины бытия становились все более успешными. Возрождение нанесло удар по корням христианства. Опиравшееся на античную мысль и античное искусство, оно прокладывало для людей пути от церкви или, по крайней мере, мимо нее. Вовсе не намереваясь идти против течения, церковники оказались самыми ревностными протагонистами нового духа. В начале XVI века никто в Европе не был более далек от христианства, чем сама церковь. Казалось, что уже пробил последний час старой веры. Но началось великое попятное движение, христианское контрнаступление. Оно шло не сверху, не от князей церкви и не из монастырей, на деле оно вообще не имело своим источником церковь. Оно надвинулось на церковь извне, из глуби народной, где христианство еще оставалось движущей силой. Нападение на умирающую церковь с целью ее реформирования шло снизу и извне. Реформация и контрреформация -- два великих воплощения церковного возрождения. Они различаются по своим началам и путям, по формам богослужения и доктринам, и прежде всего по государственным и политическим предпосылкам и достижениям, но они едины в своих конечных целях: еще раз утвердить мировой порядок на Евангелиях, восстановить веру как силу, контролирующую умы и сердца людей. Это величайшее из известных в истории восстание веры против мысли, традиции против философии. Его успехи были велики, и оно создало то христианство, которое мы знаем сегодня, нашедшее место в сердце индивидуума, контролирующее совесть и успокаивающее душу. Но полной победы не получилось. Удалось избежать поражения -- падения христианства, но противник не был уничтожен. С XVI века эта борьба идей идет, почти не прекращаясь. Церковь знает, что не может победить, пока не перекроет тот источник, из которого ее противники черпают вдохновение. До тех пор, пока рационализм и духовная свобода продолжают существовать в экономической жизни, церкви никогда не удастся стреножить мысль и направить интеллект в желаемом направлении. Чтобы преуспеть в этом, ей следовало бы сначала достичь господства во всех видах человеческой деятельности. Значит, она не может удовлетвориться положением свободной церкви в свободном государстве; она должна стремиться к господству над государством. И римское папство, и национальные церкви протестантизма сражаются за такое господство, которое позволило бы им управлять всеми мирскими делами в соответствии со своими идеалами. Церковь не может терпеть рядом с собой другой духовной власти. Каждая независимая духовная власть является вызовом ей, угрозой, которая усиливается одновременно с растущей рационализацией жизни. В условиях анархического способа производства людские души также не признают никакого господства над собой. В наши дни господство над душами может быть достигнуто лишь путем установления господства над производством. Все церкви достаточно давно смутно понимали это, но ясное осознание пришло только тогда, когда социалистическая идея, возникшая из других источников, дала о себе знать как о могущественной и быстро растущей силе. Только тогда до церкви дошло, что теократия возможна лишь в социалистическом обществе. В одном случае эта идея уже была реализована. Общество Иисуса создало замечательное государство в Парагвае, которое прелестно оживило схематические идеалы республики Платона. Это уникальное государство процветало более столетия и было насильственно разрушено внешними силами. {Иезуитское государство в Парагвае просуществовало с 1610 по 1768 г. Средства производства здесь считались принадлежащими Иезуитскому ордену, а работающие на них индейцы были низведены до положения рабов. Опасаясь чрезмерного усиления иезуитов, испанские власти изгнали орден Иисуса из всех американских владений Испании, в том числе и из Парагвая, в 1768 г.} Совершенно ясно, что иезуиты не ставили на этом обществе социальный эксперимент и что они не имели в виду создать образец для других обществ мира. В конечном счете, в Парагвае они осуществили то самое, к чему безуспешно (из-за сильного сопротивления) стремились везде. Они пытались поставить мирян, как больших детей, нуждающихся в опеке, под благодетельный контроль церкви и ее ордена. Ни орден иезуитов, ни какая-либо другая церковная организация с тех пор и не пытались повторить ничего похожего на парагвайский эксперимент. Но вполне ясно, что не только римская католическая церковь, но и все западные церкви стремятся к той же цели. Уберите препятствия, которые церковь встречает сегодня на своем пути, -- и ничто не предотвратит повторения парагвайских достижений повсюду. То, что церковь, вообще говоря, относится к социалистическим идеям отрицательно, не опровергает истинности этих аргументов. Она противостоит любому социалистическому проекту, если он не имеет своей основой церковь. Церковь против социализма, если он будет осуществлен атеистами, потому что тогда будут уничтожены основы ее существования. Но она не имеет ничего против социалистических идеалов, если устранена угроза атеизма. Прусская церковь возглавляет прусский государственный социализм, а Римская католическая церковь повсюду преследует свои особые идеалы христианского социализма. Перед лицом всех этих несомненных фактов может показаться, что на заданный прежде вопрос должен быть дан только отрицательный ответ: невозможно примирить христианство со свободным экономическим порядком, основанным на частной собственности на средства производства. Кажется, что живое христианство не способно ужиться с капитализмом. Христианство, как это уже было с восточными религиями, должно либо уйти само, либо преодолеть капитализм. А в битве против капитализма сегодня нет более эффективного боевого клича, чем социализм, -- ведь идея возвращения к средневековому общественному порядку мало популярна. Но возможно и другое развитие. Нельзя с определенностью предсказать, как изменятся в будущем церковь и христианство. Папство и католицизм сегодня сталкиваются с проблемами несравненно более трудными, чем те, которые они решали тысячелетия. Самому существованию вселенской церкви угрожает шовинистический национализм. Благодаря утонченному политическому искусству католицизм смог сохранить свои принципы во всех бурях национальных войн, но нынче он должен с каждым днем все яснее сознавать, что его выживание несовместимо с идеями национализма. Если только он не готов исчезнуть и уступить место национальным церквам, католицизм должен вытеснить национализм с помощью идеологии, которая позволит народам совместно жить и мирно трудиться. На этом пути церковь неизбежно должна стать союзницей либерализма. Никакая другая доктрина здесь не поможет. Если римской церкви суждено найти выход из кризиса, в который ее вверг национализм, она должна быть основательно перестроена. Вполне возможно, что эта трансформация и реформация церкви приведут ее к безусловному признанию незаменимости частной собственности на средства производства. В настоящее время она все еще далека от этого, как свидетельствует недавняя энциклика "Quadragesimo anno". {Папские энциклики (послания всем верующим католикам) принято именовать по первым словам. В ознаменование сорокалетия энциклики "Rerum Novarum" опубликована "Quadragesimo anno" ("В сороковой год"), повторяющая те же положения, однако содержащая более резкую критику социализма и коммунизма и в то же время положительно оценивающая идеи корпоративного строя, пропагандируемые фашизмом. Энциклика "Rerum Novarum" ("О новых вещах") -- программный документ католицизма по социально-экономическим вопросам. В нем частная собственность объявлена "божественным правом", а социализм -- "фальшивым лекарством". В то же время в этой энциклике содержатся призывы к социальным реформам во Имя справедливости, приветствуются христианские профсоюзы.} Глава XXX. Этический социализм и новая критическая философия 1. Категорический императив как основание социализма Энгельс назвал немецкое рабочее движение наследником немецкой классической философии [Engels, Ludvig Feucrbach und der Ausgang der Klassischen deutschen Philosophie, 5 Aufl., Stuttgart, 1910, S. 58 <Энгельс Ф., Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии // Маркс К., Энгельс Ф., Соч., Т. 21, С. 317>]. Было бы правильнее сказать, что немецкий (не только марксистский) социализм представляет собой результат упадка идеалистической философии. В Германии умы подчинило социализму истолкование общества, данное великими немецкими мыслителями. От кантовской мистики долга и гегелевского обожествления государства легко проследить линию к социалистической мысли; уже Фихте -- чистый социалист. {Фихте Иоганн Готлиб (1762--1814) -- представитель немецкой классической философии. Утверждение Мизеса о социализме Фихте базируется на представлениях философа о роли государства. По Фихте, государство должно обеспечивать каждому право на труд и на собственность, определять число лиц, которые должны быть заняты в той или иной отрасли производства, устанавливать цены, гарантировать сбыт товаров и вообще регламентировать производство. Однако Фихте признавал только частную собственность на средства производства.} Оживление кантианского критицизма в недавние десятилетия -- это хваленое достижение немецкой философии -- пошло на пользу и социализму. Неокантианцы, особенно Фридрих Альберт Ланге и Герман Коген, провозгласили себя социалистами. {Неокантианство -- философское направление, опиравшееся на идеи Иммануила Канта. Сложившееся в последнюю треть XIX в., оно было популярно вплоть до 30-х годов XX в. Неокантианство представлено несколькими школами. Немецкий философ и экономист Фридрих Ланге (1828--1875), один из основоположников "физиологической школы", пропагандировал неокантианское учение в рабочем движении. Марбургская школа, к которой принадлежал немецкий философ и глава марбургской школы неокантианства Коген Герман (1842--1918), развивала идеи этического социализма. Теоретическое обоснование этического социализма она видела в представлениях Канта об автономности человеческой воли. Коген был одним из создателей теории "этического социализма". Социализм рассматривался неокантианцами-марбуржцами как система этических ценностей.} Одновременно марксисты попытались найти способ примирения с новой критической школой. С тех пор как философские основания марксизма начали рушиться, умножились стремления найти в критической философии подпорку для социалистических идей. {В начале XX в. попытки соединения марксизма с неокантианством были предприняты видными теоретиками немецкой и австрийской социал-демократии, Максом Адлером (1873--1937) и Эдуардом Бернштейном (1850--1932).} Этика -- слабейшая часть системы Канта. Хотя ее наполняет жизнью могучий интеллект Канта, величие отдельных концепций не должно закрывать нам глаза на тот факт, что исходная точка его учения об этике выбрана неудачно, а фундаментальные идеи в этой области ошибочны. Отчаянные попытки подорвать корни эвдемонизма оказались безуспешными. Этические системы Бентама, Милля и Фейербаха возобладали над построениями Канта. Социальная философия его современников -- Фергюсона и Адама Смита -- прошла мимо него. {Бентам Иеремия (1748--1832) -- английский правовед и моралист, теоретик утилитаристской этики, исходящей из определяющей роли принципа полезности. По Бентаму, в основе этического поведения лежит эгоизм. Милль Джон Стюарт (1806--1873) -- английский экономист, философ и общественный деятель. Последний крупный представитель английской классической школы в политической экономии, сторонник трудовой теории стоимости. Милль в этике был сторонником утилитаризма (ему и принадлежит этот термин). Отвергая "эгоистические крайности" Бентама, он признавал важность наряду с эгоизмом альтруистических мотивов, но рассматриваемых с точки зрения полезности для рода. Фейербах Людвиг (1804--1872) -- немецкий философ-материалист. В этике Людвиг Фейербах исходил из эгоизма как сообразности поведения с природою обусловленными потребностями человека. Фергюсон Адам (1723--1816) -- шотландский философ и историк, учитель А. Смита. Основой этического поведения он считал сочетание самолюбия с человеколюбием, а руководящим моральным принципом -- "распространение счастья". Смит Адам (1723--1790) -- английский экономист, один из создателей классической школы политической экономии. По Адаму Смиту, в основе морали лежат естественные чувства. Природа человека противоречива: наряду со своекорыстием человеку свойственна альтруистическая готовность пожертвовать своими интересами ради общих.} Экономическая теория так и осталась для него чуждой. Эти недостатки сказались на всех его представлениях о социальных проблемах. В этом отношении неокантианцы добились не большего успеха, чем их учитель. Им также недостает понимания основного общественного закона -- закона разделения труда. Они видят лишь то, что распределение дохода не соответствует их идеалу, что наибольшие доходы достаются вовсе не тем, кого они считают самыми достойными, но презираемым им людям. Они видят бедных и нуждающихся, но не пытаются выяснить, связано ли это с самим институтом частной собственности или же это результат ограничения системы частной собственности. И они сходу проклинают сам по себе институт частной собственности, к которому, другие далеки от деловых забот, никогда не питали симпатий. В познании общества они остаются на уровне поверхностных и внешних явлений. К другим проблемам они подходят спокойно, но здесь их сковывает робость. И это замешательство выдает их тайную склонность. При столкновении с общественными вопросами даже людям с независимым мышлением трудно сохранять беспристрастность. Они начинают вспоминать всех, у кого дела идут лучше; они сравнивают собственную ценность и пустоту других, свою бедность и чужое богатство -- и в конечном итоге не разум, а зависть и гнев водят их пером. Это одно объясняет, почему такие острые умы, как неокантианцы, не разработали те проблемы социальной философии, к которым они одни сумели подойти. В их работах не найти даже подступа к созданию всеохватывающей философии общества. Для них не редкость безосновательная критика некоторых аспектов жизни общества, но при этом они избегают критического сопоставления важнейших систем социологии. Они выносят суждения, даже не познакомившись с достижениями экономической науки. Исходной точкой их социализма обычно является высказывание: "Поступай так, чтобы ты всегда относился к человечеству и в своем лице, и в лице всякого другого так же, как к цели, и никогда не относился бы к нему только как к средству". {Л. Мизес цитирует слова Канта из "Основ метафизики нравственности" (Кант И., Сочинения: В 6 т., М., 1965, Т. 4, Ч. 1, С. 270).} В этих словах, говорит Коген, "выражен сам глубокий и могущественный смысл категорического императива; они заключают в себе нравственную программу современности и всей будущей мировой истории" [Cohen, Ethik des reinen Willens, Berlin, 1904, S. 303 ff.]. {Категорический императив -- понятие кантовской философии, обозначающее основной закон, определяющий нравственную сторону деятельности человека. Категорический императив безотносителен как к личности, так и к обстоятельствам ее действий; безусловное следование ему составляет высший долг нравственного человека.} Похоже, что для него от этой мудрости до социализма не столь уж далеко. "Идея выбора гуманизма как цели преобразуется в идею социализма в силу определения каждого индивидуума как конечной цели, как цели в себе" [Ibid., S. 304]. Очевидно, что судьба этого этического аргумента в пользу социализма зависит от истинности предположения, что при экономическом строе, основанном на частной собственности на средства производства, все люди или часть их являются средствами, но не целью. Коген считает это совершенно доказанным. Он убежден, что в таком обществе существуют два класса людей -- владельцы и неимущие, что только первые ведут существование, достойное человека, а вторые просто играют служебную роль. Легко понять, откуда пришла эта идея. Она покоится на популярных представлениях о взаимоотношениях богатых и бедных и поддерживается марксистской философией общества, к которой Коген питает немалую симпатию, хотя прямо об этом и не говорит. ["Непосредственной целью капиталистического производства является не производство товаров, а производство прибавочной стоимости или прибыли (в ее развитой форме); не продукт, а прибавочный продукт... Сами рабочие при таком понимании представляются тем, чем они и являются в капиталистическом производстве, -- простыми средствами производства, а не самоцелью и не целью производства" (Marx, Theorien uber den Mehrwert, Stuttgart, 1905, II Teil, S. 333 f. <Маркс К., Теории прибавочной стоимости // Маркс К., Энгельс Ф., Соч., Т. 26, Ч. II, С. 607--608>). Маркс никогда не понимал, что в экономическом процессе рабочие выступают и в роли потребителей.] Коген просто игнорирует либеральную теорию общества. Он считает ее заведомо неосновательной и не желает тратить время на критику. Только отбросив либералистское понимание природы общества и функций частной собственности, можно дойти до утверждения, что в обществе, основанном на частной собственности на средства производства, человек выступает не как цель, а как средство. Ведь либералистская теория общества доказывает, что каждый отдельный человек видит во всех других прежде всего только средство достижения своих целей, но и сам он для всех других есть лишь средство достижения их целей; и наконец, в результате таких взаимных действий, в которых каждый выступает одновременно как цель и как средство, достигается высшая цель общественной жизни -- лучшее существование для каждого. Общество возможно, только если каждый, живя своей собственной жизнью, в то же время помогает жить другим, если каждый отдельный человек выступает сразу и как цель и как средство. Когда благополучие каждого является одновременно необходимым условием благополучия других, тогда противоположность между Я и Ты, между средством и целью автоматически устранена. В конце концов, именно на это должно указывать сходство общества с биологическим организмом. В органической структуре никакие части нельзя рассматривать только как средство или как цель. Согласно Канту, "понятие организма уже предполагает, что существует материя, в которой все взаимно связано как цель и средство" [Kant, Kritik der Urteilskraft, Werke, VI Bd., S. 265 <Кант И., Критика способности суждения // Сочинения, Т. 5, М., 1965, С. 91>]. Кант хорошо понимал природу органической жизни, но не видел -- и в этом он далеко отставал от великих социологов, бывших его современниками, -- что человеческое общество устроено по тому же принципу. Телеологический подход, при котором проводят различие между целью и средством, позволителен лишь, когда мы делаем предметом исследования волю и действия отдельного человека или сообщества людей. Как только мы совершаем следующий шаг и обращаем внимание на результаты этого действия для общества, такой подход становится бессмысленным. Для каждого действующего человека существует конечная цель, которую можно понять с помощью концепции эвдемонизма; в этом смысле можно сказать, что каждый человек есть цель для самого себя и цель в себе. Но применительно к обществу это высказывание не имеет никакой познавательной ценности. Здесь понятие цели столь же мало правомерно, как и применительно к другим природным явлениям. Когда мы спрашиваем, что же в обществе является целью или средством, мы в уме подменяем общество, т. е. структуру сотрудничества людей, которых сплачивает превосходство разделения труда над изолированным трудом, структурой, скованной одной волей, а потом уж спрашиваем: какова же цель этой воли? Это мышление никоим образом не социологическое, не научное, а анимистическое. Любимый аргумент Когена в пользу уничтожения частной собственности показывает полное непонимание им основной проблемы общественной жизни. Вещи, говорит он, имеют стоимость. У личности, однако, нет стоимости -- у нее есть достоинство. Рыночная цена, рыночная оценка стоимости труда несовместима с достоинством личности [Cohen, Ethik des reinen Willens, S. 305; см. также Steinthal, Allgemeine Ethik, S. 266 ff.]. Здесь мы сталкиваемся с марксистской фразеологией -- с утверждением о непригодности учения о труде как товаре. Эта фраза пробралась в тексты Версальского и Сен-Жерменского договоров в форме требования осуществить основной принцип: "Труд не должен рассматриваться как товар или как предмет торговли" [Art. 427, Treaty of Versailles; Art. 372, Treaty of Saint Germain]. {Версальский договор от 28 июня 1919 г. и Сен-Жерменский договор от 10 сентября 1919 г. -- мирные договоры стран -- победительниц в первой мировой войне соответственно с Германией и Австрией (правопреемницей Австро-Венгерской империи).} Однако довольно об этих схоластических тривиальностях. После этого нас не должно удивлять повторение Когеном всех тех лозунгов, которые тысячелетиями выдвигали против частной собственности. Он отрицает собственность, потому что собственник, установив контроль над отдельным действием, становится фактически собственником личности [Cohen, Op. cit., S. 572]. Он отрицает собственность, потому что с ее помощью у рабочего отнимают продукт его труда [Ibid., S. 578]. Очевидно, что предъявляемые кантовской школой аргументы в пользу социализма всегда возвращают нас к экономическим теориям различных социалистических авторов, и прежде всего к Марксу и следовавшим за ним "академическим" социалистам. У них нет других аргументов, кроме экономических и социологических, а эти совершенно несостоятельны. 2. Трудовой долг как основание социализма "Если кто не хочет трудиться, тот и не ешь", говорится во Втором послании к фессалоникийцам, приписываемом апостолу Павлу. [Библия. Второе послание к фессалоникийцам., Гл. 3, Ст. 10. О том, почему это письмо не принадлежит Павлу, см. Pfleiderer, Das Urchristentum, 1 Bd., S. 95 ff.] Это увещевание о необходимости трудиться обращено к тем, кто желал жить своим христианством за счет трудящихся членов церковной общины: они должны обеспечивать себя сами, не обременяя своих ближних. [В Первом послании к коринфянам ап. Павел (Гл. 9, Ст. 6--14) говорит прямо обратное, поддерживая право апостолов жить за счет общины.] Вырванное из контекста, это изречение давно уже истолковывается как отрицание нетрудового дохода. [Тодт {Тодт Рудольф (1839--1887) -- активный участник немецкого христианского (протестантского) социального движения, один из основоположников "Союза социальных реформ"} являет хороший пример того, как пытаются использовать тексты Нового Завета для подкрепления лозунгов антилиберальных движений (Todt, Der radikale deutsche Sozialismus und die christliche Gesellschaft, 2 Aufl., Wittenberg, 1878, S. 306--319).] Здесь дано в самой краткой форме издавна превозносимое правило морали. Ход мыслей, который привел людей к этому принципу, можно проследить по высказыванию Канта: "Человек может быть сколь угодно изобретателен, но он не может навязать природе другие законы. Либо он должен работать для себя, либо за него будут работать другие, и тогда его досуг отнимет у других столько же довольства, сколько нужно, чтобы его собственное было выше среднего" [Kant, Fragmente aus dem Nachlass, Samtliche Werke, herg. von Hartenstein, VIII Bd., Leipzig, 1868, S. 622]. Важно отметить, что Канту приходится обосновывать косвенное отрицание частной собственности, скрытое в этих словах, с помощью утилитаристского или эвдемонистического подхода. Фактически он утверждает, что в результате существования частной собственности некоторым приходится работать больше, а другие бездельничают. Я не опровергаю утверждение, что частная собственность и имущественное неравенство отнимают у одних в пользу других, но повторяю, что при общественном строе, где такое не позволено, выпуск продукции сократится настолько, что производство на душу окажется меньшим, чем доход неимущего работника при строе частной собственности на средства производства. Кантовская логика разваливается, как только опровергается утверждение, что досуг имущих оплачен дополнительным трудом неимущих. Такой направленный против частной собственности этический аргумент отчетливо демонстрирует, что все моральные оценки экономических отношений покоятся в конечном счете на политико-экономическом суждении об эффективности -- и ни на чем другом. Отрицать только на "моральном основании" институт, который не был рассмотрен с утилитарной точки зрения, -- это, если быть добросовестным, далеко неэтично. В действительности во всех случаях, когда мы имеем дело с предосудительной оценкой, оказывается, что на деле она связана с воззрениями на экономические причинные взаимосвязи. Этого не заметили только потому, что частную собственность защищали от морализаторской критики с помощью неадекватных аргументов. Вместо доказательства общественной эффективности частной собственности взывали к праву собственности или доказывали, что собственник также не тунеядец, поскольку приобретает собственность трудом и работает для ее сохранения, и т. п. Неубедительность этих аргументов очевидна. Абсурдно ссылаться на существующие законы, когда вопрос стоит -- каким должен быть закон. Нелепо указывать на нынешний или прошлый труд собственника, когда речь идет не о том, оплачивать эту работу или нет, а о том, существовать ли вообще частной собственности на средства производства, и если да, то может ли быть терпимо неравенство собственности. Обсуждение, справедлива или нет такая-то цена с этической точки зрения, совершенно невозможно. Этическое суждение должно сделать выбор между общественным устройством, основанным на частной собственности на средства производства, и таким, которое основано на общественной собственности. Когда этот выбор сделан, -- а в рамках эвдемонистической этики он может основываться только на оценке достижений каждого вида общественного устройства, -- становится невозможной оценка тех или иных сторон выбранного порядка как аморальных. То, что необходимо для существования общественного строя, и является моральным, а все остальное -- аморально. 3. Равенство доходов как этический постулат Мало что существенное может быть сказано как в поддержку, так и в отрицание требования о равенстве доходов. Этот этический постулат допускает только субъективную оценку. Наука может только показать, во что обойдется выполнение этого требования, какими целями нам придется пренебречь ради достижения одной этой. Большинство людей не осознают, что требуемое ими равенство доходов может быть достигнуто только за счет отказа от других целей. Они воображают, что сумма доходов останется неизменной, и все, что нужно, -- это более равномерное, чем при господстве частной собственности, распределение. Богатые откажутся от излишков, а бедные получат недостающее, и все доходы сравняются со средними по величине. А сам средний доход при этом не изменится. Нужно ясно понимать, что в основе этой идеи лежит ошибочное предположение. Было ясно показано, что каким бы путем ни двигаться к равенству доходов, результатом всегда и везде будет очень существенное сокращение национального дохода, а значит, и среднего дохода. Доказанность этого факта изменяет всю постановку вопроса. Ведь теперь нам нужно сделать выбор: принимаем ли мы равное распределение доходов при сокращении среднего дохода или мы выбираем неравенство при более высоком среднем доходе. Решение, конечно, будет зависеть от оценки сокращения среднего дохода в результате перераспределения. Если мы придем к выводу, что средний доход станет меньше, чем сегодня получают беднейшие, наше отношение будет, наверное, иным, чем отношение большинства социалистов сентиментального типа. Если для нас убедительно то, о чем говорилось во второй части этой книги: очень низкая производительность социалистического труда и особенно невозможность экономического расчета при социализме, тогда этот аргумент этического социализма также рассыпается. Неправда, что бедность существует из-за богатых. [Так же, например, представлял себе это дело Фома Аквинский (Schreiber, Die volkswirtschaftlichen Anschauungen der Scholastik seit Thomas von Aquin, Jena, 1913. S. 18).] Если на смену капитализму придет строй равенства доходов, все станут беднее. Хоть это и звучит парадоксально, бедные получают то, что имеют, только благодаря богатым. Если мы отвергаем аргумент в пользу трудовой повинности, в пользу равенства имущества и доходов, аргумент, основанный на утверждении, что досуг и богатство некоторых существуют за счет дополнительного труда и бедности остальных, тогда исчезают все основания у этих этических постулатов, кроме, пожалуй, одного морального негодования. Никто не должен бездельничать, когда я вынужден работать; никто не должен быть богатым, если я беден. Вот так вновь и вновь мы убеждаемся, что в основе всех социалистических идей лежит возмущение. 4. Этико-эстетическое осуждение мотива прибыли Другой упрек, который философы бросают капитализму состоит в том, что он поощряет разрастание приобретательского инстинкта. Человек, говорят они, перестает быть господином экономического процесса и становится его рабом. Забытым оказывается, что хозяйственная деятельность нужна только для удовлетворения нужд и является средством, а не самоценной целью. Жизнь изнашивает себя в постоянной спешке и погоне за богатством, и у человека не остается времени для внутреннего сосредоточения и настоящих наслаждений. Свои лучшие силы он истощает в ежедневной борьбе на арене свободной конкуренции. Эти идеологи мысленно всегда в отдаленном, романтически преображенном прошлом. Они видят дивные картинки, рождающие глубокую нежность к прошлому: римского патриция в его загородном поместье, мирно размышляющего над проблемами стоицизма {стоицизм -- философская школа, зародившаяся в Древней Греции и приобретшая большую популярность (особенно этические ее представления) у римской знати I в. нашей эры}; средневекового монаха, который делит свое время между молитвами и чтением античных авторов; князя времен Возрождения, при дворе которого собираются художники и ученые; знатную даму периода Рококо, в салоне которой энциклопедисты развивают свои идеи. {Рококо -- стиль европейского искусства, получивший распространение в XVIII в., для которого характерны изящество и декоративность. Энциклопедисты -- видные философы и ученые, создатели вышедшей во Франции в 1751-1780 гг. "Энциклопедии, или Толкового словаря, наук, искусств и ремесел" (17 томов текста и 11 томов иллюстраций). В числе энциклопедистов -- Д. Дидро, Ж. Л. Д'Аламбер, Ф. Вольтер, Ж. Ж. Руссо и другие выдающиеся мыслители.} Отвращение к настоящему только углубляется, когда мы от этих видений обращаемся к малокультурной жизни наших современников. Слабость этого аргумента, обращенного скорее к чувствам, чем к уму, не только в том, что сравниваются лучшие цветы былого и сорняки современной жизни. Ведь ясно, что непозволительно сопоставлять жизнь Перикла или Мецената с жизнью обычного человека улицы. {Перикл (ок. 490--429 до н. э.) -- видный афинский государственный деятель и военачальник, проведший ряд демократических преобразований и всячески поощрявший развитие культуры. При нем осуществлено строительство великолепных общественных зданий (Парфенон, Одеон, Пропилеи и др.). Меценат Гай Цильний (ок. 70--8 до н. э.) -- приближенный римского императора Августа. Прославился как богатый покровитель деятелей литературы и искусства, в том числе Вергилия и Горация, что сделало его имя нарицательным.} Но так же неверно и то, что суета современной деловой жизни убила в человеке чувство прекрасного и возвышенного. Богатство "буржуазной" цивилизации не растрачено на одни чувственные удовольствия. И если нужны этому доказательства, достаточно напомнить, как в последние десятилетия стала популярной серьезная музыка, особенно в тех классах населения, которые захвачены вихрем деловой жизни. Никогда прежде искусство не затрагивало сердца столь большого круга людей. То, что грубые и вульгарные развлечения больше привлекают массы, чем благородные формы досуга, вовсе не исключительная особенность современности. Так было во все времена. Мы можем быть уверены, что и в социалистическом обществе далеко не всегда будет господствовать хороший вкус. У современного человека перед глазами возможность разбогатеть трудом и предприимчивостью. В более косной экономике прошлого это было не так легко. Люди были богаты или бедны от рождения и сохраняли свое положение до конца жизни, если только не случалось что-то неожиданное, чего нельзя было изменить собственным трудом и предприимчивостью. На вершинах жизни пребывали богачи, на дне -- бедняки. В капиталистическом обществе все не так. Богатым стало легче обеднеть, а бедным -- обогатиться. А поскольку судьба индивидуума или его семьи не предопределена от рождения, как прежде, он старается изо всех сил подняться вверх. Он никогда не будет достаточно богат, поскольку в капиталистическом обществе никакое богатства не вечно. В прошлом феодальному владыке ничто не могло повредить. Когда его земли теряли плодородие, его доходы сокращались, но, пока он не влезал в долги, собственность оставалась при нем. Капиталист, отдающий капитал в ссуду, и производящий предприниматель испытываются рынком. Кто неразумно вкладывает деньги или производит слишком дорого, разоряется. Даже вложенному в землю богатству не избежать влияния рынка; аграрий также должен производить по-капиталистически. Сегодня человек должен приобретать или становиться бедным. Те, кто желает устранить это принуждение к труду и предприимчивости, должны понимать, что вместе с тем буду! похоронены основы нашего благосостояния. В 1914 г. земля кормила гораздо больше обитателей, чем когда-либо прежде, и они все жили гораздо лучше своих предков только в силу господства стремления к приобретательству. Если деловую активность современности сменить на созерцательную жизнь прошлого, бесчисленные миллионы будут обречены на голодную смерть. В социалистическом обществе напряженная деятельность современных учреждений и заводов сменится господской праздностью правительственных канцелярий. Место энергичного предпринимателя займет государственный чиновник. Выиграет ли от этого цивилизация? Действительно ли бюрократ представляет собой лучший образец человека, и следует ли нам любой ценой стремиться к тому, чтобы люди его типа заселили землю? Многие социалисты с восторгом описывают преимущества общества, созданного бюрократами, над обществом, в котором господствует погоня за прибылью [Ruskin, Unto this last, Tauchnitz-Ed., P. 19 ff.; Steinbach, Erwerb und Beruf, Wien, 1896, S. 13 ff.; Otto Conrad, Volkswirtschaftspolitik oder Erwerbspolotik?, Wien, 1918, S. 5 ff.; Tawney, The Acquisitive Society, P. 38]. В обществе второго типа (Acquisitive Society) {Acquisitive Society -- общество стяжателей (англ.)} каждый гонится только за собственной выгодой; в обществе служащих (Functional Society) {Functional Society -- общество функционеров (англ.)} каждый выполняет свой долг на службе общему. Повышенная оценка чиновного мира, если только она не основывается на ложном понимании системы частной собственности, есть просто новая форма презрения к усердному труду, которое всегда было свойственно феодальным владыкам, воякам, литераторам и богеме. 5. Культурные достижения капитализма Внутренняя неясность и неистинность этического социализма, его логическая непоследовательность и недостаток научной критики характеризуют его как философию периода упадка. Это духовное выражение упадка европейской цивилизации на рубеже XIX и XX столетий. В результате немецкий народ, а с ним и все человечество были стянуты с высот расцвета к глубочайшему унижению. Упадок создал интеллектуальные и духовные предпосылки для мировой войны и большевизма. Теории насилия торжествовали в великой резне 1914--1918 гг., завершившей период высочайшего расцвета культуры, который только знала мировая история. В этическом социализме соединяются дурное понимание механизма общественного сотрудничества с негодованием тех, кому не повезло. Неспособность разобраться в трудных проблемах общественной жизни придает его сторонникам самоуверенность и беззаботность, с которыми они рассчитывают играючи решить любые вопросы. Гнев придает силы их возмущению, которое всегда уверено в поддержке единомышленников. Пламенность риторики возникает из-за романтического восторга перед необузданностью. В каждом человеке живет глубоко укорененное желание освободиться от социальных уз; это желание слито с тоской по жизни, в которой возможно полное удовлетворение всех вообразимых нужд и потребностей. Разум учит не давать воли страсти к необузданности, если мы не хотим впасть в тягчайшую нищету, и напоминает нам, что полное удовлетворение желаний недостижимо. Там, где разум не справляется со своим делом, открывается дорога романтизму. Антиобщественное в человеке празднует победу над разумом. Романтическое движение, обращающееся прежде всего к воображению, богато словами. Цветистая прелесть его мечтаний не сравнима ни с чем. Его восторги порождают бесконечные страстные желания, его проклятия возбуждают омерзение и презрение. Оно устремлено к преображенному мечтой прошлому, которое воспринимается без должной трезвости, и к сверкающему всеми красками будущему. Мир между прошлым и будущим романтики рассматривают трезво -- как трудовую повседневность буржуазного общества, к которому они испытывают только ненависть и отвращение. В буржуазии они видят воплощение всего постыдного и мелочного. Скитаясь по миру, романтики славят все времена и страны, но никогда не проявляют понимания и уважения к своему времени и к своей стране. Великие творческие умы, кого мы почитаем как классиков, понимали глубокое значение буржуазного строя жизни. У романтиков отсутствовало это понимание. Они слишком дети, чтобы петь песни буржуазного общества. Они высмеивают буржуа, презирают "мораль лавочников", свысока относятся к законам. Их исключительно острое зрение замечает все недостатки повседневной жизни, и они проворно объясняют их пороками общественных установлении. Ни один романтик не почувствовал величия капиталистической культуры. Сравните достижения этой "морали лавочников" с достижениями христианства! Христианство мирилось с рабством и полигамией, практически канонизировало войну, во имя Божие сжигало еретиков и опустошало целые страны. Многократно осмеянные "лавочники" уничтожили рабство и крепостничество, дали женщинам равные с мужчиной права, провозгласили равенство перед законом, свободу мысли и слова, объявили войну войне, искоренили пытки и смягчили жестокость наказаний. Какая другая культурная сила может гордиться подобными достижениями? Буржуазная цивилизация создала и распространила благосостояние, по сравнению с которым придворная жизнь прошлых веков кажется убогой. Перед войной даже необеспеченные классы городского населения были способны достойно кормить и одевать себя, имели возможность приобщения к подлинному искусству, могли совершать путешествия. Романтики, однако, видели только самых обездоленных, дела которых шли нехорошо потому, что буржуазная цивилизация еще не создала достаточного богатства, чтобы обеспечить благосостояние всех. Романтики и видеть не желали тех, чье положение было уже благополучным. [Английская экономическая история разрушила легенду, согласно которой рост фабричной промышленности -- причина ухудшения положения рабочих классов. См.: Hutt, The Factory System of the Early 19th Century // Economica, Vol. VI, 1926, P. 78 ff.; Clapham, An Economic History of Modern Britain, 2nd ed., Cambridge, 1930, pp. 548 ff.] У них перед глазами неизменно стояли только грязь и убожество, унаследованные капиталистической цивилизацией у прошлых веков, но не то ценное, чего уже удалось достичь. Глава XXXI. Экономическая демократия 1. Лозунг "экономическая демократия" Один из важнейших аргументов в пользу социализма выражен лозунгом "самоуправление в промышленности". Как в политической сфере королевский абсолютизм был сломлен правом народа на участие в принятии решений, а затем и всевластием народа, так и абсолютизм собственников средств производства и предпринимателей должен быть устранен натиском рабочих и потребителей. Демократия неполна, пока каждый должен подчиняться диктатуре собственников. Худшая черта капитализма, конечно, не разница в доходах; еще менее терпима та власть над согражданами, которую неравенство доходов дает капиталисту. Пока сохраняется такое положение дел, не может быть и речи о свободе личности. Народ должен взять управление хозяйством в свои руки так же, как он взял в свои руки управление государством. ["Основной порок капиталистической системы - это не бедность бедных и не богатство богатых: это та власть, которую простая собственность на средства производства дает в руки относительно малой части общества для распоряжения деятельностью их сограждан, власть над духовными и физическими условиями развития будущих поколений. При такой системе личная свобода делается для больших масс людей не чем иным, как насмешкой... Социалисты стремятся к тому, чтобы заместил" эту диктатуру капиталистов самоуправлением народа и во имя народа во всех отраслях и службах, которыми живет народ." (Sidney and Beatrice Webb, A Constitution for the Socialist Commonwealth of Great Britain, London, 1920, P. XIII ff.); см. также Cole, Guild Socialism Re-stated, London, 1920. P. 12 ff. <Коль Г., Гильдейский социализм, М., 1925, С. 13 и след.>] В этой аргументации есть двойная ошибка. Неверно освещаются, с одной стороны, природа и функции политической демократии, а с другой -- природа общественного строя, основанного на частной собственности на средства производства. Мы уже показали, что существо демократии не в избирательной системе, не в спорах и резолюциях национальных советов, не в любого сорта комитетах, назначаемых этими советами. Это всего лишь технические вспомогательные средства политической демократии. Ее реальная функция -- миротворчество. Демократические институты делают волю народа действенной в политических вопросах тем, что администраторы и руководители избираются людьми. Таким образом устраняется та опасность для мирного развития общества, которая может возникнуть из столкновения воли руководителей и общественного мнения. Гражданская война предотвращается деятельностью институтов, которые облегчают мирную смену лиц, стоящих у руководства. В условиях частной собственности на средства производства успешное хозяйствование обходится без особых установлении, подобных созданным политической демократией для достижения успеха. Свободная конкуренция делает все, что нужно. Все производство направляется волей потребителя. Как только оно перестает удовлетворять запросам потребителей, оно становится нерентабельным. Свободная конкуренция делает производителя послушным воле потребителей, а также в случае необходимости передает средства производства из рук тех, кто не желает или не способен удовлетворить спрос, в руки тех, кто может лучше управлять производством. Потребитель -- господин производства. С этой точки зрения капиталистическое общество является демократией, в которой каждый грош является бюллетенем для голосования. Это демократия с постоянно действенным безусловным мандатом на отзыв своих депутатов. ["Рынок -- это демократия, в которой каждое пенни дает право голоса" (Fetter, The Principles of Economics, P. 394, 410; см. также Schumpeter, Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung, Leipzig, 1912, P. 32 ff.). Нельзя все извратить сильнее, чем сказав: "Чье мнение меньше весит при строительстве дома в большом городе, чем мнение будущего нанимателя?" (Lenz, Macht und Wirtschaft, Munchen, 1915, S. 32). Каждый строитель пытается строить так, чтобы наилучшим образом удовлетворить желания будущих жильцов, чтобы можно было сбыть жилье как можно быстрее и прибыльнее. См. также поразительные замечания в кн.: Withers, The Case for Capitalism, London, 1920, P. 41 ff.] Это потребительская демократия. Производители сами по себе не имеют возможности выбирать направление производства. Для предпринимателя это столь же верно, как и для рабочего; оба должны покориться в конечном итоге желаниям потребителя. Иначе это и быть не может. Люди производят не ради производства, но ради тех благ, которые пригодны для потребления. В экономике с разделением труда производитель есть простой агент общества, и как таковой он должен ему покорствовать. Только потребителю дана власть командовать. Предприниматель, таким образом, является не более чем надсмотрщиком на производстве. У него, конечно, есть власть над работниками. Но он не может использовать ее произвольно. Он должен употреблять ее в соответствии с требованиями той производственной деятельности, которая отвечает желаниям потребителей. Отдельному наемному работнику, чье понимание замкнуто узким горизонтом ежедневной работы, решения предпринимателя могут показаться произволом, капризом. С близкого расстояния нельзя охватить общую картину и план всей деятельности. Если распоряжения предпринимателя ущемляют сиюминутные интересы рабочего, ему эти решения представляются, конечно, необоснованными и произвольными. Он не понимает, что предприниматель работает в строгих рамках закона. Конечно, предприниматель волен дать полную свободу своим причудам: по капризу выгонять рабочих, тупо держаться за устаревшие процессы, сознательно выбирать неподходящие методы производства и позволять себе действовать вопреки запросам потребителей. Но ему приходится платить за это, и если он вовремя не остановится, то будет перемещен в результате утраты собственности на такую позицию, где больше не сможет вредить. Нет нужды в особых методах контроля за его поведением. Рынок следит за ним строже и точней, чем могло бы это делать любое правительство или другой общественный орган. [Люди совершенно упускают все это из виду, когда подобно Веббам говорят, что рабочий должен подчиняться "безответственным хозяевам, устремленным только к собственным удовольствиям или выгоде" (Sidney and Beatrice Webb, A Constitution for the Socialist Commonwealth of Great Britain, P.XII).] Любая попытка заменить это правление потребителей господством производителей абсурдна. Это бы противоречило всем целям производства. Мы уже рассматривали детально пример такого рода, причем самый важный для современных условий, -- пример синдикалистской экономики. Что верно для нее, справедливо и для всякой политики производителей. Бессмысленность стремлений достичь "экономической демократии" через создание институтов синдикалистской экономики становится ясной, если мы вообразим, что эти институты перенесены в область политики. Например, было бы демократичным, если бы от судьи зависело, как и какой закон применить? Если бы солдаты решали, кому и как командовать армией? Нет, судьи и солдаты должны подчиняться закону, чтобы государство не выродилось в произвольную деспотию. Лозунг "промышленное самоуправление" есть чудовищнейшее извращение природы демократии. И в социалистическом обществе не рабочие отдельных отраслей решают, что следует делать в их области хозяйствования, но высшее государственное руководство. Если бы это было не так, мы бы имели не социализм, а синдикализм, а между этими двумя никакой компромисс невозможен. 2. Потребитель как решающий фактор производства Людям стараются внушить, что ради собственных интересов предприниматели ведут производство вопреки интересам потребителей. Предприниматели, не колеблясь, могут "создать или усилить потребность публики в вещах, дающих простое чувственное удовольствие, но при этом вредных для физического или духовного здоровья". Говорят, например, что борьба с пьянством, этой ужасной угрозой национальному здоровью и благополучию, затруднена противодействием "сплоченных интересов алкогольного капитала всем попыткам сократить алкоголизм". Привычка к курению не "расширялась бы так быстро среди молодежи, если бы не было экономической заинтересованности в ее распространении". "Предметы роскоши, всякого рода мишура и побрякушки, дрянные и непристойные публикации" сегодня "навязываются публике ради прибыли производителей или надежд на нее" [Messer, Ethik, Leipzig, 1918, S. 111 ff.; Natorp, Sozialidealismus, Berlin, 1920, S. 13]. Все знают, что широкомасштабное вооружение государств, да и сами войны приписываются махинациям "военно-промышленного капитала". Предприниматели и капиталисты в поисках возможностей капиталовложений обращаются к тем отраслям производства, где рассчитывают получить наибольшую прибыль. Они стремятся оценить будущие потребности потребителей, чтобы иметь общее представление о спросе. Поскольку капитализм постоянно создает новое богатство для всех и при этом расширяет круг удовлетворяемых желаний, потребители часто получают возможность насытить прежде не замечавшиеся потребности. Поэтому особой задачей капиталистического предпринимателя становится выявление новых желаний. Вот что имеют в виду, когда говорят, что капитализм создает потребности, чтобы потом удовлетворять их. Природа того, что желанно потребителю, не заботит предпринимателя и капиталиста. Они просто его послушные слуги, и не их дело предписывать, чем ему услаждать себя. Если он хочет, ему дадут яд и смертельное оружие. Но ничто не может быть ошибочнее предположения, что товары, служащие дурным или опасным целям, приносят дохода больше, чем те, которые служат благим целям. Наивысшую прибыль приносит то, что пользуется наивысшим спросом. Охотник за прибылью производит те товары, по которым существует наибольшая диспропорция между спросом и предложением. Конечно, раз уж он вложил свой капитал, он заинтересован в возрастании спроса. Он пытается расширить. продажу. Но он не может сколько-нибудь долго противодействовать изменению потребностей потребителя. Точно так же не может он долго получать слишком большую выгоду от роста спроса на его продукт, поскольку другие предприниматели устремляются в его отрасль и в результате снижают прибыль до средней величины. Человечество потребляет алкоголь не потому, что существуют пивоварни и заводы по производству водки и вин; люди варят пиво, гонят спирт и изготовляют вина ради спроса на алкогольные напитки. "Алкогольный капитал" виноват в пьянстве не больше, чем в сочинении пьяных песен. Капиталист, имеющий долю в пивном и спиртоперегонном заводах, предпочел бы долю в издательской фирме, выпускающей религиозную литературу, если бы спрос на "спиритуальное" был больше, чем на спиртное. Не "военно-промышленный капитал" создал войны -- это войны породили "военно-промышленный капитал". Не Крупп и не Шнейдер подстрекают народы к войне, а империалистически настроенные писатели и политики. {Круппы -- семейство немецких промышленных магнатов, владельцев военно-металлургического комплекса. Шнейдеры -- семейство французских промышленников и финансистов, чьи капиталы вложены в металлургические предприятия и заводы тяжелого машиностроения, выполняющие в первую очередь военные заказы.} Если кто-то считает алкоголь и никотин вредными, пусть воздерживается. Пусть попытается, если хочет, обратить к воздержанию своих ближних. Ясно одно, в капиталистическом обществе, основным принципом которого является самоопределение и ответственность каждого индивидуума, он не может никого против воли принудить к отказу от никотина и алкоголя. Если невозможность подчинить других своим желаниям вызывает у него сожаление, пусть утешится хотя бы той мыслью, что и сам он защищен от командования других. Некоторые социалисты упрекают капитализм в первую очередь в непомерном разнообразии благ. Вместо изготовления однообразной продукции с громадной экономией на масштабах производства идет выпуск сотен и тысяч разновидностей каждого товара, что сильно удорожает изделия. Социализм будет выпускать в оборот только однообразные товары; он унифицирует производство и тем самым увеличит производительность народного труда. Одновременно социализм уничтожит изолированные домашние хозяйства и вместо них заведет коммунальные кухни и меблированные комнаты, как в отелях. Это также увеличит общественное богатство, устранив растрату труда в крошечных кухнях, которые обслуживают всего нескольких потребителей. Во многих социалистических писаниях, особенно у Вальтера Ратенау, эти идеи разработаны очень детально [Rathenau, Die neue Wirtschaft, Berlin, 1918, S. 41 ff. <Ратенау В., Новое хозяйство, М., 1923, С. 42 и след.>; см. также критические выводы в кн.: Wiese, Freie Wirtschaft, Leipzig, 1918]. {Ратенау Вальтер (1867--1922) -- германский политический деятель, публицист и промышленник. По своим убеждениям Ратенау был скорее не социалистом, а сторонником реформирования общества в направлении организованного капитализма.} При капитализме каждый покупатель должен решать, предпочитает ли он дешевые товары однообразного массового производства или более дорогие вещи, произведенные специально на вкус отдельных людей или небольших групп. Конечно, существует тенденция к постепенной унификации и стандартизации производства и потребления. Исходные материалы производственных процессов с каждым днем становятся более стандартизированными. Разумный предприниматель быстро обнаруживает преимущества стандартного сырья: меньше издержки на приобретение, большие возможности замены, а приспособляемость к другим производственным процессам выше, чем у нестандартизованных продуктов. Стандартизация орудий производства сегодня затрудняется прямой или косвенной социализацией многих предприятий. Поскольку они лишены рационального управления, нет упора на преимущества стандартизации. Армейское начальство, администрация отделов муниципального строительства, сотрудники управления государственными железными дорогами и другие чиновники с бюрократическим упрямством сопротивляются внедрению типовых материалов и оборудования. Унификация машин, фабричного оборудования и полуфабрикатов не требует перехода к социализму. Напротив, капитализм для своих нужд делает все это быстрее. Иначе обстоит дело с потребительскими благами. Если человек потворствует своему особому, личному вкусу вместо того, чтобы использовать однообразные продукты массовой промышленности, и готов за это платить дополнительно, нельзя счесть его неправым. Если мой друг предпочитает одеваться, содержать квартиру и питаться по-своему, а не как все остальные, кто может его в этом упрекнуть? Ведь его довольство определяется удовлетворением его желаний; он желает жить как ему нравится, а не как я или другие жили бы на его месте. Имеют значение здесь его ценности и предпочтения, а не мои и не других людей. Может быть я сумею доказать ему, что суждения, на которых он основывает свою шкалу ценностей, ложны. Например, я смогу продемонстрировать, что выбранная им пища имеет меньшую питательную ценность, чем он думает. Но если в основе его ценностей лежат не ложные представления о соотношении причин и следствий, а чувства и переживания, мои аргументы ни к чему. Если при всех преимуществах коммунальных кухонь и жизни в отелях он все-таки предпочитает отдельное жилище, если такие сантименты как "собственный дом" и "собственный очаг" значат для него больше, чем доказательства пользы единства и однообразия, тогда больше не о чем говорить. Если он намерен меблировать жилище по собственному вкусу, а не в соответствии с общественным мнением, направляемым фабрикантом мебели, тогда нечем опровергнуть его выбор. Если, зная о действии алкоголя, он продолжает пить, поскольку готов платить еще дороже за получаемое удовольствие, я могу со всей определенностью с точки зрения моих ценностей назвать его неразумным, но здесь его воля и его ценности решают дело. Если я как единоличный диктатор или как член деспотически правящего большинства запрещу употребление алкоголя, я этим не увеличу производительность общественного производства. Кто не одобряет алкоголь, тот и без всякого запрета не станет его употреблять. Для всех других запрет того, что ценится ими превыше всего, означает ухудшение их обеспечения. Противопоставление производительности и прибыльности, которое, как мы показали в предыдущей главе, совершенно бесполезно для понимания функционирования производства, направленного к заданным целям, должно непременно привести к ложным заключениям, если его применить к целям экономических действий [см. о прибыльности и производительности (глава 6, параграф 5) в настоящем издании]. Имея ряд средств для достижения заданной цели, можно сказать, что тот или иной процесс более практичен, т. е. способен принести больший доход. Но если мы задаемся вопросом, какое именно средство даст больший непосредственный рост благосостояния индивидуума, то в нашем распоряжении нет объективных способов оценки. Здесь решает субъективная воля человека. Воду, молоко или вино выбирают не ради их физиологического действия, а оценивая ощущения от этого действия. Если кто-то пьет вино, а не воду, нельзя сказать, что он действует иррационально. Единственное, что я мог бы сказать, -- что на его месте пил бы иное. Но его стремление к счастью есть его дело, а не мое. Если социалистическое общество снабжает товарищей не тем, чего им хочется, а тем, что выбрал для их радости правитель, сумма удовлетворения не растет, а уменьшается. Конечно же, такое притеснение индивидуальной воли никак нельзя назвать "экономической демократией". Существенное различие между капиталистическим и социалистическим производством в том, что при капитализме человек заботится о себе сам, а при социализме это делают за него другие. Социалисты хотели бы кормить и одевать человечество и предоставлять ему кров. Но человек предпочитает есть, пить, одеваться, жить и искать счастье на собственный манер. 3. Социализм как выражение воли большинства Число наших современников, которые выбрали социализм потому, что его уже выбрало большинство, довольно велико. Постоянно приходится слышать: "Большинство людей хотят социализма, массы больше не поддерживают капиталистический общественный строй, значит, мы должны провести обобществление". Но в глазах противников социализма этот аргумент неубедителен. Конечно, если большинство хочет социализма, мы получим социализм. Никто не показал яснее, чем либеральные философы, что нет преград общественному мнению и что решения принимает большинство, даже если оно заблуждается. Если большинство совершает ошибку, меньшинство также страдает от последствий и не может жаловаться. Разве они также не повинны в ошибке, поскольку не сумели просветить большинство? Но при обсуждении того, что же делать, аргумент, что большинство энергично требует социализма, будет весомым, только если социализма будут желать ради него самого, видя в нем конечную цель. Но это ведь совсем не так. Подобно всем другим формам организации общества социализм есть только средство, а не цель в себе. Стремящиеся к социализму подобно отвергающим его хотят благосостояния и счастья, и они стали социалистами лишь потому, что верят в социализм как в надежнейший путь достичь всего этого. Если бы они были убеждены, что либеральный строй общественной жизни лучше поможет удовлетворению их желаний, они стали бы либералами. Утверждение, что надо быть социалистом, поскольку массы требуют социализма, есть наихудший из возможных аргументов против врагов социализма. Воля народа -- высший закон для его представителей, которые должны его исполнять. Но желающий быть властителем мысли не должен связывать себя этой волей. Он -- пионер, первопроходец, пытающийся переманить граждан на свою точку зрения. Утверждение, что нужно покориться массам, есть не что иное, как требование ко всем тем, кто еще противопоставляет социализму данные критического мышления, отречься от разума. Сама возможность выдвижения такого аргумента показывает, сколь далеко зашла социализация интеллектуальной жизни. В самые темные эпохи ранней истории такие аргументы не использовались. Тем, кто не соглашался с предрассудками подавляющего большинства, никогда не говорили, что их мнение ошибочно только потому, что большинство думает иначе. Если социализм не может быть построен по внутренним причинам, никакое стремление большинства народа к социализму не поможет ему реализоваться. Глава XXXII. Капиталистическая этика 1. Капиталистическая этика и нереализуемость социализма В изложениях доктрин этического социализма постоянно встречается утверждение, что он предполагает нравственное очищение человека. Пока нам не удастся поднять нравственный уровень массы, нельзя будет реализовать социалистические идеи на практике. Трудности построения социализма исключительно или большей частью связываются с нравственным несовершенством человека. Некоторые писатели сомневаются, чтобы когда-либо удалось преодолеть это препятствие; другие ограничиваются утверждением, что социализм невозможен ни сегодня, ни в ближайшем будущем. Мы сумели показать, где следует искать причины невозможности социалистической экономики: они не в нравственном несовершенстве человека, а в интеллектуальной неразрешимости проблем, порождаемых социалистическим общественным порядком. Нереализуемость социализма обосновывается доказательствами, взятыми не из нравственной, а из интеллектуальной сферы. Поскольку в социалистическом обществе невозможно проведение экономических расчетов, в нем невозможно ведение общественного хозяйства. Даже ангелы, будучи наделены только человеческим разумом, не смогли бы построить социализм. Если бы социалистическое общество могло осуществлять экономические расчеты, социализм стал бы реален безо всяких изменений в нравственной природе человека. В социалистическом обществе господствовали бы иные нравственные нормы, чем в обществе с частной собственностью на средства производства. Общество требовало бы от индивидуума других временных жертв. Но при возможности осуществлять в социалистическом хозяйстве проверку тех или иных процессов объективным расчетом, внедрить в жизнь кодекс социалистической морали было бы не сложнее, чем кодекс морали капиталистической. Если бы социалистическое общество смогло для каждого устанавливать результат его труда, можно было бы рассчитать его долю в общественном продукте и определить ему вознаграждение пропорционально вкладу в производство. При таких условиях социализм мог бы не бояться, что товарищ не проявит наибольшего усердия из-за отсутствия каких бы то ни было стимулов, услащающих тяготы труда. Именно из-за невозможности всего этого социализму придется для своей утопии создать новый тип человека, для которого, в отличие от ныне населяющего землю труд не тягость и мука, а радость и удовольствие. Из-за невозможности социалистического экономического расчета утопический социалист предъявляет спрос на человека со свойствами, противоположными существующим. Неадекватность человеческой природе как причина краха социализма кажется чем-то относящимся к нравственной сфере, но при более пристальном внимании выясняется, что это проблема интеллектуальная. 2. Предполагаемые недостатки капиталистической этики Действовать разумно -- значит жертвовать менее важным в пользу более важного. Мы приносим временные жертвы, когда отказываемся от меньшего ради большего, когда воздерживаемся от удовольствия выпить, чтобы не мучиться с похмелья. Человек принимает на себя тяготы труда, чтобы избежать голода. Нравственным поведением мы называем временные жертвы в интересах общественного сотрудничества, которое является основным средством удовлетворения человеческих нужд и поддержания жизни. Все этические нормы являются этическими нормами общественной жизни. (Мы не станем оспаривать утверждений, что рациональное поведение, направленное исключительно к собственному благу, также следует считать этичным и что можно говорить об индивидуальной этике и долге перед самими собой; может быть, такой способ выражения лучше, чем наш, подчеркивает фундаментальную однородность норм индивидуального здоровья и общественной этики.) Действовать нравственно -- значит жертвовать менее важным для более важного, делая тем самым возможным общественное сотрудничество. Фундаментальный дефект большинства антиутилитаристских систем этики лежит в неверном понимании смысла требуемых моралью временных жертв. Они не думают о целях, ради которых приносятся жертвы, а в результате приходят к абсурдному предположению, что жертвы и самоотречение имеют нравственную ценность сами по себе. Они объявляют абсолютными нравственными ценностями неэгоистичность и самопожертвование и направляющие их любовь и сострадание. Наделить нравственным смыслом страдание, сопровождающее самопожертвование, просто в силу того, что оно болезненно, -- почти то же самое, что объявить моральным всякое действие, приносящее действующему боль. В этой путанице понятий -- причина того, что разнообразные чувства и действия, нейтральные или даже вредные в социальном плане, оцениваются порой как нравственные. И все же при такого рода размышлениях нельзя хоть украдкой не вернуться к идеям утилитаризма. Если мы не желаем восславить сострадание врача, который не делает спасительную для жизни операцию, чтобы не лишить пациента возможности пострадать, и, таким образом, вводим различение между истинным и ложным состраданием, мы все-таки возвращаемся к тому, чего хотели избежать, -- к оценке целесообразности действия. Восхваление неэгоистичных поступков вовсе не исключает целевой установки людей на благосостояние. Возникает утилитаризм с обратным знаком: нравственным должно считаться то, что приносит выгоду не самому действующему лицу, а другим. Так возникает этический идеал, несовместимый с миром, в котором мы живем. Осудив общество, построенное на "собственном интересе", моралист изобретает другое, в котором человек будет соответствовать требованиям идеала. Он начинает с отрицания существующего мира и его законов; он желает создать мир, соответствующий его ложным теориям, и все это он называет утверждением нравственного идеала. Человек не делается чудовищем просто потому, что хочет получать удовольствия и избегать боли, -- другими словами, хочет жить. Отказ, самопожертвование и воздержание сами по себе не являются чем-то хорошим. Осуждение этических норм, требуемых общественной жизнью капиталистического общества, и установление вместо них норм нравственного поведения, которые кажутся необходимыми и полезными при социализме, -- это просто чистый произвол. ЧАСТЬ V. ДЕСТРУКЦИОНИЗМ 1. Природа деструкционизма Для социалиста утверждение социалистического строя представляется переходом от иррациональной экономики к рациональной. При социализме анархия производства сменяется плановым управлением хозяйством; на месте общества конфликтующих, неразумных и стремящихся лишь к собственной выгоде индивидов возникает общество, олицетворяющее разум. Вместо несправедливого распределения благ устанавливается справедливость. Вместо нужды и нищеты воцаряется всеобщее благосостояние. Перед нами картинка райской жизни, которую в соответствии с законами исторического развития обретем если не мы, то наши потомки. Ведь вся история вела к этой земле обетованной, и все прошлое было только подготовкой путей нашего спасения. Так представляют себе социализм наши современники, и они верят в него. Неправильно полагать, что социалистическая идеология господствует только в тех партиях, которые называют себя социалистическими, или, что обычно означает то же самое, "социальными". Все современные политические партии насыщены главными идеями социализма. Даже самые стойкие оппоненты социализма оказались под его обаянием. Они также убеждены, что социалистическая экономика более рациональна, чем капиталистическая, что она гарантирует более справедливое распределение дохода, что историческое развитие неизменно толкает человека в этом направлении. Они противостоят социализму с чувством, что защищают при этом эгоистические частные интересы, что победа их противника желательна с точки зрения общественного благосостояния, что социализм строится на единственно приемлемых этических принципах. И в глубине своих сердец они убеждены, что сопротивление безнадежно. При всем при этом социалистическая идеология есть не что иное, как грандиозная рационализация мелких обид. Ни одна из этих теорий не выдерживает научной критики, и все их выводы необоснованны и пусты. Социалистические концепции капиталистической экономики давно уже обнаружили свою ложность; планы будущего социалистического устройства неизменно внутренне противоречивы и потому нереализуемы. Социализм не только не внесет рациональность в хозяйственную жизнь, но, напротив, вовсе разрушит общественное сотрудничество. Утверждения о будущей справедливости произвольны и вырастают, как легко показать, из чувства обиды и ложного истолкования капиталистической действительности. Утверждение, что историческое развитие не имеет других альтернатив, кроме социализма, оказывается всего лишь пророчеством, которое отличается от хилиастических фантазий раннего христианства только претензией на научность. На деле социализм ни в малейшей степени не является тем, на что претендует. Это не открыватель нового и лучшего мира, но грабитель и разрушитель того, что накопили тысячелетия цивилизации. Он не строит, а разрушает. По результатам его действий он должен быть назван деструкционизмом. {Деструкционизм -- от destructio -- разрушение (лат.).} Разрушение -- его сущность. Он не производит ничего, а только расточает то, что создал общественный строй, основанный на частной собственности на средства производства. Поскольку социалистическое устройство общества неосуществимо (разве что в виде фрагментов в экономике, в остальном строящейся на частной собственности на средства производства), каждый шаг, который должен вести к социализму, исчерпывается разрушением существующего. Такая деструкционистская политика означает проедание капитала. Очень немногие осознают этот факт. Проедание капитала может быть установлено статистически и воспринято интеллектуально, но оно не очевидно каждому. Чтобы понять порочность политики, которая увеличивает потребление масс за счет существующего капитала и тем самым приносит будущее в жертву настоящему, нужна проницательность большая, чем отпущено государственным деятелям и политикам, а также массам, которые привели их к власти. Пока стены фабрики стоят, а поезда ходят, принято думать, что все в мире в порядке. Растущие трудности поддержания высокого уровня жизни приписываются разным обстоятельствам, но никогда -- политике проедания капитала. Проблема проедания капитала деструкционистским обществом -- одна из ключевых проблем экономической политики социализма. В социалистическом обществе опасность проедания капитала будет особенно велика, так как и там демагогам будет тем легче добиваться успеха, чем больше будет обещанное ими увеличение доли, идущей на потребление, за счет доли, идущей на формирование дополнительного и поддержание уже существующего капитала. Постоянное образование нового капитала -- в природе капиталистического общества. Чем больше фонд капитала, тем выше предельная производительность труда, а значит, и заработная плата -- абсолютная и относительная. Неуклонное наращивание капитала есть единственный путь к росту количества благ, которые общество может потреблять ежегодно, не подрывая будущего производства. Это единственный способ устойчивого увеличения потребления рабочих без ущерба для их будущих поколений. Потому-то либерализм издавна утверждает, что неуклонное наращивание капитала есть единственное средство постоянного улучшения положения масс. Социализм и деструкционизм стремятся к этой же цели иным путем. Их предложения сводятся к росту сегодняшнего благосостояния за счет будущего. Политика либерализма -- это политика предусмотрительного отца, который сберегает и строит для себя и для наследников. Политика деструкционизма есть политика расточителя, который проматывает наследство без оглядки на будущее. 2. Демагогия Для марксистов главным достижением Карла Маркса является пробуждение классового сознания у пролетариев. До его работ идеи социализма существовали вдали от практической жизни, в писаниях утопистов и в узком кругу их учеников. Связав эти идеи с революционным рабочим движением, которое до того преследовало только мелкобуржуазные цели, Маркс создал, говорят марксисты, основания пролетарского движения. Это движение, полагают они, будет жить, пока не выполнит своей исторической миссии -- установить социалистический строй общества. Утверждают, что Маркс открыл движущие законы капиталистического общества и определил цели современного социального движения как обусловленные всем историческим развитием. Говорят, что он показал, что пролетариат может освободить себя как класс, только вообще ликвидировав классовые противоречия и тем самым создав предпосылки общества, в котором "свободное развитие каждого является условием свободного развития всех" {цитата из "Манифеста Коммунистической партии" (см. Маркс К., Энгельс Ф., Соч., Т. 4, С. 447)}. Восторженные энтузиасты видят в Марксе одну из героических фигур мировой истории и числят его среди великих экономистов и социологов, даже среди самых прославленных философов. Непредубежденный наблюдатель видит Карла Маркса иными глазами. У Маркса-экономиста совершенно отсутствовала оригинальность. Он был последователем классической политэкономии, но ему недоставало способности подходить к важнейшим экономическим проблемам без политических предубеждений. Он смотрел на все через очки агитатора, для которого главное -- произвести впечатление на толпу. Но даже здесь он не был по-настоящему оригинален, поскольку английские социалисты, защитники "права на полный продукт труда", памфлеты которых в 30--40-х годах XIX века подготовили путь для чартизма, опередили его во всех существенных моментах. {Английские социалисты Джон Грей (1798--1850), Джон Френсис Брей (1805--1895), Томас Годскин (1787--1869) и другие, опираясь на Рикардо и Оуэна, критиковали капитализм как строй, позволяющий владельцам капитала присваивать прибавочную стоимость, произведенную рабочими. Их общим лозунгом было "право рабочего на полный продукт труда". Работы их, написанные, как правило, в расчете на неподготовленного читателя, были популярны, в том числе и в рабочей среде. Чартизм как массовое движение английских рабочих зародился в 1838 г. Первоначально чартисты выдвигали только требования политических реформ, но в 40-е годы они провозгласили ряд социальных требований. Однако в целом чартистское движение, изжившее себя в начале 50-х годов, не носило социалистического характера.} Более того, он оказался совершенно неосведомленным о революции в экономической теории, которая происходила как раз в те годы, когда он разрабатывал свою систему. Историческое невезение: новая теория, перевернувшая всю экономическую науку, явилась на свет почти вслед за публикацией первого тома "Капитала". {Л. Мизес имеет в виду появление книги австрийского экономиста Карла Менгера "Основания политической экономии", сыгравшей решающую роль в становлении так называемой субъективной школы в политэкономии. Первый том "Капитала" вышел в 1867 г., а работа К. Менгера -- в 1871 г.} В результате последние тома "Капитала" уже в день публикации представляли собой зады передовой науки. Это невезение особенно тяжко ударило по его восторженным последователям. С самого начала им пришлось удовлетворяться бесплодным воспроизведением работ мастера. Они застенчиво избегали каких-либо контактов с новой теорией ценности. Как социолог и философ истории, Маркс никогда не поднимался выше уровня способного агитатора, обслуживающего повседневные нужды своей партии. Научная ценность материалистической концепции истории равна нулю; более того, Маркс так и не довел ее разработку до конца, выдвигая раз за разом новые несовместимые версии. Его философская позиция являлась простым гегельянством. Он принадлежал к множеству давно забытых авторов того времени, когда было модно использовать по всякому поводу диалектический метод. Прошли десятилетия, прежде чем его стали называть философом и причислили к сонму великих мыслителей. Стиль его научных работ -- сухой и тяжелый педантизм. Ему не было даровано способности вразумительно излагать свои мысли. Только в политических текстах он был эффектен, и то благодаря звучным противопоставлениям и легко запоминаемым фразам, в которых игра словами скрывала полную пустоту. В полемике он, не колеблясь, извращал высказывания оппонентов. Вместо опровержения он использовал брань и оскорбления. [См., например, в "Капитале" замечания о Бентаме: "с самодовольством вещал обыденнейшие банальности", "гений буржуазной глупости" (Marx, Das Kapital, I Bd. S. 573) <Маркс К., Капитал // Маркс К., Энгельс Ф., Соч., Т. 23, С. 623--624>; о Мальтусе -- "ученически-поверхностный и поповски-напыщенный плагиат" (Ibid., S. 580) <там же, С. 630>.] И его ученики (школа Маркса на деле сложилась только в Германии и Восточной Европе, особенно в России), в точности повторяя стиль учителя, обливали оппонентов грязью, но никогда не пытались их опровергнуть. Об оригинальности и историческом значении Маркса можно говорить только применительно к области политической техники. Он осознает, какую громадную силу в современном обществе могут представлять собой массы, сконцентрированные на фабриках и заводах, если их удастся политически сплотить. Он ищет и находит лозунги для объединения этих масс в согласованное движение. Он бросает призывы, которые поднимают людей, в целом безразличных к политике, в атаку на частную собственность. Он проповедует доктрину спасения, которая рационализирует их обиды и преобразует зависть и желание мести в "историческую миссию". Он воодушевляет их сознанием этой великой миссии: в них -- будущее рода человеческого. Быстрое распространение социализма сравнивали с распространением христианства. Более подходящим, возможно, было бы сравнение с исламом, который вдохновил детей пустыни на то, чтобы опустошить обширные культурные страны, возжег их разрушительную ярость моралистической идеологией и пришпорил их отвагу идеей фатализма. [Может быть, поэтому для марксизма так легок союз с исламским фанатизмом. Переполненный гордостью марксист Отто Бауэр восклицает: "В Туркестане и Азербайджане монументы Марксу стоят напротив мечетей, и мулла в Персии мешает цитаты из Маркса с отрывками из Корана, когда призывает народ к священной войне против европейского империализма" (Otto Bauer, Marx als Mahnung // Der Kampf, XVI, 1923, S. 83).] В сердцевине марксизма лежит учение о единстве пролетарских интересов. Однако отдельный рабочий пребывает в состоянии постоянной острой конкуренции с другими рабочими, всегда готовыми занять его рабочее место; вместе с товарищами по заводу он конкурирует с рабочими других отраслей и с потребителями товаров, в выпуске которых он принимает участие. Довести рабочего до того, чтобы он вопреки фактам и опыту искал спасения в союзе с другими рабочими, можно, только разжигая его страсти. Это оказалось не столь уж трудным; дурные чувства в человеческой душе возбуждаются легко. Но Маркс сделал и нечто большее: он окружил обиды простого человека нимбом науки и этим привлек духовно и нравственно отзывчивых людей. В этом отношении все другие социалистические течения подражали Марксу, слегка переиначивая его доктрину для своих особых целей. Маркс был гением в технике демагогии; здесь его достижения нельзя преувеличить. Он нашел благоприятный исторический момент для объединения масс в их собственное политическое движение и был готов сам его возглавить. Для него вся политика была продолжением войны, только другими средствами {перефразировка знаменитого изречения прусского военного теоретика Карла Клаузевица (1780--1831): "Война есть продолжение политики иными средствами"}; его политическое искусство -- всегда политическая тактика. Социалистические партии, ведущие свое начало от Маркса, сохранили эти черты, так же как и те партии, для которых марксистские были моделью. Они выработали технику агитации, уловления голосов и душ, предвыборной работы, уличных сборищ и терроризма. Чтобы обучиться всему этому, нужна многолетняя школа. На партийных съездах и в партийной литературе марксисты уделяют больше внимания вопросам организации и тактики, чем важнейшим, фундаментальным проблемам политики. Фактически, если мы хотим быть точными, следует признать, что их вообще никогда ничего не интересовало, кроме партийной тактики. Милитаристские установки по отношению к политике, роднящие марксизм с прусским и русским этатизмом, быстро нашли приверженцев. Новые партии континентальной Европы насквозь пронизаны марксистской идеологией. У марксизма учились все партии, провозглашающие особые интересы различных социальных групп. Они используют для своих целей марксистское учение о классовой борьбе, чтобы сплотить крестьянство, промышленный средний класс и слой служащих. Тут следовало ожидать, что либеральная идеология быстро будет побеждена. Либерализм боязливо избегал всяких политических трюков. Он полагался исключительно на внутреннюю силу и убедительность своих идей, презирая все другие средства политической борьбы. Он никогда не имел определенной политической тактики, не унижался до демагогии. Старый либерализм был благороден и верен своим принципам. Его противники называли это свойство доктринерством. Сегодня старые либеральные принципы должны быть тщательно перепроверены. Наука полностью преобразилась за последнюю сотню лет, и нынче социологические и политико-экономические основания либерального учения должны быть пересмотрены. По многим вопросам либерализм не до конца продуман. Многое нужно наверстать [см. мою работу Liberalismus, Jena, 1927]. Но применяемые либерализмом методы политической борьбы не могут быть изменены. Либерализм рассматривает все виды общественного сотрудничества как эманацию разумно понимаемой пользы, когда всякая власть базируется на общественном мнении, а потому невозможны действия, способные помешать свободному принятию решений мыслящим человеком. Либерализм знает, что общество может продвинуться на более высокую стадию развитию только через человека, осознающего полезность общественного сотрудничества; ни Бог, ни тайно действующая судьба не определяют будущее человеческого рода -- только сам человек. Когда народы слепо устремляются к разрушению, либерализм должен стараться их просветить. Но даже если люди не слышат -- из-за глухоты или потому, что убеждающий голос слишком слаб, не следует возвращать их к разумному поведению с помощью тактических и демагогических уловок. Демагогией, пожалуй, можно разрушить общество. Но его никогда не построить такими средствами. 3. Деструкционизм образованных людей Романтизм и социальное искусство XIX века подготовили почву для социалистического деструкционизма. Без их помощи социализм никогда бы не сумел так угнездиться в умах людей. Романтизм -- это восстание человека против разума, так же как и против условий, в которых природой ему предписано жить. Романтик видит сны наяву; в мечте он не связан законами логики и природы. Мыслящий и разумно действующий человек пытается избавиться от давления неосуществленных желаний с помощью хозяйственной деятельности и труда; он производит, чтобы улучшить свое положение. Романтик слишком слаб, слишком неврастеничен, чтобы работать; он мечтает об успехе, но ничего не делает для его достижения. Он устраняет препятствия не на деле, а только в воображении. У него зуб против реальности, потому что она не похожа на созданный им воображаемый мир. Он ненавидит труд, хозяйствование и разум. Романтик принимает как данность все дары цивилизации и желает, вдобавок, всего изящного и красивого, что, как он думает, могут или могли предложить отдаленные времена и страны. Окруженный комфортом европейской городской жизни, он хотел бы быть индийским раджой, бедуином, корсаром или трубадуром. Но в жизни этих персонажей он видит только приятные стороны и никогда не думает об отсутствии у них того, что сам имеет в изобилии. Его всадники галопируют по равнинам на огненных скакунах, корсар берет в плен красавиц, рыцарь сокрушает врагов в промежутке между песнями и любовью. Опасности их образа жизни, сравнительная ее бедность, убожество и тяжкий труд -- все это его воображение тактично обходит: все залито розовым светом. По сравнению с надуманным идеалом реальность кажется сухой и пресной. Везде препятствия, которых нет в мечте, и нужно решать множество задач. Нет красавиц, которых можно спасти от грабителей, нет потерянных сокровищ, которые можно найти, нет драконов, которых можно убить. Есть зато труд, который нужно исполнять неустанно, усердно, день за днем, год за годом. Здесь, если хочешь собирать урожай, надо пахать и сеять. Романтик не хочет смириться с этим. Упрямый, как ребенок, он отказывается признать это. Он издевается и иронизирует, он презирает и ненавидит буржуев. Распространение капиталистической мысли создало неблагосклонное отношение к романтизму. Поэтические фигуры рыцарей и пиратов стали объектом насмешек. Когда жизнь бедуинов, пиратов, махараджей и других романтических героев была показана со всех сторон, какое бы то ни было желание подражать им исчезло. Достижения капиталистического общества сделали жизнь хорошим делом; возникло растущее чувство, что свободы и безопасности, мирного благосостояния и многообразного утоления нужд и желаний можно ожидать только при капитализме. Романтическое презрение к буржуазному вышло из моды. Но духовные и интеллектуальные установки, давшие жизнь романтизму, уничтожить было не так-то легко. Неврастенический протест против жизни искал другие формы выражения. Он нашел их в "социальном" искусстве XIX века. Действительно великие поэты и романисты этого периода не были социально-политическими пропагандистами. Флобер, Мопассан, Якобсен, Стриндберг, Конрад Фердинанд Мейер -- назовем только немногих -- далеко не были последователями модной литературы. {Флобер Гюстав (1821--1880) и Мопассан Ги (1850--1893) -- французские писатели. Якобсен Енс Петер (1847-1885) -- датский писатель. Стриндберг Юхан Август (1849--1912) -- шведский писатель. Мейер Конрад Фердинанд (1825--1898) -- швейцарский немецкоязычный писатель. Все перечисленные писатели -- видные представители реалистического направления в литературе.} Формулировкой социальных и политических проблем мы обязаны не тем писателям, работы которых обеспечили XIX веку его прочное место в истории литературы. Эту задачу взяли на себя второсортные и третьесортные литераторы. Они создали образы кровожадного капиталистического предпринимателя и благородного пролетария. Для них богатый плох потому, что богат, а бедный хорош потому, что беден [Cazamian, Le roman social en Angleterre, 1830--1850, Paris, 1904, P. 267 ff.]. "Но это ведь так, как если бы богатство было преступлением", -- восклицает фрау Дрейссигер в "Ткачах" Герхарта Гауптмана. {Гауптман Герхарт (1862--1946) -- немецкий писатель. Его драма "Ткачи" (1892) посвящена восстанию силезских ткачей в 1844 г.} Литература этого периода полна осуждениями собственности. Здесь не место для эстетического анализа такой литературы; наша задача -- исследовать ее политическое воздействие. Она вела к победе социализма, вербуя на его сторону образованные классы. С этими книгами социализм проникал в состоятельные семьи, увлекая жен и дочерей, заставляя сыновей бросать семейное дело, пока, наконец, сам капиталистический предприниматель не начинал верить в низменность своей деятельности. Банкиры, руководители промышленности и торговцы заполнили ложи театров, в которых пьесы социалистического толка исполнялись перед восторженной публикой. Социальное искусство тенденциозно; каждое произведение защищает какой-то тезис. [О социалистической тенденции в живописи см. Muther, Geschichte der Malerei im 19. Jahrhundert., Munchen, 1893, II Bd., S. 186 ff. <Мутер Р., Социалистическая тенденция в живописи // История живописи в XIX в., Т. II, Спб, С. 136 и след.>; Coulin, Die sozialistische Weltanschaung in der franzosischen Maleri, Leipzig, 1929, S. 85 ff.] И утверждается всегда одно и то же: капитализм есть зло, в социализме -- спасение. Бесконечное повторение не приелось раньше читателю только потому, что у каждого писателя на уме была своя форма социализма. Все они подобно Марксу избегали детального изображения воспеваемой социалистической жизни и, как правило, просто ограничивались ссылкой на желательность социализма. Неадекватность их логики, обращение в первую очередь не к разуму, а к эмоциям -- все это неудивительно, особенно учитывая, что таким же был метод soidisant {soidisant -- мнимый (фр.)} научных авторитетов по социализму. Беллетристика предоставляет здесь наиболее благоприятные возможности, поскольку можно не бояться, что аргументы будут подвергнуты детальному логическому анализу. Точность отдельных замечаний в романах и пьесах не принято анализировать. Навязываемые логикой характеров и сюжета выводы не подлежат логическому обоснованию. Даже если "собственник" всегда изображается как носитель зла, нельзя предъявить претензий автору -- это ведь всего лишь частный пример. Ни один отдельный писатель не может быть признан ответственным за общее воздействие литературы своего времени. Диккенс в "Тяжелых временах" вкладывает в уста Сесси Джуп, брошенной маленькой дочери циркового клоуна и танцора, шпильку в адрес утилитаризма и либерализма. Он заставляет мистера М"Чокумчайлда, учителя в образцовой школе последователя Бентама капиталиста Грэдгройнда, задать вопрос: каков процент жертв, если из 100 тысяч мореплавателей утонут 500 человек. Славное дитя отвечает, что для родственников и друзей погибших нет никаких процентов, -- и с большой простотой осуждает тем самым самодовольство манчестерства. {Манчестерство -- экономическая политика, провозглашенная так называемой Манчестерской школой в конце 30-х годов XIX в. Ее основоположники Р. Кобден и Дж. Брайт -- английские экономисты и политические деятели -- выступали за полную экономическую свободу товаропроизводителей. Манчестерская школа вела борьбу против протекционизма, правительственных субсидий, фабричного законодательства -- вообще против любого вмешательства государства в хозяйственную жизнь.} Все это, отвлекаясь от полной неправдоподобности сцены, очень мило и трогательно, но все же не может умалить удовлетворенности граждан капиталистического общества значительным сокращением опасности морских путешествий. И если капитализм сумел добиться, что на миллион жителей от голода ежегодно погибают только 25, тогда как прежде число голодающих было гораздо выше, нашу оценку достижений не изменят изрекаемые Сесси пошлости, что для каждого из голодающих все равно -- голодает ли вместе с ним еще миллион или миллион миллионов людей. При этом нам не предлагают никаких доказательств того, что при социализме голодающих будет меньше. Третье наблюдение, вложенное Диккенсом в уста Сесси, должно показать, что нельзя судить об экономическом процветании народа по суммарной величине богатства, но следует учитывать еще и распределение этого богатства. Диккенс был плохо знаком с работами утилитаристов и не знал, что это утверждение не противоречит старым утилитаристским идеям. Как раз Бентам подчеркивал, что порождаемое богатством довольство бывает тем сильнее, чем равномернее оно распределено [Bentham, Principles of the Civil Code, Works, Vol. I, P. 304 ff. <Бентам И., Основные начала гражданского кодекса // Избр. соч., С. 327--328>]. Противоположностью Сесси является образцовый мальчик Битцер. Он помещает свою мать в работный дом и потом утешает свою совесть тем, что раз в год посылает ей полфунта чаю. Даже это, говорит Диккенс, было проявлением слабости у замечательного юноши, которого он называет превосходным молодым экономистом, и только потому, что подаяние ведет к обнищанию получающего. Единственным рациональным действием Битцера является покупка самого дешевого чая и продажа его по наиболее дорогой цене. Разве философы не доказали, что в этом и состоит весь долг человека (именно весь, а не часть долга)? Миллионы читателей диккенсовского текста пережили внушенное автором чувство отвращения к низости утилитарной философии. И все-таки они неправы. Либеральные политики на самом деле выступали против поощрения нищенства безоглядно и безотчетно раздаваемой милостыней и доказывали безнадежность всех попыток улучшить положение бедных, если они не ведут к повышению производительности труда. Они показали, сколь неблагоприятны будут для самих пролетариев результаты предложений, нацеленных на повышение рождаемости у недостаточно состоятельных молодых людей, не имеющих возможности позаботиться о своих детях. Но они никогда не были против поддержки нетрудоспособных в рамках закона о бедных. Никогда они не подвергали сомнению и нравственный долг помощи престарелым родителям. Социальная философия либерализма никогда не утверждала, что "долгом", началом и концом всей нравственности является правило: купить как можно дешевле, а продать как можно дороже. Она показала только, что такое поведение рационально для того, кто стремится к косвенному удовлетворению желаний (через покупку и продажу). Но либерализм никогда не считал иррациональным делом послать старой матери чай в подарок -- во всяком случае не более иррациональным, чем самому пить чай. Одного взгляда на работы авторов-утилитаристов довольно, чтобы разоблачить софистические искажения, которые допускает Диккенс. Но среди сотен тысяч читателей диккенсовских романов едва ли один прочитал хоть строчку утилитаристов. Вместе с другими, менее одаренными рассказчиками романтического направления Диккенс привил миллионам людей ненависть к утилитаризму и капитализму. При этом Диккенс -- а в равной степени это относится и к Вильяму Моррису, Шоу, Уэллсу, Золя, Анатолю Франсу, Герхарту Гауптману, Эдмондо де Амичису и многим другим -- вовсе не был открытым и непосредственным проповедником деструкционизма. {Моррис Вильям (1834--1896) -- английский писатель и художник, автор социалистической утопии "Вести ниоткуда, или Эпоха спокойствия". Дж. Б. Шоу (1856--1950) -- писатель и публицист. Шоу был одним из основателей социалистического Фабианского общества. Уэллс Герберт Джордж (1866--1946) - английский писатель, близкий к социализму этического толка. Золя Эмиль (1840--1902) -- французский писатель, автор серии критических романов "Ругон-Маккары", проявлявший интерес к идеям социализма. Франс Анатоль (1844--1924) -- французский писатель, в начале XX в. сблизившийся с социалистами. Де Амичис Эдмондо (1846--1908) -- итальянский писатель, чье творчество посвящено людям труда, социалист по убеждениям. В отличие от других называемых Мизесом писателей Де Амичис ныне забыт, но в конце XIX -- начале XX в. был весьма популярен. По его повести "Учительница рабочих" Маяковский создал сценарий фильма "Барышня и хулиган".} Они все отрицали капиталистический строй жизни и частную собственность на средства производства, порой, видимо, и не сознавая этого. Между строк внушалась картинка лучшего экономического и социального устройства. Они работали просто как вербовщики социализма, а поскольку социализм ведет к разрушению общества, мы можем назвать их проповедниками деструкционизма. Но как политический социализм в большевизме дошел до открытого деструкционизма, так же было и с литературным социализмом. Толстой был великим проповедником деструкционизма, идеи которого он черпал в словах Евангелий. Он делает учение Христа, основанное на вере в близость Царства Божия, благовествованием для всех времен и народов. Подобно коммунистическим сектам времен Средневековья и Реформации, он мечтал об устройстве общества на правилах Нагорной проповеди. {Коммунистические мотивы были присущи секте катаров (Италия, Южная Франция, Фландрия, XI в.) и возникшей под ее влиянием секте вальденсов (Франция, Северная Италия, Германия, Испания, XII в.). Полностью отрицала частную собственность и государство секта "братьев и сестер свободного духа" (Франция, XI в.). В Нидерландах в XIV в. возникла секта беггардов, члены которой вели коллективное хозяйство и жили вместе. Широкое распространение получили коммунистические воззрения в ересях времен Реформации, -- массового антифеодального и антикатолического движения, охватившего в XVI в. многие страны Европы. Так, в Южной Чехии сформировалась хилиастическая секта пикартов; в Швейцарии сложилась ересь анабаптистов, требовавших ликвидации торговли и денег, уравнения имуществ и коллективного землевладения.} Он, конечно, не заходил столь далеко, чтобы буквально следовать примеру полевых лилий, которые не трудятся. {Имеются в виду слова Нагорной проповеди: "И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут не трудятся, не прядут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевается так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, кольми паче вас, маловеры!" (Евангелие от Матфея, Гл. 6, Ст. 28--30).} Но ему была любезна модель общества, которое состоит только из самодостаточных земледельцев, обрабатывающих небольшие наделы земли, и он вполне логичен, требуя разрушения всего остального. Сегодня люди, которые с превеликим восторгом приветствовали эту литературу и радостно отзывались на призыв разрушить все культурные ценности, стоят на пороге великой социальной катастрофы. Глава XXXIV. Пути и методы деструкционизма 1. Средства деструкционизма Социалистическая политика для достижения своих целей использует два подхода: первый прямо направлен на обращение общества в социалистическое; второй -- только косвенно, через разрушение общества, основанного на принципе частной собственности. Реформистские партии социальной ориентации, так же как и реформистские группы в социалистических партиях, предпочитают первый подход; второй есть оружие революционных социалистов, которые начинают с расчистки почвы для строительства новой цивилизации. Одни используют как средства муниципализацию и национализацию, другие -- саботаж и революцию. Значимость этой классификации снижает то, что результаты обоего рода политик не так уж и различаются. Как мы показали, даже прямой метод, направленный на формирование нового общества, может только разрушать. Созидание ему заказано. Оправдан вывод, что разрушение -- начало и конец всякой социалистической политики, которая десятилетиями преобладала в этом мире. В политике коммунистов воля к разрушению выражена настолько явно, что ее нельзя не заметить. Но хотя деструкционизм легче всего осознать на примере большевистской политики, он, в сущности, так же силен и в других социалистических движениях. Именуемое "экономической политикой" государственное вмешательство в экономическую жизнь добилось только ее развала. Запреты и разные меры регулирования уже в силу присущего им ограничительного духа стимулировали расточительность. С начала войны сфера этой политики так расширилась, что практически каждое действие предпринимателя стало подпадать под рубрику "нарушение закона". И если производство все еще продолжается, пусть хоть наполовину рационально, то это можно объяснить только тем, что деструкционистские законы и меры до сих пор еще не проведены полностью в жизнь. Если бы они оказались более эффективными, голод и массовая гибель уже стали бы уделом большинства цивилизованных народов. Вся наша жизнь с такой полнотой подпала уже под власть разрушительных сил, что трудно найти область, где бы они не господствовали. Их воспевает "социальное" искусство, их пропагандирует школа, благоговение к ним внушает церковь. В последние десятилетия законодательство цивилизованных стран едва ли создало хоть один закон, в котором не было бы уступок деструкционизму; в некоторых законах он полностью господствует. Чтобы дать полное представление о деструкционизме, следовало бы написать историю тех лет, когда были подготовлены и начались катастрофы мировой войной и большевистской революции. Здесь этого сделать нельзя, и мы вынуждены ограничиться несколькими замечаниями, которые могут помочь пониманию того, как нарастала готовность разрушить общество. 2. Рабочее законодательство Среди средств разрушения общества законодательная защита труда является по ее прямому воздействию наиболее вредоносной. К тому же этот аспект социальной политики особенно важен как показатель достижений социалистической мысли. Апологеты политики защиты труда любят проводить аналогию с той ситуацией, которая в XVIII и первой половине XIX века привела к принятию мер по защите крепостных. Нам говорят: как в то время вмешательство государства, шедшего шаг за шагом к освобождению крепостных, постоянно уменьшало повинности крестьян, так и сегодня рабочее законодательство пытается вырвать пролетариат из рабства наемного труда, поднять его к существованию, достойному человека. Но это сравнение вовсе неосновательно. Ограничение крепостных повинностей крестьян привело не к сокращению, а к увеличению количества труда в стране. Принудительный труд, недобросовестный и скудный, был сокращен, так что крестьянин получил свободу улучшать собственную землю или работать по найму. Большинство мер, предпринятых ради освобождения крестьянства, имело целью, с одной стороны, увеличить интенсивность сельскохозяйственных работ, а с другой -- освободить рабочую силу для нужд промышленного производства. Когда крестьянская политика наконец-то ликвидировала принудительный труд сельскохозяйственных работников, она не уничтожила сам труд, а увеличила возможности приложения труда. Результат прямо противоположный тому, чего достигает современная социальная политика, когда "регулирует" рабочее время, ограничивая продолжительность рабочего дня десятью, девятью и восемью часами или, как у различных категорий чиновников, шестью часами и менее. Ведь это сокращает количество производимой работы, а значит, и объем производства. Влияние таких мер на сокращение труда было слишком очевидным, чтобы его проглядеть. Вот почему все попытки расширить законодательную защиту труда и радикально изменить условия труда встречали сильнейшее сопротивление. Этатистские авторы обычно представляют дело так, как если бы общее сокращение рабочего времени, постепенное вытеснение женского и детского труда, сокращение ночных работ объяснялись только вмешательством закона и активностью профсоюзов [см. критику этой легенды: Hutt, The Factory System of the Early 19-th Century // Economica, Vol. VI]. Это показывает, что они находятся под влиянием представлений о характере промышленного наемного труда, сформировавшихся в кругах, враждебных современному капиталистическому производству. Согласно этим взглядам фабричная промышленность питает особое отвращение к применению полноценной рабочей силы. Предполагается, что она предпочитает необученных работников, слабых женщин и хрупких детей, а не всесторонне подготовленных специалистов. Ведь, с одной стороны, она стремится выпускать только низкокачественные товары массового потребления, для чего нет нужды в квалифицированных наемных работниках; с другой стороны, простота и легкость движений, требуемых механизированным производством, позволяют использовать неразвитых и физически слабых. Поскольку, как считается, фабрики бывают прибыльными только за счет недоплаты своим рабочим, естественно, что они предпочитают нанимать неквалифицированных рабочих, женщин и детей и при этом пытаются продлить рабочий день до возможного предела. Утверждают, что это представление подтверждается историей развития крупной промышленности. Но при своем зарождении крупная промышленность вынуждена была удовлетворяться таким трудом потому, что в то время она могла нанимать людей только за пределами ремесленных гильдий. Ей приходилось привлекать необученных, женщин и детей, потому что только они были доступны для найма, а в результате производственный процесс вынужденно строился так, чтобы эти работники с ним справлялись. Фабричная заработная плата была ниже заработка цеховых подмастерьев, потому что производительность труда была ниже. По той же причине продолжительность рабочего дня была выше, чем у ремесленников. Только когда эти отношения со временем изменились, крупная промышленность смогла преобразовать условия труда. Вначале у фабрик не было иного выбора, как нанимать женщин и детей, поскольку полные сил мужчины были для них недоступны. Когда в результате конкуренции фабрики смогли вытеснить прежнюю систему работы и перетянуть к себе тех, кто прежде был занят в ремесле, были изменены и производственные процессы, так что главным стал труд квалифицированных мужчин, а труд женщин и детей постепенно отошел на задний план. Заработная плата возросла, поскольку производительность полноценного рабочего была выше, чем производительность фабричной девчонки или ребенка. И вместе с этим рабочая семья обнаружила, что больше не нуждается в заработке жены и детей. Продолжительность рабочего дня уменьшилась, потому что более интенсивный труд подготовленного рабочего сделал возможным более эффективное использование машин, чем небрежный и неловкий труд малоценной рабочей силы. [Это вынужден был признать даже Брентано, который вообще склонен к безграничной переоценке влияния рабочего законодательства. {Брентано Луйо (1844--1931) -- немецкий экономист, представитель катедер-социализма. Пропагандировал, в частности, устранение противоречий между трудом и капиталом с помощью фабричного законодательства и развития профсоюзного движения.} "До своего усовершенствования машина заменяла труд отца семейства трудом ребенка... При усовершенствованной же машине отец снова кормит семью и возвращает ребенка туда, где ему и место, т.е. в школу. Снова является спрос на взрослых рабочих, и притом на таких, которые вследствие более высокой нормы благосостояния могут удовлетворить высоким притязаниям машины" (Brentano, Uber das Verhaltnis von Arbeitslohn und Arbeitszeit zur Arbeitsleistung, 2 Aufl., Leipzig, 1893, S. 43) <Брентано Л., Об отношении заработной платы и рабочего времени к производительности труда, Спб, 1895, С. 48>] Более короткий рабочий день и ограничение детского и женского труда в тех размерах, которые были достигнуты в Германии накануне мировой войны, никоим образом не были результатом победы законов об охране труда над эгоистичными предпринимателями. Это следствие развития крупной промышленности, которая, избавившись от нужды искать себе работников на задворках хозяйственной жизни, должна была преобразовать условия труда так, чтобы они соответствовали лучшему качеству рабочей силы. В общем и целом законодательство просто санкционировало перемены подготовленные, предвосхищаемые или уже совершившиеся. Конечно, оно всегда пыталось пойти дальше, чем позволяло состояние промышленности, но сделать это не удавалось. Препятствием служило не столько сопротивление предпринимателей, сколько сопротивление самих рабочих, не выражаемое и не выступающее открыто, но от того не менее эффективное. Ведь самим рабочим за каждый акт защищающего регулирования приходится платить как прямо, так и косвенно. Ограничение или запрещение женского и детского труда обременило бюджет рабочего столь же сильно, как и ограничение занятости взрослых рабочих. Эти меры, конечно, уменьшают предложение труда, что ведет к росту предельной производительности труда, а значит, и заработной платы в расчете на единицу продукции. Но еще вопрос, компенсирует ли для рабочего этот рост бремя растущих цен. Прежде чем выносить какое бы то ни было заключение по этому вопросу, следовало бы изучить данные для каждого отдельного случая. Вполне возможно, что сокращение производства не может обернуться абсолютным ростом реального дохода рабочих. Но нам нет нужды вдаваться здесь в эти детали. Уверенно говорить о значительном сокращении предложения труда в результате принятия рабочего законодательства можно, только если действие этих законов не ограничивается отдельной страной. Пока это не так, поскольку каждое государство шло своим путем, и страны, где недавно развившаяся промышленность использовала все возможности вытеснить с рынков продукцию старых промышленных государств, отставали с введением рабочего законодательства, и законодательная защита труда не могла улучшить положение рабочих на рынке. Помочь здесь пытались путем заключения международных соглашений о защите труда. Но про международную защиту труда еще с большим основанием, чем про национальные меры, можно сказать, что она никогда не достигала большего, чем это допускало естественное развитие индустриальных отношений. Деструктивные элементы более выражены в теории, чем в практике защиты труда, поскольку связанная с этими мерами непосредственная угроза промышленному развитию до известной степени сдерживала внедрение теории в жизнь. То, что теория эксплуатации наемных работников столь быстро распространилась и стала общепринятой, есть прежде всего заслуга деструкционизма, который без колебаний прибегал к исключительно эмоциональному описанию условий труда. В практику законодательства были внедрены популярные образы жестокосердого предпринимателя и своекорыстного капиталиста, которым противостоит бедный, благородный эксплуатируемый народ. Законодателей приучили видеть в каждом крушении планов предпринимателей победу общего блага над эгоистичными интересами паразитов. Рабочему внушили, что его усердие служит только росту прибылей, что его долг перед собственным классом и историей -- трудиться сколь можно более вяло. Сторонники законодательной защиты труда исходят из неудовлетворительной теории заработной платы. Они с негодованием отвергают аргументы Сениора против законодательного регулирования продолжительности рабочего времени, но не в силах противопоставить ничего значимого тем выводам, к которым он пришел для стационарных условий. {Сениор Нассау Вильям (1790--1864) -- английский экономист. Будучи в 30-е годы членом ряда правительственных комиссий по вопросам труда, выступал против фабричного законодательства, в частности против ограничения рабочего дня 10 часами. По Сениору, на создание прибыли капиталиста уходит часть рабочего дня, пропорциональная доле прибыли в валовом продукте. Согласно расчетам Сениора, эта доля равна 2/23, что соответствует одному часу из рабочего дня средней для английской промышленности того времени продолжительности в 11 с половиной часов. Поэтому сокращение рабочего дня даже на час приведет к полному исчезновению прибыли.} Неспособность школы катедер-социалистов разобраться в экономических проблемах особенно явно демонстрирует Брентано. О том, до какой степени он не в состоянии постичь связь размера заработной платы и эффективности труда, видно из сформулированного им собственного "закона": высокая заработная плата увеличивает продукт труда, а низкая заработная плата уменьшает его. Но ведь ясно, что хорошая работа просто оплачивается лучше, чем плохая [Brentano, Uber das Verhaltnis von Arbeitslohn und Arbeitszeit zur Arbeitsleistung, S. 11, 23 ff. <Брентано Л., Указ. соч., С. 15, 26 и след.>, Brentano, Arbeitszeit und Arbeitslohn nach dem Kriege, Jena, 1919, S 10; см. также Stucken, Theorie der Lohnsteigerung, Schmollers Jahibuch, 45 Jahig, S. 1152 ff.]. Эта ошибка делается еще более очевидной, когда он заявляет, что сокращение рабочего времени есть причина, а не результат роста производительности труда. Маркс и Энгельс, отцы немецкого социализма, хорошо понимали, насколько важна для распространения разрушительных идей борьба за рабочее законодательство. В "Учредительном манифесте Международного товарищества рабочих" говорится, что билль о 10-часовом рабочем дне в Англии "был не только важным практическим успехом, но и победой принципа; впервые политическая экономия буржуазии открыто капитулировала перед политической экономией рабочего класса" [Die Inauguraladresse der Intemationalen Arbeiterassoziation, herausgegeben von Kautsky, Stuttgart, 1922, S. 27 <Маркс К., Энгельс Ф., Соч., Т. 16, С. 9>]. За двадцать лет с лишком до этого Энгельс в еще более чистосердечных выражениях признал деструкционистский характер билля о 10-часовом рабочем дне. {После многолетней борьбы билль о 10-часовом рабочем дне был принят английским парламентом в 1847 г. Введенное им ограничение продолжительности рабочего дня касалось подростков моложе 18 лет и женщин, но именно эти группы составляли основную часть фабричной рабочей силы того времени.} Он не смог не согласиться, что контраргументы предпринимателей были наполовину верны. Этот закон, полагал Энгельс, приведет к сокращению заработной платы и сделает английскую промышленность неконкурентоспособной. Но это его не беспокоило. "Разумеется, -- добавлял он, -- если бы дело не пошло дальше десятичасового билля, Англии грозило бы разорение; но поскольку он неизбежно влечет за собой другие мероприятия, которые должны направить Англию на совершенно иной путь, чем тот, по которому она до сих пор шла, этот билль означает шаг вперед" [Engels, Die Lage der Arbeitenden Klasse in England, 2 Aufl., Stuttgart, 1892, S. 178 <Энгельс Ф., Положение рабочего класса в Англии // Маркс К., Энгельс Ф., Соч., Т. 2, С. 403--404>]. Если английская промышленность уступит иностранным конкурентам, революция станет неизбежной [Ibid., S. 297 <там же, С. 514>]. В более поздней статье он говорит о билле о 10-часовом рабочем дне: "Это уже не отдельная попытка парализовать промышленное развитие, это одно из звеньев в длинной цепи мероприятий, которые должны совершенно преобразовать современный строй общества и постепенно уничтожить существующие до сих пор классовые противоречия, это уже не реакционное, а революционное мероприятие" [Engels, Die englische Zehnstundenbill // Aus dem literarischen Nachlass von Kari Marx, Friedrich Engels und Ferdinand Lassalle, III Bd., S. 393 <Энгельс Ф., Английский билль о десятичасовом рабочем дне // Маркс К., Энгельс Ф., Соч., Т. 7, С. 254>]. Фундаментальную важность борьбы за рабочее законодательство нельзя недооценивать. Но Маркс и Энгельс, как и их либеральные оппоненты, переоценили непосредственный деструктивный потенциал отдельных мероприятий. Главные успехи в деле разрушения общества были достигнуты на других направлениях. 3. Принудительное социальное страхование Существом программы германского этатизма было социальное страхование. Но народы за пределами Германской империи также начали видеть в социальном страховании высшее достижение политической проницательности и мудрости государственных деятелей. И если некоторые ограничиваются простым восхвалением волшебных результатов, которых удалось достичь с помощью этих институтов, то другие укоряют их за половинчатость, за то, что ими охвачены не все слои народа и что имеющие преимущества получают не все то, что, по их мнению, должны бы. Говорилось, что социальное страхование нацелено, в конечном счете, на то, чтобы дать каждому гражданину должный уход и лучшее медицинское обслуживание во время болезни, нужную помощь в случае нетрудоспособности от несчастного случая, болезни, старости или при невозможности найти работу на должных условиях. Никакое упорядоченное общество не было столь бессердечно, чтобы позволить бедным и беспомощным умирать с голоду. Всегда были некие установления, нацеленные на спасение от нищеты тех, кто не способен самостоятельно содержать себя. По мере того как вместе с развитием капитализма увеличивалась обеспеченность общества, улучшалась система помощи беднякам. Одновременно изменялась и правовая основа этой помощи. Что прежде было актом милосердия, которого бедняки не могли требовать, теперь стало долгом общины. Были приняты меры по обеспечению помощи бедным. Но в первое время остерегались узаконения притязаний бедняков на поддержку и содержание. Мало думали и о том, чтобы снять клеймо постыдности с тех, кто жил на средства общины. Это не было проявлением бессердечия. Дискуссии по поводу английского закона о бедных показывают, что люди отлично сознавали немалые опасности для общества от расширения программ помощи бедным. {Закон о бедных, основанный на акте 1601 г., возлагал заботу о содержании бедных на приход. В начале 30-х годов XIX в. законодательство о бедных стало предметом обсуждения и в прессе, и в специально созданной комиссии. Комиссия пришла к выводу, что система поддержки малоимущих, многодетных и безработных разорительна для страны, тормозит развитие промышленности и дурно действует на нравственность масс. В 1834 г. парламент принял новый закон о бедных, отменивший все денежные и продуктовые пособия беднякам и предусмотревший широкое создание работных домов для нуждающихся.} Германское социальное страхование очень отличается от подобных установлений других государств. {Впервые в мире система государственного социального страхования была создана в Германии при рейхсканцлере Отто Бисмарке. Законами от 1883, 1884 и 1889 гг. было введено страхование работников от несчастных случаев, предусмотрены выплаты при болезни, пенсии по старости и инвалидности.} Средства к существованию -- это иск, на удовлетворении которого можно настаивать по закону. Предъявитель иска тем самым не роняет своей репутации. Он -- государственный пенсионер подобно королю или его министрам, или получатель страховых платежей, такой же, как любой другой, заключивший контракт о страховании. Несомненно, что он может смотреть на выплаты как на эквивалент своего собственного вклада. Ведь страховые взносы всегда идут за счет заработной платы независимо от того, платит их предприниматель или сами рабочие. То, что уплачивает предприниматель в страховые фонды, -- это всего лишь налог на предельную производительность труда, а значит, и средство сокращения денежной заработной платы. Когда страховые выплаты осуществляются из налоговых поступлений, их оплачивает, конечно же, сам рабочий -- прямо или косвенно. Для проповедников социального страхования, как и для политиков и государственных деятелей, проводивших его в жизнь, здоровье и болезнь представлялись двумя состояниями человеческого тела, резко отделенными друг от друга, так что всегда без трудностей и сомнений можно распознать -- что же перед тобой. "Здоровье" -- это состояние, признаки которого твердо установлены и которое может быть диагностировано любым врачом. "Болезнь" -- это телесное явление, не зависящее от человеческой воли и не поддающееся ее воздействию. Всегда есть люди, которые по тем или иным причинам симулируют болезнь, но доктор благодаря знаниям и имеющимся в его распоряжении средствам может разоблачить подделку. Только здоровый человек является вполне работоспособным. Работоспособность больного понижается в соответствии с тяжестью и характером болезни, и предполагается, что доктор может по объективно контролируемым физиологическим изменениям установить степень снижения работоспособности. Сегодня ясно, что каждое утверждение этой теории ложно. Не существует отчетливой границы между здоровьем и болезнью. Болезнь неким образом зависит от сознательной воли и подсознательно действующих психических сил. Работоспособность человека не связана однозначно и просто с его физическим состоянием; в большой степени это функция его сознания и воли. Так вся идея о возможности отделить с помощью медицинских обследований больных от здоровых и симулянтов, а трудоспособных от инвалидов оказалась несостоятельной. Тот, кто верил, что страхование от несчастных случаев и по болезни сможет опереться на объективные методы диагностики, очень заблуждался. Разрушительные свойства системы страхования по болезни и от несчастных случаев заключались, прежде всего, в том, что система поощряла несчастные случаи и болезни, замедляла выздоровление и зачастую создавала (или, по крайней мере, усиливала и растягивала во времени) функциональные нарушения, которые следуют обычно за болезнью или несчастным случаем. Такие редкие болезни, как травматические неврозы, которые стали плодиться уже в результате законодательного регулирования исков о компенсации по несчастным случаям, под воздействием принудительного социального страхования обратились в общенациональные эпидемии. Сейчас уже нельзя отрицать, что травматические неврозы есть результат социального законодательства. Статистика показывает, что застрахованные пациенты преодолевают последствия травм дольше, а осложнениям и постоянным функциональным расстройствам подвержены сильнее, чем незастрахованные. Страхование против болезней плодит болезни. Как индивидуальные наблюдения врачей, так и статистика показывают, что чиновники, штатные работники и принудительно застрахованные граждане оправляются от травм и болезней медленнее, чем незастрахованные и лица свободных профессий. Желание побыстрее выздороветь и нужда в скорейшем восстановлении работоспособности помогают выздоровлению столь сильно, что это делается доступным для наблюдения [Like, Der Arzt und seine Sendung, 4 Aufl., Munchen, 1927, S. 54 <Лиек Э., Врач и его призвание: Мысли еретика, Днепропетровск, 1928, С. 113> {в русском сокращенном переводе место, на которое ссылается Мизес, опущено, но аналогичная мысль изложена и на другой странице, представленной в переводе, -- на нее и дана ссылка}; Liek, Die Schaden der sozialen Versicherung, 2 Aufl., Munchen, 1928, S. 17 ff., см. также растущую день ото дня массу медицинских публикаций]. Чувствовать себя здоровым -- совсем не то же самое, что быть здоровым с точки зрения медицины, а работоспособность во многом не зависит от физиологически проверяемой и измеримой деятельности внутренних органов. Тот, кто не жаждет быть здоровым, не является просто симулянтом. Это -- больная личность. Если ослаблено желание быть здоровым и работоспособным, болезнь и все остальное -- придут. Ослабляя или полностью разрушая волю к благополучию и трудоспособности, социальное страхование плодит болезни и инвалидность; оно порождает привычку жаловаться, что само по себе является неврозом, и другие формы неврозов. Короче говоря, это установление, которое множит болезни и травмы и существенно ухудшает их психофизиологические последствия. Институт страхования делает людей больными телесно и психически или, по крайней мере, удлиняет и утяжеляет течение болезней. Психические силы, действующие в человеке, как и в каждом живом существе (в смысле желания и стремления быть здоровым и трудоспособным), так или иначе зависят от социальной ситуации, в которой человек находится. Некоторые ситуации усиливают их, другие ослабляют. Социальная атмосфера африканского племени, живущего охотой, определенно настроена на стимулирование этих сил. То же самое верно для совершенно отличной ситуации, в которой находятся граждане капиталистического общества, основанного на разделении труда и частной собственности. Напротив, общественный строй ослабляет эти силы, если он обещает, что в случае травмы или болезни индивидуум будет жить, не работая или работая мало, и при этом не претерпит существенного сокращения доходов. Дело обстоит не столь просто, как это представляется наивным экспертам по патологии -- тюремным и армейским врачам. Социальное страхование превратило неврозы застрахованных граждан в опасную болезнь народа. При распространении и развитии страхования эта болезнь также будет распространяться. И никакие реформы тут не помогут: мы не можем подрывать волю к здоровью, не порождая болезни. 4. Профсоюзы При оценке экономических и социальных последствий профсоюзного движения фундаментальное значение имеет вопрос: может ли рабочее движение, развивающееся в среде рыночной экономики, с помощью механизма коллективных переговоров и создания ассоциаций преуспеть в обеспечении постоянно высокой заработной платы для всех рабочих? На этот вопрос экономическая теория, как классическая (включая ее марксистское крыло), так и современная (включая ее социалистическое крыло), отвечает категорическим нет. Общественное мнение убеждено, что факты доказали эффективность профсоюзного движения, потому что уровень жизни масс неуклонно возрастал в последние столетия. Но экономисты совершенно иначе объясняют этот факт. Согласно их подходу улучшение обязано прогрессу капитализма, неустанному накоплению капитала и как результат -- росту предельной производительности труда. Нет сомнения, что верить следует скорее взглядам экономистов, подтверждаемым действительным ходом развития, чем наивным представлениям людей, которые убеждены, что post hoc ergo propter hoc {post hoc ergo propter hoc -- после того значит вследствие того (лат.)} Конечно, этого совершенно не понимали ни тысячи достойнейших лидеров рабочего движения, которые посвятили свою жизнь организации профсоюзов, ни многие знаменитые филантропы, защищавшие профсоюзное движение как краеугольный камень будущего общества. Истинной трагедией капиталистической эпохи стало то, что эти взгляды оказались ложными и что профсоюзное движение превратилось в самое важное оружие разрушения общества. Социалистическая идеология настолько успешно затуманила природу и особенности профсоюзов, что стало сложно понять, что же такое профсоюзы и чем они занимаются. Публика все еще склонна истолковывать проблему рабочих союзов так, как если бы речь шла о свободе объединений и о праве на забастовку. Но уже десятилетия нет вопроса о том, следует ли предоставлять рабочим свободу создавать ассоциации или право прерывать работу -- даже в нарушение трудового соглашения. Ни одно законодательство не отрицает этих прав, поскольку законные наказания за приостановку работы в нарушение соглашения на практике малодейственны. Так что даже самые яростные адвокаты деструкционизма едва вспоминают о праве рабочих на нарушение трудовых соглашений. Когда не так давно некоторые страны, и среди них Великобритания, колыбель современных профсоюзов, попытались ограничить власть профсоюзов, они и в мыслях не имели урезать то, что принято считать неполитической активностью профсоюзов. Закон 1927 г. попытался запретить общенациональные забастовки и забастовки в поддержку других профсоюзов, но ни в какой форме не касался свободы ассоциаций или права на забастовку ради повышения заработной платы. {С 4 по 12 мая 1926 г. по призыву конференции исполкомов профсоюзов в Великобритании прошла всеобщая стачка. Стачка проводилась в поддержку бастующих горняков. 11 мая Верховный суд объявил ее незаконной. По следам стачки 28 июля 1927 г. был принят Закон о промышленных конфликтах и тред-юнионах, запретивший всеобщие стачки и стачки солидарности. Он просуществовал до 1946 г.} Общенациональная забастовка и сторонниками, и противниками всегда рассматривалась как дело революционное или в сущности как сама революция. Жизненно важным элементом такой забастовки является более или менее полный паралич всей экономической жизни общества для достижения некоторых желаемых целей. Насколько успешной может быть всеобщая стачка, показал капповский путч, поддержанный как армией Германии, так и незаконными вооруженными формированиями, сумевший изгнать из столицы правительство страны, но в несколько дней сломленный общей стачкой. {13 марта 1920 г. немецкие монархисты и милитаристы, опираясь на части рейхсвера и так называемые "добровольческие корпуса" -- военизированные формирования, состоящие в основном из бывших фронтовиков, подняли антиправительственный мятеж. Войдя в Берлин, путчисты сформировали свое правительство во главе с Вольфгангом Каппом (1868--1922) -- крупным помещиком, лидером "Партии отечества". Президент и законное правительство бежали в Штутгарт. Профсоюзы призвали ко всеобщей стачке. Стачка, в которой приняло участие 12 млн. человек, сыграла решающую роль в разгроме путча, с которым было покончено во всей Германии за 5 дней. Капп бежал в Швецию.} В этом случае всеобщая стачка была использована как оружие защиты демократии. Но ведь не имеет значения, согласны вы или нет с целями профсоюзов. Факт тот, что в стране, где профсоюзы достаточно сильны, чтобы организовать всеобщую стачку, высшая власть принадлежит не парламенту и зависящему от него правительству, но профсоюзам. Именно понимание реального значения профсоюзного движения подсказало французским синдикалистам их основную идею, что для прихода к власти политические партии должны использовать насилие. Нельзя забывать, что философия насилия, которая пришла на смену миротворческому учению либерализма и демократии, началась как философия профсоюзов. Прославление насилия, столь характерное для политики русских советов, итальянского фашизма и германского нацизма, которое сегодня серьезно угрожает всем демократическим правительствам, имело источником учение революционного синдикализма. Проблемой профсоюзной жизни является принуждение к совместным действиям и забастовкам. Профсоюзы претендуют на право изгонять с работы всех, кто не хочет действовать вместе с ними и кому они отказали в приеме в профсоюз. Они претендуют на право прерывать работу по своему решению, а также на то, чтобы не давать никому занять рабочие места бастующих. Они претендуют на право предотвращать противодействие своим действиям и применять насилие к несогласным, а также любое насилие для достижения успеха. Каждое объединение становится более бюрократизированным и осторожным в поведении, когда его лидеры стареют. Боевые союзы утрачивают желание нападать и теряют способность стремительными действиями одолевать врагов. Армии милитаристских государств, прежде всего армии Австрии и Пруссии, опять и опять получали урок того, что с престарелыми вождями побеждать трудно. Профсоюзы не исключение из этого правила. Вполне может оказаться, что некоторые из старейших и наиболее развитых отрядов профсоюзного движения временно утратили разрушительную страсть к агрессии и готовность к сражениям. Так что когда пожилые лидеры сопротивляются разрушительной политике пылкой молодежи, инструмент деструкции на какое-то время становится инструментом поддержания status quo {status quo -- существующее положение (лат.)} Как раз по этой причине радикалы постоянно срамили профсоюзы, а профсоюзы обращались к помощи несоциалистических классов общества, когда они нуждались в поддержке для принудительной юнионизации. Но эти передышки в разрушительной борьбе профсоюзов всегда были короткими. Опять и опять верх одерживали те, кто призывал к непрерывному сражению против капиталистического устройства общества. Сторонники насилия либо вытесняли старых лидеров профсоюзов, либо создавали вместо старых организаций новые. Иначе и быть не могло. Ведь в соответствии с основной идеей профсоюзного движения профессиональные союзы рабочих мыслимы только как орудия разрушения. Как было показано, солидарность членов профсоюзов может опираться только на идею борьбы за уничтожение общественного строя, основанного на частной собственности на средства производства. Не только практическая деятельность профсоюзов, но и их теоретическая основа -- деструкционизм. Краеугольный камень юнионизма -- принудительное членство. Рабочие отказываются работать с теми, кто принадлежит к не признаваемой ими организации. Они добиваются увольнения нечленов профсоюза угрозой забастовки, а если это окажется недостаточным, то забастовкой. Уклоняющихся от вступления иногда принуждают с помощью грубого обращения. Нет нужды распространяться, что это насильственное нарушение свободы личности. Все софизмы защитников профсоюзного деструкционизма не смогли изменить в данном отношении общественного мнения. Когда время от времени особенно тяжкие примеры насилия против нечленов профсоюзов делаются известными, даже те газеты, которые всегда более или менее поддерживают деструкционистские партии, вынуждены протестовать. Оружие профсоюзов -- забастовка. Следует ясно представлять, что каждая стачка есть акт насилия, форма вымогательства, средство принуждения по отношению к тем, кто может помешать намерениям бастующих. Ведь забастовка окончится проигрышем, если предприниматель сможет заменить забастовщиков другими рабочими или если забастует только часть рабочих. Альфа и омега профсоюзных прав -- возможность применения против штрейкбрехеров самого примитивного насилия. Нас здесь не интересует, как именно профсоюзы в разных странах добыли это право. Достаточно сказать, что в последние десятилетия им это удалось повсеместно, и не столько в результате явных законодательных решений, сколько в силу молчаливой терпимости к такой практике со стороны властей и суда. В Европе годами было невозможно сломить забастовку с помощью найма штрейкбрехеров. Длительное время удавалось по крайней мере избегать забастовок на железных дорогах, в электроэнергетике, водоснабжении и на важнейших предприятиях городского жизнеобеспечения. Но и здесь идеология разрушения, наконец, одержала верх. Если это понадобится профсоюзам, они угрозой обречь на голод и жажду, холод и тьму смогут принудить к покорности города и страны. Они могут отлучить от типографских машин не нравящиеся им газеты; они могут прекратить доставку по почте нежелательных им изданий и писем. Если они захотят, рабочие будут беспрепятственно саботировать, повреждать орудия и предметы труда, работать так медленно и плохо, что их труд потеряет всякую ценность. Никто еще не доказал полезности профсоюзов. Нет теории заработной платы, из которой следовало бы, что профсоюзы обеспечивают непрерывный рост реального дохода рабочих. Сам Маркс был далек от предположения, что профсоюзы могут как-либо повлиять на заработную плату. Выступая в 1865 г. перед Генеральным Советом Интернационала [в переводе на немецкий этот доклад был опубликован Бернштейном под названием "Заработная плата, цена и прибыль"; я цитирую по третьему изданию, которое появилось во Франкфурте в 1910 г.], Маркс пытался привлечь своих товарищей к совместным действиям с профсоюзами. Эта цель сквозит в первых словах его выступления. Представление, что стачками нельзя добиться увеличения заработной платы, -- популярное во Франции среди прудонистов и в Германии среди лассальянцев -- вызывало, по его словам, "возмущение рабочего класса". Но его великолепные тактические способности, которые за год до этого позволили ему в "Учредительном манифесте Международного товарищества рабочих" соединить в одной программе самые различные взгляды на природу, цели и задачи рабочего движения, были брошены в игру ради соединения профсоюзного движения с Интернационалом. Это и побудило его высказать все, что можно в пользу профсоюзов. Тем не менее, ему достало осторожности не связывать себя утверждением, что профсоюзы могут обеспечить непосредственное экономическое улучшение положения рабочих. Он считал, что профсоюзы должны возглавить борьбу с капитализмом. Судя по тому, чего он ожидал от выступления профсоюзов, не приходится сомневаться в отведенной им роли. "Вместо консервативного девиза "Справедливая заработная плата за справедливый рабочий день" рабочие должны написать на своем знамени революционный лозунг: "Уничтожение системы наемного труда!" Они терпят неудачу, поскольку ограничиваются партизанской борьбой против следствий существующей системы, вместо того чтобы одновременно стремиться изменить ее, вместо того чтобы использовать свои организованные силы в качестве рычага для окончательного освобождения рабочего класса, т. е. окончательного уничтожения наемного труда" [Marx, Lohn, Preis und Profit. S. 46 <Маркс К., Энгельс Ф., Соч., Т. 16, С. 154--155>]. Маркс едва ли мог яснее сказать, что для него профсоюзы не более чем орудие разрушения капиталистического общества. Эмпирически-реалистическим политэкономам и ревизионистам марксизма остается утверждать, что профсоюзам удавалось постоянно удерживать заработную плату выше того уровня, который существовал бы без профсоюзов. Эту идею не нужно даже оспаривать, потому что никто и не пытался теоретически ее обосновать. Она остается совершенно бездоказательным утверждением, которое вовсе не принимает в расчет взаимосвязь экономических факторов. Профсоюзная политика забастовок, насилия и саботажа не может претендовать ни на какие заслуги в улучшении положения рабочих [Adolf Weber, Der Kampf zwischen Kapital und Arbeit, 3 und 4 Aufl., Tubingen, 1921, S. 384 ff.; Robbins, Wages, London, 1926, S. 58 ff.; Hutt, The Theory of Collective Bargaining, London, 1930, P. 1 ff.; см. также мою работу Kritik des Interventionismus, Jena, 1929, S. 12 ff., 79 ff., 133 ff.]. Она только расшатывает до основания искусно выстроенное здание капиталистической экономики, в которой день ото дня повышается жизненный уровень всех, вплоть до беднейших рабочих. Да и действует эта политика не в интересах социализма, а в интересах синдикализма. Если бы рабочие отраслей, не имеющих, так сказать, жизненно важного значения, сумели добиться заработной платы большей, чем диктуется ситуацией на рынке, это привело бы в движение силы по восстановлению нарушенного рыночного равновесия. Если, однако, рабочие жизненно важных отраслей смогли бы с помощью забастовки или угрозы забастовки добиться для себя выполнения требований о более высокой заработной плате, а также удовлетворения иных претензий, выдвигающихся рабочими других отраслей, положение стало бы совсем иным. Мало сказать, что эти рабочие стали бы действительными монополистами, поскольку то, о чем идет речь, лежит за пределами понятия рыночной монополии. Если забастуют работники всех транспортных предприятий и при этом еще сумеют заранее расстроить все попытки им помешать, они станут абсолютными тиранами на соответствующих территориях. Могут сказать, что они будут пользоваться своей властью сдержанно, но это не изменяет того факта, что они обладают властью. При таком раскладе в стране будут только два сословия: члены профсоюзов жизненно важных отраслей и все остальные, которые станут бесправными рабами. Так мы придем к обществу, в котором "незаменимые рабочие с помощью насилия господствуют над остальными классами" [Каутский, цит. по: Dietzel, Ausbeutung der Arbeiterklasse durch Arbeitcrgruppen, Deutsche Arbeit, 4 Jahrg., 1919, S. 145 ff.]. И возвращаясь еще раз к вопросу о власти, хорошо бы внимательно посмотреть, на чем держится эта власть, да и любая другая. Власть организованных в профсоюзы рабочих, перед которой сейчас трепещет весь мир, держится на той же самой основе, что и власть всех других тиранов во все времена; это не что иное, как продукт идеологии. Десятилетиями людям вдалбливали: профсоюзы полезны и необходимы отдельным людям, так же как и обществу; только болезненный эгоизм эксплуататоров может мечтать о поражении профсоюзов; забастовщики всегда борются за правое дело, и нет худшего позора, чем штрейкбрехерство; попытки защитить желающих работать, когда все бастуют, безнравственны. Поколение, получившее воспитание в последние десятилетия, с детства усвоило, что важнейший общественный долг рабочего -- быть членом профсоюза. Стачка стала означать своего рода святое действо, социальное таинство. На этой идеологии и базируется власть рабочих союзов. Она непременно рухнет, когда эту идеологию сменят другие взгляды на значение и достижения профсоюзного движения. Именно поэтому самые сильные профсоюзы вынуждены использовать свою власть особенно осторожно. Ведь слишком давя на общество, они заставят людей размышлять о природе и результатах профсоюзной деятельности, что приведет к пересмотру и отвержению господствующего сегодня учения. Так обстоит дело со всеми носителями власти, и профсоюзы здесь не исключение. Одно совершенно ясно: если бы когда-либо состоялось тщательное рассмотрение права на забастовку рабочих жизненно важных отраслей, доктрина профсоюзных организаций об обязательном участии всех рабочих в забастовке лопнула бы, а такие штрейкбрехерские организации, как "Technische Nothilfe", сорвали бы все аплодисменты, которые сегодня расточаются забастовщикам. {"Technische Nothilfe" -- "Техническая помощь в беде" (нем.) -- существовавшая в Германии с 1919 по 1945 г. добровольческая организация, члены которой выполняли работы на транспорте, на предприятиях энергоснабжения, в других службах жизнеобеспечения при забастовках, локаутах и стихийных бедствиях. До 1939 г. она числилась при министерстве внутренних дел, а затем была объявлена независимой общественной организацией.} Возможно, что в сражениях, которые могут произойти вследствие этого, общество будет разрушено. Но нет никаких сомнений, что общество, поощряющее деятельность профсоюзов в соответствии с ныне господствующими воззрениями, стоит на верном пути к саморазрушению в самое ближайшее время. 5. Страхование по безработице Помощь безработным проявила себя как одно из действеннейших орудий деструкционизма. Система страхования по безработице создавалась на основании той же логики, что и система страхования по болезни и от несчастных случаев. Безработицу рассматривали как неудачу, обрушивающуюся на человека подобно лавине, накрывающей долину. Никому не пришло в голову, что правильнее говорить о страховании заработной платы. Ведь то, о чем сожалеет безработный, -- не работа, а вознаграждение за работу. Не понимают, что дело вовсе не в том, что "безработные" вообще не могут найти какую-либо работу, а в том, что они не желают работать за ту заработную плату, которая предлагается на рынке труда за то, что они могут и хотят делать. Ценность системы страхования по болезни и от несчастных случаев потому проблематична, что застрахованный может быть заинтересован в создании или обострении ситуации, с которой связана выплата страховки. В случае страхования по безработице страхуемая ситуация наверняка не может возникнуть, если застрахованный сам этого не захочет. Если бы он не вел себя как член профсоюза, а снизил бы требования, изменил место жительства или профессию в согласии с требованиями рынка труда, то тогда смог бы найти работу. Пока мы живем в реальном мире, а не в стране беспредельной мечты, труд остается редким благом. Иными словами, спрос на труд будет всегда. Безработица -- проблема заработной платы, а не работы. От безработицы так же нельзя застраховать, как, например, от затруднений со сбытом товаров. Это, конечно, неправильный термин -- страхование от безработицы. Статистически обосновать такой вид страхования невозможно. Многие страны осознали это и отбросили слово "страхование" или, по крайней мере, игнорируют выводы из него. Теперь речь идет о незамаскированной "помощи". Она позволяет профсоюзам поднимать заработную плату до такого уровня, что только часть желающих работать может найти рабочее место. Помощь безработным и есть то самое, что порождает безработицу как постоянное явление. В настоящее время многие европейские страны отпускают для этой цели суммы, существенно превосходящие бюджетные возможности. Тот факт, что почти в каждой стране существует постоянная массовая безработица, рассматривается общественным мнением как твердое доказательство, что капитализм не способен решать экономические проблемы, а значит, необходимы правительственное вмешательство, тоталитарное планирование и социализм. Этот аргумент делается неотразимым, когда люди вспоминают, что единственная большая страна, которая не страдает от безработицы, -- это коммунистическая Россия. Логическая сила этого аргумента, однако, очень слаба. Безработица в капиталистических странах существует потому, что политика правительств и профсоюзов направлена на поддержание такого уровня заработной платы, который не соответствует существующей производительности труда. Действительно, сколько можно видеть, в России нет широкомасштабной безработицы. Но уровень жизни русского рабочего много ниже, чем получателя пособия по безработице в капиталистических странах Запада. Если бы британские или другие европейские рабочие согласились на заработную плату более низкую, чем в настоящее время, но все-таки в несколько раз превышающую зарплату русского рабочего, безработица исчезла бы и в этих странах. Безработица в капиталистических странах не доказывает неэффективности капиталистической экономики, так же как отсутствие безработицы в России не доказывает эффективности коммунистической системы. Но тот факт, что массовая безработица существует почти в каждой капиталистической стране, есть самая значительная угроза сохранению капиталистической системы. Постоянная массовая безработица разрушает моральные основы общественного порядка. Молодые люди, завершившие обучение и обреченные на досуг, представляют собой "закваску" для большинства радикальных политических движений. Из них рекрутируются солдаты грядущей революции. В этом трагизм нашей ситуации. Друзья профсоюзов и политики пособий по безработице честно верят, что нет другого способа поддерживать приличные условия жизни масс, чем политика профсоюзов. Они не видят, что в длительной перспективе все усилия удержать заработную плату на более высоком уровне, чем диктуемый предельной производительностью труда, ведут к безработице, а пособия по безработице только увековечивают ту же безработицу. Они не видят, что помощь жертвам -- пособия по безработице и общественные работы -- ведет только к проеданию капитала, а оно со временем отзовется дальнейшим снижением уровня заработной платы. Ясно, что при настоящих условиях нет возможности уничтожить одним ударом пособия по безработице и другие, менее важные способы помощи безработным, например общественные работы. Одна из неприятнейших черт государственного вмешательства та, что очень трудно повернуть процесс в обратную сторону: отказ от вмешательства создает проблемы, которые почти невозможно разрешить удовлетворительным образом. Сейчас величайшая проблема интервенционизма -- как найти выход из лабиринта интервенционистской политики. Ведь то, что делалось в последние годы, есть лишь попытка замаскировать результаты экономической политики, которая привела к снижению производительности труда. Теперь необходим в первую очередь возврат к политике, которая бы обеспечивала рост производительности труда. Это предполагает, конечно, полный отказ от протекционизма, от налогов на импорт и импортных квот. Нужно восстановить условия, при которых труд мог бы свободно перетекать из отрасли в отрасль, из страны в страну. Не капитализм несет ответственность за зло постоянной массовой безработицы, а политика, которая парализует работу капитализма. 6. Обобществление Либерализм устранил государственное производство товаров и государственную собственность в народном хозяйстве. Почтовая служба была едва ли не единственным исключением из общего правила, что средства производства должны находиться в частных руках, а все виды хозяйственной деятельности должны вестись исключительно частными лицами. Защитники этатизма преодолели массу трудностей, чтобы обосновать целесообразность национализации почтовой и тесно с ней связанной телеграфной службы. На первое место они выдвигали политические аргументы. Но при обсуждении всех за и против государственного контроля почты и телеграфа обычно смешивают две вещи, которые следовало бы рассмотреть раздельно: вопрос о единстве сети услуг и о передаче этой сети государству. Никто не отрицает, что почта и телеграф являют превосходные возможности для объединения, и даже при полной свободе неизбежно образование трестов, что приведет фактически к монополиям, охватывающим по меньшей мере определенные края. Ни в каких других предприятиях преимущества концентрации не видны так ясно. Но из признания этого никак не следует, что именно государство должно получить законную монополию на предоставление таких услуг. Легко показать, что государственное управление неэкономично, что оно медлительно в деле расширения сети распространения писем и посылок и что нужно преодолеть немалые трудности, чтобы понудить его к улучшению деятельности. Но и в этой сфере огромный прогресс был достигнут по инициативе частных предпринимателей. В основном частным предприятиям мы обязаны развитию широкомасштабной системы телеграфа: в Англии телеграфная сеть была национализирована только в 1869 г., а в США она до сих пор в руках акционерных компаний. Подводные кабели большей частью принадлежат частным предприятиям. Даже немецкий этатизм колебался, не "освободить" ли государство от сотрудничества с частными предприятиями при прокладке подводного кабеля. Либералы того времени также защищали принцип полной свободы в оказании почтовых и телеграфных услуг и с немалым успехом вскрывали недостатки государственных предприятий [Millar, The Evils of State Trading as Illustrated by the Post Office, A Plea for liberty, Ed. by Mackay, 2nd ed., London, 1891, P. 305 ff.]. То, что, в конце концов, эти отрасли не были денационализированы, следует приписать только тому обстоятельству, что обладатели политической власти нуждались в почте и телеграфе для господства над общественным мнением. Армейские власти, которые повсюду достаточно неприязненны к предпринимателям, признали их превосходство, передав им заказы на изготовление оружия и снаряжения. Значительный прогресс военной техники начался с момента, когда, частные предприятия взялись за производство вооружений. Государство не могло отрицать, что предприниматели производят лучшее оружие, чем государственные служащие; доказательство этого на полях сражений было столь убедительным, что просветило даже самых упрямых сторонников государственной промышленности. В XIX столетии государственные арсеналы и верфи почти полностью исчезли либо были преобразованы в простые склады, а их место заняли частные предприятия. Защитники этатизма в парламенте и в литературе, требовавшие национализации оружейной промышленности, мало преуспели даже в период расцвета этатистской идеологии перед первой мировой войной. Генеральные штабы хорошо понимали преимущество частных предприятий. Некоторые доходные монополии, существовавшие с давних времен, не были уничтожены даже в эпоху либерализма -- ради интересов казны. Они сохранились, потому что на них смотрели как на удобный способ сбора налога на потребление. При этом ни у кого не было иллюзий относительно неэкономичности государственного предпринимательства, например, в управлении табачной монополией. Но прежде, чем либерализм смог совершить прорыв для внедрения своих принципов в эти отрасли, социализм повернул движение вспять. Первая в современный период волна национализации и муниципализации имела мало общего с современным социализмом. Большую роль в истоках движения сыграли старые идеи полицейского государства, а также чисто военные и политические соображения. Но скоро в этом движении начала доминировать социалистическая идеология. Оно превратилось в сознательную социализацию, которую проводили государства и муниципалитеты. Лозунгом было: долой неэкономичные частные предприятия, долой предпринимательство. Сначала на процесс национализации и муниципализации никак не влияла низкая эффективность социалистического производства. Предостерегающих голосов никто не слышал. Их перекрывали шумные настоятельные требования этатистов, социалистов и всех других заинтересованных элементов. Люди предпочитали не видеть недостатков правительственных предприятий, а потому и не видели их. Лишь одно обстоятельство ограничивало чрезмерную прыть врагов частного предпринимательства -- финансовые трудности большинства общественных предприятий. Политические причины мешали правительствам полностью перенести на потребителей высокие издержки государственного управления производством, в силу чего убытки эксплуатации были частым делом. Приходилось утешаться тем, что общие экономические и социально-политические преимущества государственных и муниципальных предприятий стоят жертв. Тем не менее, дальнейшую этатизацию стали проводить осторожнее. Замешательство правительственных экономистов сделало явным то, что они начали маскировать причины экономических провалов обобществленных предприятий. Убытки объяснялись особыми обстоятельствами вроде личных ошибок управляющих и неверных методов организации. Вновь и вновь приводили как образец хорошего управления прусские государственные железные дороги. Действительно, эти дороги приносили хорошую прибыль, но тут были особые причины. Пруссия построила самую важную часть сети государственных железных дорог в первой половине 80-х годов, в период чрезвычайно низких цен. Оборудование и расширение этой сети проведены в общем и целом до мощного подъема немецкой промышленности, который начался во второй половине 90-х годов. Так что не было ничего удивительного в том, что эти железные дороги приносили хорошую прибыль: загрузка сама по себе росла год от года, уголь был на каждом шагу, условия эксплуатации были благоприятными. Ситуация сложилась так, что они приносили прибыль, несмотря на то, что принадлежали государству. То же самое было с газом, водой и электроснабжением, с трамвайной сетью нескольких больших городов. Но выводы, которые из всего этого делались, были совершенно неверными. Вообще говоря, в результате национализации и муниципализации издержки эксплуатации пришлось возмещать за счет налогов. Так что можно смело сказать, что никакой другой лозунг не выдвигался в менее подходящий момент, чем требование Гольдшейда о "преодолении налогового государства". {Гольдшейд Рудольф (1870--1931) -- австрийский экономист.} Гольдшейд полагал, что финансовые сложности государства, вызванные мировой войной и ее последствиями, нельзя устранить старыми методами финансирования государственных расходов. Доход от налогообложения частных предприятий сокращается. Значит, нужно сделать государство собственником путем отчуждения капиталистических предприятий, чтобы государство смогло покрывать расходы из прибылей собственных предприятий [Goldscheid, Staatssozialismus oder Staatskapitalismus, Wien, 1917; Sozialiseirung der Wirtschaft oder Staatsbankerott, Wien, 1919; возражения см.: Schumpeter, Die Krise des Steuerstaates, Graz und Leipzig, 1918]. Здесь телега поставлена впереди лошади. Финансовые трудности возникли как раз потому, что налоги стали недостаточными для предоставления необходимых дотаций обобществленным предприятиям. Дальнейшая национализация предприятий не устранила бы зло, но усилила бы его. Бесприбыльность общественных предприятий и в самом деле перестала бы быть различимой в общей сумме бюджетного дефицита, но положение населения при этом ухудшилось бы. Бедность и нищета возросли бы, а не сократились. Чтобы справиться с финансовыми затруднениями государства, Гольдшейд предлагает довести социализацию до последнего конца. Но ведь финансовые неприятности наступили как раз вследствие того, что социализация уже зашла слишком далеко. Они исчезнут только с возвращением социалистических предприятий в частную собственность. Пришло время, когда невозможность двигаться дальше в том же направлении стала очевидной для всех, когда даже слепые "увидели", что социализм несет упадок всей цивилизации. Усилия центрально-европейских стран одним ударом социализировать все, были сорваны не сопротивлением буржуазии, а тем фактом, что дальнейшее обобществление стало невозможным по финансовым причинам. Систематическая, холодно обдуманная социализация, которая проводилась государствами и общинами перед войной, забуксовала из-за того, что результаты оказались очень уж наглядными. Продолжить ее под другим именем, как это пытались сделать комиссии по социализации в Германии и в Австрии, не удалось. Успех был невозможен, по крайней мере с использованием старых методов. Голос разума, убеждавший людей не делать ни шага дальше в этом направлении, нужно было заставить замолчать, критику -- устранить хмелем энтузиазма и фанатизма, оппонентов -- убить, поскольку другого способа переубедить их не было. Большевизм и спартакизм были последним оружием социализма. {В 1916 г. в Германии вокруг журнала "Интернационал" сложилась и организационно оформилась группа "Спартак", объединившая радикально настроенных социал-демократов. 11 ноября 1918 г. сразу же после свержения монархии, она преобразовалась в самостоятельную политическую организацию со своим ЦК -- "Союз Спартака". 28--29 декабря 1918 г., конференция спартаковцев объявила себя учредительным съездом Коммунистической партии Германии ("Союз Спартака"). Какое-то время за германскими коммунистами, возглавлявшимися К. Либкнехтом, Р. Люксембург, Ф. Мерингом и др., сохранялось имя спартаковцев.} В этом смысле они являются неизбежным результатом политики деструкционизма. 7. Налогообложение Для классического либерализма XIX века, который считал нужным оставить государству только вопросы безопасности личности и собственности граждан, проблема финансирования общественных услуг имела небольшое значение. Администрация либерального общества стоит так мало по сравнению с национальным доходом, что не столь уж важно, как именно собирать средства для ее содержания. Если либеральные авторы того периода все-таки занимались поиском лучшей системы налогообложения, то только из стремления наиболее рационально организовать общественную жизнь во всех ее деталях, а вовсе не потому, что видели здесь одну из главных проблем общества. Приходилось, конечно, принимать во внимание, что нигде в мире либеральные идеалы не были реализованы и что надежды на их полную реализацию в ближайшем будущем невелики. Но так как признаки либерализации были повсеместно очевидны, была надежда, что отдаленное будущее принадлежит либерализму. Силы прошлого были еще достаточно велики, чтобы замедлить процесс, но имелась уверенность, что они уже не смогут полностью остановить его или повернуть вспять. Либералы признавали, что еще существуют механизмы завоевания и насилия, еще есть армии, тайные дипломатические соглашения, войны, тарифы, государственное вмешательство в дела промышленности и торговли -- короче говоря, интервенционизм различного рода во внутренней и внешней политике, и потому народы должны быть готовы к тому, чтобы еще немалое время предоставлять значительные суммы на правительственные расходы. Вопросы налогообложения были малосущественны в чисто либеральном государстве, но в авторитарных государствах они приковывали растущее внимание. Либералы того времени, рекомендовали сокращение государственных расходов. Но раз уж этого добиться не удавалось, следовало найти такие способы сбора нужных средств, чтобы они причиняли ущерба не больше, чем абсолютно неизбежно. Чтобы правильно понять налоговые идеи либерализма, нужно иметь в виду, что для либеральных политиков всякий налог есть зло (хотя до известной степени и необходимое), а государственные расходы следует удерживать на возможно более низком уровне. Когда они рекомендовали использовать тот или иной налог, точнее говоря, когда они признавали его менее вредоносным, чем другие формы налогов, они всегда имели в виду сравнительно небольшие потребности казны. Низкий уровень налогообложения есть составная часть всех либеральных налоговых программ. Только это объясняет их отношение к подоходному налогу, который они первые сделали предметом обсуждения в контексте финансирования государственных расходов. Отсюда же идет готовность либералов освободить от налога доходы на уровне прожиточного минимума и понизить налоговые ставки на небольшие доходы [о неприязни либералов к идее прогрессивного налогообложения см. Thiers, De la Propriete, Paris, 1848, P. 352 ff.]. Социалистическая финансовая политика также представляет собой только временную конструкцию, рассчитанную исключительно на условия переходного периода. Для социалистического государства, где все средства производства принадлежат обществу, и все доходы попадают сначала в государственные сундуки, вопросы финансов и налогообложения вообще не существуют в том смысле, в каком с ними приходится иметь дело в обществе, основанном на частной собственности. Те формы социализма, которые подобно государственному социализму намерены сохранить видимость частной собственности, на деле также не будут нуждаться в налоговом механизме, хотя они, может быть, и захотят сохранить имя и легальные формы налогообложения. Они будут просто декретировать, какую часть общественного дохода, полученного на частных предприятиях, могут оставить себе номинальные собственники, а сколько следует отдавать государству. Здесь и речи не будет о налоговой системе, которая налагает определенные тяготы на индивидуальное предприятие, но предоставляет рынку выявить ее воздействие на цены и заработную плату, на уровень процента и ренты. Проблемы финансирования государственных расходов и налоговой политики существуют только там, где существует частная собственность на средства производства. Но и для социалистов финансирование государственных расходов делается все более важной проблемой по мере того, как переходный период от капитализма к новому обществу затягивается. И это неизбежно, поскольку они постоянно расширяют область, относящуюся к ведению государства, что ведет соответственно к росту расходов. В результате им приходится брать на себя ответственность за увеличение доходов государства. Социалистическая политика стала решающим фактором роста государственных расходов, социалистические требования определяют налоговую политику, и в социалистических программах проблема финансирования публичных расходов все больше выдвигается на первый план. Классическая экономическая школа, несмотря на все ошибки в теории ценности, серьезно продвинула теорию налогообложения. Когда либеральные политики критиковали существовавшее положение и предлагали реформы, они опирались на осуществленное Рикардо блистательное исследование предмета. {В своем основном труде "Начала политической экономии и налогового обложения", опубликованном в 1817 г., Д. Рикардо детально рассматривает влияние на экономику отдельных видов налогов: на сырье, на ренту, на землю, на прибыль, на заработную плату и т. д.} Социалистические политики подошли к делу много проще. У них не было собственного мнения по этому вопросу, а у классических авторов они выбирали то, что требовалось текущей политикой, -- изолированные замечания, вырванные из контекста и посвященные преимущественно частным особенностям налога на потребление. Они сымпровизировали варварскую систему, которая нигде и близко не подходила к решению основных проблем, но зато была так проста и понятна толпе. Налоги должны платить богатые: предприниматели, капиталисты, словом, -- другие; рабочие, т. е. избиратели, голоса которых были так ценны в тот момент, освобождались от уплаты налогов. Все налоги на потребительские товары массового спроса, даже на алкогольные напитки, предлагалось отменить, поскольку они обременяют людей. Прямые налоги можно поднимать сколь угодно высоко в зависимости от нужд правительства, лишь бы доходы и собственность рабочих оставались неприкосновенными. Защитникам этой популярной налоговой политики ни на миг не приходило в голову, что прямые налоги и налоги на торговлю могут запустить цепочку таких реакций, что в результате понизится уровень жизни тех самых классов, особые интересы которых предполагалось защитить. Люди нечасто задаются вопросом: не может ли ограничение капиталообразования в результате налогообложения собственности нанести ущерб и неимущим классам общества? Налоговая политика все больше вырождается в политику конфискаций. Ее цель -- изъять подчистую с помощью налогов все виды богатства и дохода от собственности. В этом походе на богатых к собственности, представленной в виде торговых и промышленных предприятий, акций и облигаций, относятся безжалостней, чем к земельной собственности. Налогообложение становится излюбленным орудием интервенционизма. Налоговые законы теперь не направлены в первую очередь или исключительно на увеличение государственных доходов; они больше служат не фискальным, а другим целям. Иногда их связь с финансовой политикой становится просто обратной по отношению к норме. Некоторые налоги начинают выглядеть как форма наказания за поведение, признанное вредным: налог на большие магазины должен затруднить универмагам конкуренцию с малыми лавками; налог на биржевые сделки задуман для ограничения спекуляций. Налоги делаются настолько многочисленными и разнообразными, что при всякой сделке следует прежде всего поразмыслить, как она скажется на величине налогов. Бессчетное множество деловых проектов пылится в столах, поскольку налоговый пресс сделал бы их неприбыльными. Во многих странах высокие пошлины на создание, поддержание, слияние и ликвидацию акционерных обществ серьезно стесняют развитие системы. Лучший путь к популярности для всяких демагогов -- постоянно требовать высоких налогов на богачей. Высокие налоги на капитал и на большие доходы чрезвычайно популярны в народе, который не должен их платить. Сборщики и налоговые инспектора выполняют свою работу с энтузиазмом; они склонны увеличивать величину налогов, используя разные хитрости толкования статей налоговых кодексов. Деструкционистская налоговая политика достигает кульминации при обложении капитала. Имущество сначала экспроприируется, а затем проедается. Капитал преобразуется в потребительские блага. Результаты всего этого понять несложно. И несмотря на это, вся популярная налоговая политика наших дней ведет сегодня именно к таким "достижениям". Конфискация капитала с помощью налоговой системы не является ни социалистической политикой, ни средством построения социализма. Она ведет не к обобществлению средств производства, а к их проеданию. Только когда конфискационное налогообложение осуществляется в социалистическом обществе, которое сохраняет имя и формы частной собственности, оно становится частью социалистической политики. Во времена "военного социализма" такие налоги дополняли меры экономического принуждения и помогали подталкивать развитие всей системы в сторону социализма [см. мою работу Nation, Staat und Wirtschaft, S. 134 ff.]. {Под "военным социализмом" Л. Мизес подразумевает введенную в годы первой мировой войны в Германии и Австро-Венгрии систему государственного регулирования производства и потребления.} В социалистической системе, где средства производства целиком и полностью обобществлены, исчезает сама возможность сохранения налогов на собственность или на доходы от собственности. Когда социалистическое общество облагает налогом своих членов, это никак не затрагивает распределения собственности на средства производства. Маркс неодобрительно отзывался о стремлениях изменить общественный строй с помощью налоговой политики. Он упорно настаивал на том, что налоговая реформа не может создать социализма [Mengelberg, Die Finanzpolitik der sozialdemokratischen Partei in ihren Zusammenhtagen mit dem sozialistischen Staatsgedanken, Mannheim, 1919, S. 30 ff.]. Его понимание роли налогов в капиталистическом обществе отличалось также и от представлений вульгарных социалистов. По одному поводу он сказал, что утверждение, "будто подоходный налог не затронет рабочих это явный абсурд: при существующей у нас в настоящее время социальной системе предпринимателей и наемных рабочих буржуазия в случае дополнительного обложения всегда компенсирует себя понижением заработной платы или повышением цен" [Marx-Engels, Gesammelte Schriften 1852--1862, Herg. v. Rjasanoff, Stuttgart, 1917, 1 Bd., S. 127 <Маркс К., Энгельс Ф., Соч., Т. 9, С. 65--66>]. Но уже "Коммунистический манифест" требовал "высокого прогрессивного налога", а социал-демократические партии всегда настаивали на самой радикальной налоговой политике. {Маркс и Энгельс в "Манифесте Коммунистической партии" называли высокий прогрессивный налог в числе десяти мероприятий, "которые экономически кажутся недостаточными и несостоятельными, но которые в ходе движения перерастают самих себя и неизбежны как средство для переворота во всем способе производства" (Маркс К., Энгельс Ф., Соч., Т. 4, С. 446).} И в этой области они развивались в направлении деструкционизма. 8. Инфляция Инфляция -- последнее слово деструкционизма. Большевики, -- с их неподражаемым даром рационализации чувства обиды и толкования поражений как побед -- представили свою финансовую политику как попытку уничтожить капитализм развалом денежной системы. Но инфляция, хоть и разоряет капитализм, не уничтожает частной собственности. Она может сильно изменить распределение богатств и доходов, разрушить тонко настроенный механизм производства, основанного на разделении труда, она может возродить натуральную экономику, если только не удастся использовать металлические деньги или хотя бы бартер. Но она не может ничего создать, в том числе и социалистический способ производства. Разрушая базу исчисления ценности -- возможность расчетов с использованием общего знаменателя цен, который бы не слишком колебался, по крайней мере в короткие промежутки времени, инфляция ломает систему денежного исчисления -- самое важное изо всех необходимых экономике изобретений. Пока она держится в некоторых границах, инфляция является отличной психологической опорой политики проедания капитала. При обычном, а, по сути, единственно возможном, методе капиталистического счетоводства инфляция создает иллюзию прибыли, когда на деле одни убытки. Предприниматели отталкиваются от прежней номинальной денежной цены и в результате слишком мало отчисляют на амортизацию основного капитала, а поскольку они учитывают номинальное возрастание стоимости оборотного капитала так, как если бы оно отражало реальное возрастание ценности, то в балансе возникают прибыли там, где при исчислении в стабильной валюте были бы убытки [см. мою работу Nation, Staat und Wirtschaft, S. 129 ff.]. Конечно же, инфляция не устраняет последствий дурной этатистской политики, войны и революции, но она позволяет скрыть их от глаз большинства. Люди говорят о прибыли, они полагают, что живут в период экономического процветания, и они даже приветствуют мудрую политику, которая явно делает каждого богаче. Но когда инфляция пересекает определенную точку, картина изменяется. Она начинает стимулировать деструкционизм не только косвенно, скрывая результаты деструкционистской политики; инфляция сама по себе становится одним из важнейших орудий разрушения общества. Она ведет всех к проеданию богатства; она отвращает от бережливости, а значит, останавливает процесс образования новых капиталов. Она стимулирует конфискационную налоговую политику. Обесценение денег поднимает номинальные цены товаров и как следствие -- номинальную денежную оценку капитала, что налоговое ведомство толкует как возрастание дохода и капитала. Номинально выросшие доходы и капитал подпадают в свою очередь под очередную налоговую конфискацию. Ссылка на кажущиеся высокими прибыли предпринимателей, отражаемые в бухгалтерских балансах, которая не учитывает процесс изменения стоимости денег, представляет собой отличный метод стимулирования массовой ярости. Это дает возможность представить всю предпринимательскую деятельность как спекуляцию, жульничество и паразитизм. Следующий за этим хаос, коллапс денежной системы под натиском несдерживаемого лавинообразного выпуска дополнительных денежных бумажек создают благоприятную ситуацию для завершения дела разрухи. Разрушительность политики интервенционизма и социализма ввергла мир в великие бедствия. Политики бессильны перед лицом вызванного ими кризиса. Они не могут посоветовать никакого другого выхода, кроме новой инфляции, или, как они это теперь называют, рефляции. Экономическую жизнь нужно "еще раз пришпорить" с помощью новых банковских кредитов (т. е. с помощью дополнительных "оборотных" кредитов), как советуют умеренные, или с помощью новых выпусков бумажных денег, как требуют более радикальные программы. Но увеличение количества денег и fiduciary media в обращении не сделают мир богаче, не восстановят то, что уже разрушено. {Fiduciary media -- фидуциарные средства (лат.), т. е. денежные субституты, принимаемые по номинальной ценности. К ним относятся имеющие хождение платежные требования, превышающие гарантийные резервы соответствующих платежей. Фидуциарные деньги включают жетоны, банкноты, не обеспеченные золотом, свидетельства о вкладах до востребования и т. п.} Кредитная экспансия ведет сначала к буму, но рано или поздно этот бум оканчивается крахом и новой депрессией. Трюки с банковскими кредитами и деньгами приносят только временное и кажущееся облегчение. В конце концов, они ввергают страну в глубокую катастрофу. Эти методы наносят тем больший урон благосостоянию общества, чем дольше люди умудряются дурачить себя иллюзией процветания, которую порождает постоянная кредитная экспансия [см. мои работы: Theory of Money and Credit, London, 1934, P. 339 ff.; Geldwertstabilisierung und Konjunkturpolitik, Jena, 1928, S. 43 ff.]. 9. Марксизм и деструкционизм Социализм не желал сознательного разрушения общества. Он думал создать более высокую форму общественной жизни. Но поскольку существование социалистического общества невозможно, каждый шаг в этом направлении вредоносен. История марксистского социализма очень хорошо показывает, что любая социалистическая политика непременно оборачивается разрушением. Марксизм характеризовал капитализм как необходимую предварительную ступень к социализму и ждал прихода нового общества как следствия зрелого капитализма. Если стоять на почве этой части учения Маркса (правда, он выдвигал и другие теории, совершенно несовместимые с этой), тогда политика всех партий, признающих авторитет Маркса, есть политика немарксистская. Марксисты должны были всячески бороться со всем, что препятствует развитию капитализма. Им бы следовало выступать против профсоюзов с их методами, против законов о защите труда, против принудительного социального страхования, против налогов на собственность. Марксисты должны были бы сражаться с законами, препятствующими работе бирж и затрудняющими обмен, с установлением фиксированных цен, с преследованием картелей и трестов. Марксистам нужно было бы противодействовать инфляционной политике. Но они во всем поступали как раз наоборот. Они удовлетворялись повторением проклятий Маркса в адрес "мелкобуржуазной" политики, не делая из этого никаких выводов. Марксисты, которые вначале хотели определенно отмежеваться от политики партий, исповедовавших докапиталистические идеалы, скатились к этой точке зрения. Вражда между марксистами и партиями, которые гордо именуют себя антимарксистскими, с обеих сторон ведется в таких грубых выражениях, что легко сделать предположение об их полной непримиримости. Но это никоим образом не так. И марксизм, и национал-социализм согласны друг с другом в отрицании либерализма и капиталистического общественного порядка. Оба стремятся к социалистическому переустройству общества. Их программы рознятся только небольшими и, как легко показать, малосущественными отличиями в представлениях о будущем социалистическом государстве. Агитационные требования национал-социализма отличаются от марксистских. Марксисты говорят об уничтожении товарного характера труда, национал-социалисты -- о разрушении процентного рабства. У марксистов в ответе за все зло капиталисты, национал-социалисты предпочитают выражаться более конкретно: "Juda verrecke" {"Смерть евреям!" -- нем., жаргонное)} [о критике национал-социалистического учения см. мою работу Kritik des Interventionismus, Jena, 1929, S. 91 ff., а также Karl Wagner, Brechung der Zinsknechtschaft? // Jahrbucher fur Nationalokonomie und Statistik, III Folge, 79 Bd., S. 790 ff.]. Что на самом деле разделяет марксизм, национал-социализм и другие антикапиталистические партии, так это не только борьба клик, размолвки и личные обиды, слова и формы, но и вопросы философии и жизненного поведения. И все же они согласны между собой в решающем вопросе переустройства общественной жизни: они отрицают частную собственность на средства производства и жаждут построения общества на началах социализации собственности. Действительно, их пути к общей цели совпадают только на коротких отрезках, но даже когда они расходятся, они пролегают по смежным территориям. Неудивительно, что при всей этой взаимной близости они отчаянно враждуют между собой. В социалистическом обществе судьба политических меньшинств должна быть невыносимой. Как смогут национал-социалисты жить при большевистском правлении или как смогут жить большевики под национал-социалистами? На результаты деструкционистской политики не влияет, под какими лозунгами и знаменами выступают ее проводники. Придут ли к власти "левые" или "правые", "завтра" все равно будет без колебаний принесено в жертву "сегодняшнему дню", и чтобы как-то поддержать систему, капитал будет проедаться, пока еще остаются хоть крохи. [Лучшая характеристика деструкционизма дана Стурмом {Стурм (Штурм) Рене (1837--1917) -- французский экономист и историк народного хозяйства} в описании политики якобинцев: "L'esprit financier des jacobins consista exclusivement en ceci: epuiser a outrance le present, en sacrifant l'avenir. Le lendemain ne compta jamais pour eux: les affaires furent menees chaque jour comme s'il s'agissait du dernier: tel fut le caractere distinctif de tous les actes de la Revolution. Tel est aussi le secret de son etonnante duree: la depredation quotidienne des reserves accumulees chez une nation riche et puissante fit surgir des ressources inattendues, depassant toute prevision" <"Финансовая политика якобинства заключалась исключительно в следующем: потребляй все, что можешь, в настоящем за счет будущего. Завтра для них никогда ничего не значило: ежедневно дела велись так, как будто это последний день. Таким был отличительный дух всех действий революции. В этом же секрет ее поражающей продолжительности: ежедневное расхищение накопленных запасов богатой и могущественной страны обнаружило неожиданное изобилие ресурсов" (фр.)>. Следующая характеристика Стурма слово в слово приложима к немецкой инфляционной политике 1923 г.: "Les assignats, tant qu'ils valurent quelque chose, si peu que ce fut, inonderent le pays en quantites sans cesse progressives. La perspective de la faillite n'arreta pas un seul instant les emissions. Elles ne cesserent que sur le refus absolu du public d'accepter, meme a vil prix, n'importe quelle sorte de papier-monnaie" <"Ассигнатки продолжали наводнять страну в постоянно нарастающих количествах до тех пор, пока они хоть что-то стоили, даже очень мало. Перспектива разрушения системы не остановила эмиссии ни на миг; выпуск денег прекратился, только когда публика совершенно отказалась принимать, даже по чертовски дешевой цене, какие бы то ни было бумажные деньги" (фр.)> (Stourm, Les Finances de l'Ancien Regime et de la Revolution, Paris, 1885, Vol. II, P. 388)] Глава XXXV. Преодоление деструкционизма 1. "Интерес" как помеха на пути деструкционизма Согласно Марксу, политические убеждения индивидуума определяются его классовой принадлежностью; политические верования его класса определяются классовыми интересами. Буржуазия обречена на приверженность к капитализму. В то же время пролетариат может достичь своих целей, только освободившись от капиталистической эксплуатации, расчищая путь к социализму. Таким образом, взаимные позиции пролетариата и буржуазии заранее определены. Возможно, никакая другая часть учения Маркса не оказала более глубокого или более продолжительного влияния на политическую теорию, чем эта. Она оказалась принятой далеко за пределами марксизма. Либерализм начали рассматривать как выражение классовых интересов буржуазии и большого бизнеса. На либералов стали смотреть как на более или менее благонамеренных выразителей частных интересов, стоящих на позициях, враждебных общему благу. Экономисты, отрицающие учение Маркса, характеризуются как "духовные телохранители капитала, а порой и земельной ренты" [так у Каутского, цит. по: Georg Adler, Grundlagen der Karl Marxschen Kritik der Bestehenden Volkwirtschaft, Tubingen, 1887, S. 511], -- замечательно удобная теория, избавляющая марксистов от необходимости вступать в дискуссии. Ничто так не свидетельствует о широчайшем признании этой доктрины Маркса, как тот факт, что ее приняли даже противники социализма. Когда предполагают, что отражение социалистических атак есть исключительно или большей частью задача собственнических классов, когда для противодействия социализму пытаются создать "объединенный фронт" всех буржуазных партий, тем самым признают, что сохранение частной собственности на средства производства есть частный интерес определенных классов и эта задача противоречит целям общественного благосостояния. Странно близорукие противники социализма не сознают, что любые попытки со стороны сравнительно малочисленного класса защитить свои особые интересы тщетны; они не понимают, что частная собственность обречена, если она не более чем привилегия собственников. Еще менее они способны постичь, что их предпосылки решительно противоречат опыту образования действенных политических партий. Либерализм не является доктриной, которая служит классовым интересам собственников. Тот, кто воспринимает дело иначе, уже подпал под влияние ведущего тезиса социализма, и он -- не либерал. Либерализм поддерживает частную собственность не ради интересов собственников, но ради общих интересов; он верит, что капитализм служит не только интересам капиталистов, но интересам каждого члена общества. Либерализм признает, что в социалистическом обществе, по всей вероятности, не будет неравенства доходов. Но при этом утверждает, что из-за малого объема производства при социализме сумма подлежащих дележу благ и соответственно доля каждого окажутся меньше, чем получает беднейший член капиталистического общества. Другой вопрос -- принимается или отвергается этот тезис. Как раз по этому вопросу и конфликтуют между собой либерализм и социализм. Отвергающий этот тезис отвергает тем самым и либерализм. Но было бы неразумно отвергнуть его без дотошного рассмотрения проблем и аргументов каждой стороны. На деле нет ничего более далекого от классовых или индивидуальных интересов предпринимателей, чем защита принципов частной собственности или борьба с принципами социализма. Те, кто верит, что социализм означает всеобщую нужду и бедствия, непременно будут верить в то, что социализм больно поразит в первую очередь предпринимателей и капиталистов или, по крайней мере, их детей. Таким образом подчеркивается заинтересованность собственников в противодействии социализму. Но они заинтересованы не больше, чем любые другие члены общества, и этот интерес вовсе не связан с их положением собственников. Если предположить, что социализм может быть введен полностью за одну ночь, тогда можно утверждать, что предприниматели и капиталисты имеют особенный интерес в поддержании капитализма. Им есть что терять. Даже если бы страдания от перемен были одинаковы для всех, все-таки падать с большой высоты больнее. Но нельзя ведь представить себе стремительный переход к социализму, а значит, можно предположить, что предприниматели благодаря опыту и умению принимать на себя ответственность займут, по крайней мере на время, привилегированное положение и в социалистическом обществе. Предприниматель не может материально обеспечить своих внуков и правнуков, поскольку характернейшим свойством частной собственности на средства производства при капитализме является то, что она не образует вечного фонда, приносящего ренту, а постоянно должна заново завоевываться. Когда феодальный властитель стоял горой за феодальную собственность, он защищал не только свое владение, но и наследство своих внуков и правнуков. В капиталистической системе предприниматель знает, что его дети и внуки выживут в борьбе с новыми конкурентами, только если сумеют утвердить свое положение руководителей прибыльных предприятий. Если он озабочен судьбой наследников и желает вопреки общим интересам гарантировать их собственность, ему придется стать врагом капиталистического устройства и требовать всяческого ограничения конкуренции. При этом даже социализм для такого предпринимателя может показаться хорошим средством. Поскольку переход не будет внезапным, и он получит компенсацию за экспроприированное, то может более или менее длительное время наслаждаться стабильным доходом, вместо того чтобы испытывать судьбу собственника предприятия, уделом которого являются неопределенность и риск. Таким образом, забота о собственности своей и наследников может скорее привлечь предпринимателя к поддержке социализма, чем к противостоянию с ним. Он должен бы приветствовать все меры, которые направлены на подавление возникающих или растущих состояний, и особенно меры, ограничивающие всемерно экономическую свободу, поскольку только они, устраняя конкурентов, создают надежную защиту для уже заработанного дохода, который в противном случае пришлось бы отстаивать в ежедневной борьбе с новыми претендентами. ["Beaucoup d'ouvriers, et non les meilleurs, preferent le travail paye a la journee au travail a la tache. Beaucoup d'entrepreneurs, et non les meilleurs, preferaient les condition qu'ils esperent pouvoir obtenir d'un Etat socialiste a celle que leur fait un regime de libre concurrence. Sous ce regime les entrepreneurs sont des fonctionnaires payes a la tache; avec une organisation socialiste ils deviendraient des fonctionnaires paye a la journee" <"Многие рабочие, и не лучшие, предпочитают получать поденную плату, а не плату за сделанную работу. Многие предприниматели, и не лучшие, предпочли бы то, что они могут получить при социализме, тому, что может им дать система свободной конкуренции. В условиях свободной конкуренции предприниматель является "должностным лицом", которому платят за сделанную работу; при социализме они превратятся в "должностных лиц", получающих поденную плату" (фр.)> (Pareto, Cours d'Economie Politique, Vol. II, 1897, P. 97 n).] Предприниматели заинтересованы в объединении для успеха переговоров об уровне заработной платы с работниками, объединенными в профсоюзы [Hutt, The Theory of Collective bargaining, P. 25 ff.]. Они также заинтересованы в объединении для пробивания таможенных и других ограничений, противоречащих сущности и принципам либерализма либо для противостояния интервенционистским поползновениям правительства, которые могут им повредить. Но у них совершенно нет никакой особой заинтересованности в том, чтобы противостоять социализму или социализации как таковой, а следовательно, и бороться с деструкционизмом. Сущность предпринимателя -- приспособление к экономическим обстоятельствам момента. Его цель вовсе не в борьбе с социализмом, а в приспособлении к условиям, которые возникают при проведении политики, направленной к социализации. Не следует ожидать, что предприниматели или какая-либо другая определенная группа, повинуясь собственным интересам, сделают общие принципы благосостояния основой своего поведения. Жизненная необходимость понуждает их приспосабливаться к обстоятельствам и в каждой ситуации добиваться, что только возможно. Не дело предпринимателя вести политическую борьбу с социализмом; его дело приноровиться самому и приспособить свое предприятие к ситуации, которую создает движение к обобществлению, чтобы получить при существующих условиях наибольшую возможную прибыль. Отсюда следует, что ни союзы, ни другие организации, поддерживаемые предпринимателями, не склонны к принципиальному противостоянию социализму. Предприниматель, т. е. человек, ловящий момент, мало заинтересован в ведении столетней войны. Ему важно приспособиться к отношениям, существующим в данный момент. Целью организации предпринимателей является непосредственный отпор отдельным нападкам со стороны профсоюзов или некоторым законодательным мерам, например проектам налогового обложения. Она выполняет задачи, возложенные на нее парламентами и правительствами в случаях, когда желательно сотрудничество организованных предпринимателей и профсоюзов для отпора разрушительным элементам в национальной экономике. Она далека от того, чтобы вести борьбу за общее сохранение хозяйственного порядка, основывающегося на принципе частной собственности. Она относится к либерализму с безразличием или, как, например, в вопросах таможенной политики, враждебно. Организованные интересы, как их изображают социалисты, свойственны не союзам предпринимателей, а объединениям помещиков, которые требуют защитных пошлин на сельскохозяйственные продукты, или союзам мелких производителей, которые, и прежде всего в Австрии, борются за устранение конкуренции. Уж, конечно, эти усилия не соответствуют целям либерализма. Таким образом, не существует ни индивидуумов, ни классов, которые в силу своих особенных интересов были бы заинтересованы в поддержке капитализма как такового. Политика либерализма есть политика общего блага, политика подчинения частных выгод интересам общего благосостояния, что требует от индивидуума не принесения в жертву собственных интересов, а только благоразумной гармонизации всех индивидуальных интересов. Следовательно, не существует групп или индивидуумов, интересы которых удовлетворил бы социализм лучше, чем общество, основанное на частной собственности на средства производства. Но хотя, в конечном счете, никто на деле не выигрывает от перехода к социализму, есть множество людей, частные интересы которых в данный момент больше согласуются с политикой социализации, чем с политикой либерализма. Либерализм борется со всякого рода привилегиями и стремится свести к минимуму число государственных чиновников. Интервенционистская политика обеспечивает за счет всего общества тысячи и тысячи устойчивой, безмятежной и не слишком напряженной работой. Каждый акт национализации или муниципализации связывает частные интересы многих с движением против частной собственности. Сегодня социализм и деструкционизм находят сильнейшую поддержку у миллионов людей, непосредственные интересы которых пострадают (хотя бы и на краткий срок) от возврата к либерализму. 2. Насилие и власть Понимание частной собственности как привилегии владельцев есть наследие прежних периодов истории собственности. Всякая собственность основывается на изначальном захвате бесхозных благ. История собственности прошла через период, когда правилом было насильственное изгнание старых собственников. Можно с уверенностью утверждать, что всякая земельная собственность имеет источником насильственное присвоение. Но все это, конечно, уже никак не характерно для капиталистического общественного порядка, где собственность переходит из рук в руки только в процессе рыночной конкуренции. Поскольку либеральные принципы нигде, по крайней мере в Европе, не были проведены в жизнь во всей полноте, и везде, особенно в области земельной собственности, осталось немало следов отношений насилия, то все еще держится традиция феодальных владык: "Ich Lieg und besitze" {"Я <здесь> расположился и владею <этим>" -- нем.}. Критика в адрес прав собственности насильственно подавляется. Такую политику немецкие юнкера ведут против социал-демократии -- известно, с каким успехом. [Юнкер заинтересован не в частной собственности как возможности распоряжаться средствами производства, но скорее в сохранении права на определенный доход. Поэтому так легко оказалось привлечь его политикой государственного социализма, который гарантирует ему привилегированный доход.] Приверженцы этого направления не могут в оправдание частной собственности на средства производства сказать ничего, кроме того, что она будет поддерживаться силой. Право сильного есть единственное право, которое они могут реализовать. Они горды своими потенциями физического насилия, полагаются на вооружение и считают, что вправе пренебрегать любыми другими аргументами. Только когда земля начинает дрожать под их ногами, они обращаются к другому аргументу, ссылаются на установленные права собственности. Ущемление их собственности становится беззаконием, которого нельзя допустить. Не стоит тратить слов, чтобы показать слабость такой позиции в борьбе с движением, которое хочет создать новое право. Нельзя изменить общественное мнение, если оно осуждает собственность. С ужасом осознают это землевладельцы и в горе обращаются к церкви с поразительным требованием: пусть церковь поддерживает в misera plebs {misera plebs -- жалкий народ, нищий люд (лат.); крылатое выражение, восходящее к Горацию} дух скромности и покорности, сражается с завистливостью и обращает взгляд неимущих от земных благ к благам небесным. [Так, например, смотрел на вещи Бисмарк. См. его речь в Ландтаге 15 июня 1847 г.: Furst Bismarcks Reden, Herg. v. Stem, 1 Bd., S. 24.] Христианство следует сохранять, чтобы люди не стали завистливыми. Но ведь это обращенное к церкви требование чудовищно. От нее требуют, чтобы она обслуживала интересы немногих привилегированных лиц, интересы которых признаны вредными для общества. Легко понять, почему истинные слуги церкви восстали против этого наглого требования, а ее враги использовали этот взгляд на функции церкви как оружие в освободительной войне против религии. Удивительно, что церковные противники либерализма, силясь представить социализм как дитя либерализма, свободной школы и атеизма, использовали тот же подход, что и при защите существующих отношений собственности. Иезуит Катрейн {Катрейн Виктор (1845--1931) -- философ и этик, швейцарец по происхождению, профессор иезуитской высшей школы в Нидерландах} говорит: "Если предположить, что все заканчивается этой земной жизнью, что судьба человека не отличается от судьбы других валяющихся в грязи млекопитающих, кто тогда сможет потребовать от бедных и униженных, вся жизнь которых представляет собой постоянную борьбу за существование, чтобы они несли свою тяжкую судьбу терпеливо и смиренно, тогда как другие наряжаются в шелка и бархат, имеют сытную и изобильную пищу? Разве в сердце рабочего не живет стремление к полному счастью? Если у него отнята вся надежда на лучший потусторонний мир, как можно отвратить его от поисков счастья на земле, от настоятельного требования своей доли в земном богатстве? Разве он не такой же человек, как наниматель? Почему некоторые обречены на бедность и нужду, при том, что другие живут в изобилии, когда нет причин, по которым блага этого мира должны принадлежать одним, а не другим? Если атеистическо-натуралистическая точка зрения оправдана, тогда оправданы и утверждения социализма: земные блага и счастье должны быть распределены как можно более поровну; неверно, когда одни ведут праздную жизнь в дворцах, а другие бедствуют в жалких клетушках и на чердаках и при всех отчаянных усилиях едва могут обеспечить себя хлебом насущным" [Cathrein, Der Sozialismus, 12 und 13 Aufl., Freiburg, 1920, S. 347 ff.]. Если предположить, что все так и есть, как воображает Катрейн, -- что частная собственность есть привилегия собственников, что бедность одних пропорциональна богатству других, что одни беднеют по мере того, как другие богатеют, что одни голодают, поскольку другие пируют, что одни прозябают в жалких комнатушках потому, что другие роскошествуют во дворцах, -- то, как же можно верить, что дело церкви поддерживать такие условия? Как ни толкуй социальное учение церкви, нельзя предположить, чтобы ее создатель или его ученики одобрили бы использование ее для сохранения несправедливых общественных установлении, которые столь явно неблагоприятны для большей части человечества. Христианство давно исчезло бы с лица земли, если бы оно было именно таким, каким его ошибочно представляют вместе со злейшими его врагами Бисмарк и Катрейн: охранителем социальных установлений, наносящих ущерб массам. Социалистическую идею нельзя победить ни насилием, ни авторитетом, поскольку, и то, и другое на стороне социализма, а не его противников. Если сегодня пустить в ход пушки и пулеметы, они окажутся на стороне социализма и синдикализма, а не против него. Ведь большая часть наших современников захвачены духом социализма или синдикализма. Массы не верят в капитализм. 3. Битва идей Ошибочно думать, что неудача уже осуществившихся социалистических экспериментов может помочь в преодолении социализма. Факты сами по себе ничего не доказывают и не опровергают. Все определяется истолкованием и объяснением фактов, идеями и теориями. Человек, тяготеющий к социализму, будет по-прежнему объяснять все зло мира частной собственностью и искать спасения в социализме. Неудачи русского большевизма социалисты объясняют чем угодно, только не свойствами самой системы. С социалистической точки зрения один капитализм ответствен за то, что нищета этого мира оказалась столь устойчивой. Социалисты видят только то, что хотят видеть, и слепы ко всему, что противоречит их теории. Только идеи могут одолеть другие идеи, и только идеи капитализма и либерализма могут одолеть идеи социализма. Решение может быть найдено только в битве идей. Либерализм и капитализм обращаются к холодному, уравновешенному уму. Они пользуются строгой логикой, избегая эмоций. Социализм, напротив, работает на эмоциях, пытается разрушить логические построения призывом к личной заинтересованности и заглушить голос разума апелляцией к примитивным инстинктам. Даже по отношению к тем немногим, кто интеллектуально развит, кто способен к независимому рассуждению, это дает социализму преимущества. Для других же, для массы тех, кто не способен мыслить, позиция социалистов кажется несокрушимой. Оратор, раздувающий страсти толпы, считается более умелым, чем тот, кто обращается к ее разуму. Потому-то перспективы либерализма в этом противостоянии кажутся очень скверными. Такой пессимистический взгляд на мир совершенно ошибочен. Он неверно оценивает влияние, которое может оказать на массы разумное и спокойное рассуждение. Он также сильно преувеличивает роль самих масс и соответственно элементов массовой психологии в создании и утверждении господствующих идей эпохи. Массы действительно не способны мыслить. Но по этой причине они следуют за теми, кто мыслить способен. Интеллектуальное руководство принадлежит тем немногим, кто мыслит. Сначала их влияние распространяется на малый круг тех, кто способен понять и воспринять мысль других; через этих посредников идеи достигают масс и здесь кристаллизуются в общественное мнение своего времени. Социализм стал господствующей идеей эпохи не потому, что сначала массы продумали мысль о социализации средств производства, а затем передали ее интеллектуально более развитым классам. Такого не утверждает даже исторический материализм, это обиталище призраков в выдуманной романтизмом "народной душе", и историческая правовая школа. Психика масс сама по себе никогда не порождала ничего, кроме массовых преступлений, разрушений и погромов [MacIver, Community, London, 1924, Р. 79 ff.]. По своим результатам идея социализма, конечно, есть не что иное, как разрушение, но все-таки это идея. Она должна быть додумана до конца, а на это способны только самостоятельные мыслители. Подобно любой другой крупной идее она пришла к массам только через посредничество интеллектуалов среднего класса. Народные массы не были изначально социалистичными -- даже сегодня они склонны скорее к аграрному социализму и синдикализму. {Под аграрным социализмом подразумевается довольно широкий круг воззрений, связанных с требованием национализации земли. По утверждениям их сторонников, национализация земли позволит устранить капиталистическую эксплуатацию наемных рабочих, ибо каждый гражданин сможет получить участок земли для ведения собственного хозяйства. Особую популярность, главным образом в Англии, Ирландии и США, получили взгляды американского экономиста и публициста Генри Джорджа (1839--1897). В России их пропагандировал и развивал Л. Н. Толстой. Под синдикализмом в данном случае Л. Мизес подразумевает тот общественно-экономический строй, который пропагандировался популярными в рабочем движении начала XX в. анархо-синдикалистами. Согласно их воззрениям после победы над буржуазией экспроприируемые у нее средства производства не обобществляются, а переходят в собственность отдельных синдикатов -- профсоюзных объединений, т. е. становятся групповой собственностью. В этом смысле Мизес противопоставляет синдикализм социализму как воплощению идеи единой, общенародной собственности.} Первыми социалистами были интеллектуалы; они, а не массы, являются носителями социализма. [Это, конечно же, справедливо и для немцев. Почти вся интеллигенция в Германии ориентирована социалистически: в националистических кругах это государственный, или, как теперь обычно говорят, национал-социализм, в католических кругах -- это церковный социализм, в других -- социал-демократия, или большевизм.] Власть социализма подобно всякой другой власти имеет духовную природу, и она находит поддержку в идеях, которые интеллектуальные лидеры несут в массы. Если интеллигенция отшатнется от социализма, его власти придет конец. Массы не могут долго противостоять идеям лидеров. Разумеется, отдельные демагоги могут ради карьеры и вопреки собственным убеждениям внушать людям идеи, возбуждающие их низменные инстинкты, рассчитывая тем самым на успех. Но, в конечном счете, пророк, знающий про себя, что он лжив, не в силах одолеть того, кто наделен силой искреннего убеждения. Нельзя коррумпировать идеи. Ни за деньги, ни за другое вознаграждение не завербовать борцов против идей. Человеческое общество есть произведение разума. Общественное сотрудничество сначала следовало изобрести, затем -- возжелать, а уж потом осуществить в деятельности. Историю делают идеи, а не "материальные производительные силы", эти туманные и мистические построения исторического материализма. Если мы сможем преодолеть идеи социализма, если человечество сможет осознать общественную необходимость частной собственности на средства производства, тогда социализму придется уйти со сцены. Это единственное, что имеет значение. Победа социалистических идей над либеральными есть результат того, что на место целостного подхода, который учитывает общественные функции отдельных институтов и общее действие всего социального механизма, пришел абстрактный подход, при котором отдельные части общественного организма выступают как изолированные образования. Социализм видит отдельные группы людей -- голодных, безработных, богатых -- и обрушивается на мир с критикой; либерализм видит общественный процесс в его целостности и соподчиненности взаимосвязанных явлений. Он хорошо знает, что и частная собственность на средства производства не способна обратить землю в рай небесный; он никогда не пытался утверждать ничего, кроме того простого факта, что социалистическое устройство общества нереализуемо, а значит, не может обеспечить более высокое благосостояние, чем капитализм. Никто не понимал либерализм меньше, чем те, кто присоединился к нему в последние десятилетия. Они верили, что должны бороться с "уродствами" капитализма, тем самым без раздумий принимая характерную для социалистов антиобщественную установку. У общественного строя не бывает "уродств", которые можно было бы произвольно отсечь. Если явление возникает как закономерный результат системы частной собственности на средства производства, его нельзя осуждать исходя из этических или эстетических установок. Спекуляция, например, которая связана с самой сущностью хозяйствования, в том числе и при социализме, в ее капиталистической форме не может быть осуждена из-за того, что моральные цензоры не понимают ее общественных функций. Эпигоны либерализма были не более удачливы в своей критике социалистической системы. Они постоянно утверждали, что социализм есть благороднейшая и прекраснейшая идея, к осуществлению которой следовало бы стремиться, если бы ее можно было осуществить, но, увы, это не так, поскольку люди нравственно несовершенны. Трудно понять, почему кто-либо может утверждать, что социализм лучше капитализма, если он не в силах доказать, что социалистическая система функционирует лучше капиталистической. Столь же оправданным было бы заявление, что механизм, построенный на принципах вечного двигателя, был бы лучше подчиненного законам механики, если бы только первый удалось заставить работать. Если концепция социалистической общественной системы содержит ошибку, из-за которой система не может функционировать, тогда социализм нельзя даже и сравнивать с капитализмом, поскольку последний вполне работоспособен. Точно так же нельзя нежизнеспособную систему считать более благородной, более прекрасной или справедливой. Социализм действительно невоплотим, но вовсе не оттого, что он требует возвышенных и альтруистических характеров. Одной из целей этой книги было доказать, что у социализма отсутствует качество, необходимое всякой экономической системе, которой приходится иметь дело с опосредованными процессами производства жизненных благ, а не просто собирать булки с дерева: это способность рассчитывать, а значит, рационально действовать. Как только понимание этого станет всеобщим, социалистические идеи должны исчезнуть из сознания разумных людей. В предыдущих частях книги было показано, насколько безосновательно утверждение, что социализм должен наступить, поскольку к этому неизбежно ведет развитие общества. Мир склоняется к социализму потому, что большинство хочет его. Люди хотят социализма, так как верят, что именно он принесет им процветание и более высокий уровень жизни. Утрата этой веры будет означать конец социализма. Заключение. Историческое значение современного социализма 1. Социализм в истории Нет ничего труднее, чем отчетливо увидеть исторические перспективы современных движений. Близость явления искажает истинные пропорции. Историческое суждение прежде всего требует дистанции. Всюду, где живут европейцы или потомки европейских эмигрантов, мы видим работу социализма; в Азии он стал знаменем, вокруг которого собираются враги европейской цивилизации. Если интеллектуальное господство социализма останется непоколебленным, тогда через короткое время вся основанная на сотрудничестве культура, которую Европа пестовала тысячелетиями, будет разбита вдребезги. Ведь социалистическое устройство невозможно. Все порывы к социализму ведут только к разрушению общества. Заводы, рудники и железные дороги остановятся, города опустеют. Население промышленных районов вымрет или разбредется. Крестьянин вернется к натуральному замкнутому домашнему хозяйству. Без частной собственности на средства производства не останется в конечном итоге ничего, кроме производства для своих непосредственных нужд. Нет нужды в деталях описывать культурные и политические последствия такого преобразования. Конные набеги и грабежи кочующих степных племен опять станут опустошать Европу. Кто сможет противостоять им на скудно населенной земле после того, как износится оружие, оставшееся от высокой техники капитализма? Это одна возможность. Но есть и другие. Может так случиться, что некоторые народы останутся социалистическими и после того, как остальные вернутся к капитализму. Тогда только социалистические страны будут двигаться к упадку. Капиталистические страны продолжат путь к более высокой стадии разделения труда, пока в силу фундаментальных законов общества, которое втягивает людские массы в систему персонального разделения труда, а земли -- в систему территориального разделения труда, они не цивилизуют отсталые народы или не уничтожат их в случае сопротивления. Такой всегда была историческая судьба народов, которые не вступили на путь капиталистического развития или преждевременно останавливали движение по нему. Может быть, однако, что мы чудовищно преувеличиваем важность современного социалистического движения. Возможно, что оно имеет не большее значение, чем вспышки гнева против частной собственности, проявившиеся в средневековых еврейских погромах, в движении францисканцев или во времена Реформации. Возможно, что большевизм Ленина и Троцкого не более значим для современного капитализма, чем господство в Мюнстере анабаптистов Книппер-доллинга и Бокельзона для капитализма XVI столетия. {Анабаптисты -- участники религиозно-политического движения, занимавшие во время Крестьянской войны в Германии крайне революционные позиции, пропагандировавшие общность имущества и уравнительное потребление. В 1533--1534 гг. анабаптисты, укрепившиеся в северогерманском городе Мюнстере, создали здесь мюнстерскую коммуну: конфисковали в общую пользу имущество церкви и богатых горожан, упразднили деньги, запретили торговлю и ввели для всех обязательный труд при уравнительном распределении предметов потребления. Главную роль в жизни коммуны после гибели "пророка" Яна Матиса стали играть Ян Бокельзон, более известный под именем Иоанна Лейденского (1508--1535), и его приспешник Бернт (Бернард) Книппер-доллинг (1490--1536).} Как тогда цивилизация преодолела эти атаки, так и теперь она может восстать из бурь нашего времени еще более сильной и очищенной. 2. Кризис цивилизации Общество есть продукт воли и действия. Только человек способен желать и действовать. Мистика и символизм коллективистской философии не могут скрыть того факта, что все разговоры о мышлении, желании и действиях общества есть всего лишь образные высказывания и что концепция чувствующего, мыслящего, водящего и действующего общества есть просто антропоморфизм. Общество и индивидуум взаимно предполагают друг друга. Те предшествовавшие выделению индивидуумов первобытные совокупности, существование которых можно предположить на основании логических и исторических соображений, могли представлять собой стадо или стаю, но они не были обществом, т. е. союзом, возникшим и существующим в силу сотрудничества мыслящих субъектов. Люди построили общество, превратив свое поведение во взаимообусловленную кооперацию. Основа и исходная точка общественной кооперации заключается в поддержании мира, сущность которого образует обоюдное признание "наличной собственности". Из владения de facto, {de facto -- фактически (лат.)}, поддерживаемого силой, возникает правовой институт собственности и одновременно правовой порядок и аппарат принуждения для поддержания его. Все это есть результат сознательного, понимающего свои цели воления. Но это воление направлено только на получение самых непосредственных и прямых результатов. Об отдаленных последствиях оно не может знать и не знает ничего. Люди, созидающие мир и правила поведения, озабочены только нуждами текущего часа, дня, года; они и не задумываются, что одновременно трудятся над созиданием громадного и хорошо структурированного образования -- человеческого общества. Отдельные институты, в своей совокупности поддерживающие существование общественного организма, созданы только для пользы текущего момента. Они представляются своим создателям обособленно полезными и необходимыми; их общественная функция остается для них чуждой. Ум человека медленно созревает до признания социальной взаимозависимости. Сначала общество представляется для индивидуума настолько таинственным и непостижимым образованием, что, уже отказавшись от идеи Бога при объяснении явлений природы, он все еще предполагает божественную волю, которая владычествует над судьбой человека. Кантовская Природа, которая ведет человечество к особой цели, Гегелевский Мировой дух и Дарвиновский Естественный отбор есть последние великие проявления такого подхода. На долю либеральной философии общества досталось объяснить общество через действия человека, не прибегая к метафизическим приемам. Только либерализм преуспел в истолковании общественной функции частной собственности. Он не удовлетворился идеей "справедливости", которая принимается как данность, не подлежащая дальнейшему анализу, или обусловливается неуяснимой склонностью к праведному поведению. Либерализм основывает свои выводы на учете и оценке последствий поступков. В старину собственность была священной. Либерализм разрушил этот ореол святости, как и все другие. Он "низвел" собственность до уровня полезных земных отношений. Собственность уже не воспринимается как абсолютная ценность -- она получает признание как полезное средство. В области философии такое изменение представлений происходит без особых затруднений: на смену неудовлетворительной доктрине приходит удовлетворительная. Но в жизни и в сознании масс фундаментальные революции представлений не проходят гладко. Это не пустяк, когда идол, в страхе, перед которым человечество жило тысячелетиями, оказывается разрушенным и трепещущий раб внезапно делается свободным. То, что было законом в силу веления Бога, становится законом в силу человеческого волеизъявления. Прежде определенное делается неопределенным; добро и зло, справедливость и несправедливость -- все это колеблется, шатается. Старые скрижали закона разбиты, и человек должен сам создать для себя заповеди. Этого нельзя достичь путем парламентских дебатов или мирным голосованием. Пересмотр нравственного кодекса не может быть произведен без глубокого потрясения умов и взрыва страстей. Чтобы признать общественную полезность системы частной собственности, нужно прежде убедиться в пагубности всех других систем. Что именно в этом существо великой борьбы между капитализмом и социализмом, становится очевидным, когда мы сознаем, что тот же процесс разыгрывается и в других сферах нравственной жизни. Не одна проблема собственности служит сегодня предметом дискуссий. То же самое с проблемой кровопролития, которая будоражит весь мир в различных обличьях, особенно в форме проблемы войны и мира. Но предельно очевидной становится принципиальная однородность процессов, происходящих в нравственной сфере, когда мы обращаемся к сексуальной морали. И здесь вековые предписания трансформируются. То, что было табу, священным установлением, теперь соблюдается, лишь поскольку признается благом для человека. Этот пересмотр основ нравственных предписаний побуждает поставить под сомнение все нормы поведения, господствовавшие до сих пор. Люди спрашивают: действительно ли они необходимы или же без них можно обойтись. Во внутренней жизни индивидуума отсутствие морального равновесия порождает тяжкие психологические шоки, известные в медицине как неврозы [Freud, Totem und tabu, Wien, 1913, S. 62 ff. <Фрейд З., Тотем и табу: Психология первобытной культуры и религии, М.-Пг., 1923, С. 40 и след.>]. Это характерная болезнь нашего времени, времени меняющейся нравственности и духовного созревания народов. В общественной жизни разлад изживается в конфликтах и ошибках, которые мы переживаем с содроганием. Так же как для жизни отдельного человека чрезвычайно важно, сумеет ли он выйти здоровым и полным сил из страхов и волнений периода созревания, или же на всю жизнь покроется рубцами, которые постоянно будут мешать развитию его способностей, так и для общества не менее важно, как выдержит оно битвы вокруг проблемы организации. Либо подъем к более тесной общественной взаимосвязи индивидуумов, а значит, и к более высокому уровню благосостояния, либо упадок кооперации и потому упадок общественного богатства -- такой выбор стоит перед нами. Третьего не дано. Великое общественное противоборство идет через мысль, волю и поведение отдельных людей. Общество живет и действует только в отдельных людях; оно есть не что иное, как определенная совокупность индивидуумов. Каждый несет на своих плечах часть общества; никто не может сбросить свою долю ответственности на других. И никто не найдет спасения для себя лично, если общество как целое устремляется к закату. Потому каждый в собственных интересах должен отважно бросить все свои силы в битву душ. Никто не может безучастно остаться в стороне; усилия каждого сказываются на общем выборе. Каждый человек, хочет он того или нет, участвует в грандиозной исторической схватке, в решительном сражении, которое нам навязала наша эпоха. Общество создано не Богом и не мистическими "силами природы" -- оно создано Человечеством. Сохранит ли общество способность к развитию или оно обречено на упадок, зависит от человека (в том смысле, в каком причинная обусловленность всех событий позволяет нам говорить о свободной воле). Хорошо ли общество или дурно -- об этом можно спорить. Но тот, кто предпочитает жизнь смерти, счастье страданию, благосостояние нищете, тот должен поддерживать существование общества. А тот, кто желает, чтобы общество существовало и развивалось, должен также принимать без каких бы то ни было ограничений и оговорок частную собственность на средства производства. Приложение. К критике попыток сконструировать систему экономического расчета для социалистического общества Мы можем разделить системы, изобретенные для того, чтобы сделать возможным экономический расчет при социализме, на две основные группы. При этом мы оставляем в стороне работы, основанные на трудовой теории ценности, как изначально ошибочные. В первую группу войдут те, которые соскальзывают к синдикалистским построениям, во вторую -- те, которые пытаются обойти неразрешимость проблемы, принимая, что экономические данные неизменны. Ошибочность предложений обеих групп ясна из сказанного нами выше (см. главы 5--6 (часть II) в настоящем издании). Для лучшего понимания приведем следующие критические замечания о двух типичных конструкциях такого рода [Archiv fur Sozialwissenschaft, 51 Bd., S. 490--495]. В статье "Социалистическое счетоводство" [Ibid., 49 Bd., S. 377--420] Карл Поланьи попытался разрешить "общепризнанную ключевую проблему социалистической экономики". {Поланьи Карл (1886--1964) -- австрийский экономист, социолог, антрополог и историк; после гитлеровского захвата Австрии эмигрировал в Англию, затем работал в США.} Сначала Поланьи однозначно признает, что проблема экономического расчета неразрешима в "централизованной административно управляемой экономике" [Ibid., S. 378, 419]. Его попытка решения проблемы имеет в виду только "функционально организованную социалистическую переходную экономику". Так он называет тип общества, примерно соответствующий идеалу английских гильдейских социалистов. Его представления о природе и возможностях предлагаемой системы, к сожалению, не менее туманны и смутны, чем представления гильдейских социалистов. Политическое общество рассматривается как собственник средств производства, но "собственность не дает прямого права распоряжения производством". Это право принадлежит ассоциациям производителей, выбираемым работниками различных отраслей производства. Отраслевые ассоциации производителей объединяются в Конгресс ассоциаций производителей, который "представляет все производство в целом". Ему противостоит "Коммуна" как вторая "главная функциональная ассоциация общества". Коммуна является не только политическим органом, но также "реальным носителем высших целей общества". Каждая из этих двух функциональных ассоциаций выполняет "в своей собственной области законодательные и исполнительные функции". Соглашение между этими двумя главными функциональными ассоциациями образует высшую власть в обществе [Ibid., S. 404]. Дефектом этой конструкции является неясность относительно коренного вопроса: что это -- социализм или синдикализм? Как и гильдейские социалисты, Поланьи явно приписывает собственность на средства производства обществу, коммуне. Он полагает, что таким образом устраняет упрек в синдикализме. Но в следующем предложении он отрицает то, что говорил в предыдущем. Собственность -- это право распоряжения. Если право распоряжения принадлежит не коммуне, а ассоциациям производителей, то они и являются собственниками, и перед нами -- синдикалистское общество. Дано либо одно, либо другое, так как между социализмом и синдикализмом не может быть ни соглашения, ни чего-то среднего. Поланьи не видит этого. Он говорит: "Функциональные представители (ассоциации) одного и того же человека не могут быть в непримиримом конфликте между собой; это фундаментальная идея всякой функциональной конституции. Для разрешения каждого возникающего конфликта создаются либо совместные комитеты Коммуны и ассоциаций производителей, либо своего рода Высший конституционный суд (координирующие органы), которые, однако, не имеют законодательных полномочий и только ограниченные исполнительные полномочия (охрана закона и порядка и пр.)" [Ibid., S.404, Anm. 20]. Эта фундаментальная идея функциональной формы конституции, однако, ложна. Если политический парламент избирается всеми гражданами, имеющими равное право голоса, -- а это молчаливо предполагается как у Поланьи, так и в других родственных конструкциях, -- то вполне возможны конфликты между ним и парламентом ассоциаций производителей, создаваемым на основе совершенно иной избирательной системы. Эти конфликты не могут быть разрешены совместными комитетами или конституционным судом. Такие комитеты способны прекратить раздор, только если в них одна из главных ассоциаций имеет перевес. Если они равномощны, может случиться так, что комитет не примет никакого решения. Суд не может разрешать конфликты в сфере политической или хозяйственной деятельности. Суды принимают решения только на основе уже существующих норм, применяя их к конкретному случаю. Если им приходится рассматривать вопросы целесообразности, тогда на деле они представляют собой не суды, но высшую политическую инстанцию, и все, что было сказано о комитетах, приложимо к ним. Если окончательное решение не принадлежит ни Коммуне, ни Конгрессу производительных ассоциаций, система оказывается вообще нежизнеспособной. Если окончательное решение принадлежит Коммуне, то мы имеем дело с "централизованной административной экономикой", а в ней, как признает сам Поланьи, невозможен экономический расчет. Если решение принадлежит ассоциациям производителей, мы имеем дело с синдикалистским обществом. Отсутствие у Поланьи ясности по этому фундаментальному вопросу позволяет ему принять вместо действительного, работоспособного решения чисто кажущееся решение проблемы. Его ассоциации и субассоциации поддерживают отношения взаимного обмена; они получают и дают, как если бы были действительными собственниками. Таким образом создаются рынок и рыночные цены. Но поскольку он уверен, что сумел преодолеть неустранимый разрыв между социализмом и синдикализмом, Поланьи не замечает, что это решение несовместимо с социализмом. Можно сказать намного больше о других ошибках в системе Поланьи. Но с учетом его фундаментальной ошибки это все имеет небольшой интерес, поскольку характеризует только ход мыслей Поланьи. Основная же, фундаментальная ошибка свойственна не только системе Поланьи, поскольку она присутствует во всех системах гильдейского социализма. Заслуга Поланьи в том, что он разработал эту систему намного отчетливей, чем большинство других авторов. Ему следует воздать должное и за то, что он ясно осознал невозможность экономических вычислений в централизованной административной экономике, которой свойственно отсутствие рынка. Вклад в нашу проблему сделал и Эдуард Хейман [Heimann, Mehrwert und Gemeinwirtschaft, kritische und positive Beitrage zur Theurie des Sozialismus, Berlin, 1922]. {Хейман Эдуард (1889--1967) -- немецкий экономист и социолог, теоретик "христианского социализма", один из создателей модели рыночного социализма.} Хейман -- последователь этического или религиозно мотивированного социализма, но его политические убеждения не закрывают ему глаза на проблему экономического расчета. В подходе к этой проблеме он использует аргументы Макса Вебера. Макс Вебер видел, что для социализма это "абсолютно центральная" проблема; детально рассмотрев аргументы за и против, он опроверг любимую идею Отто Нейрата о "натуральном исчислении" и показал, что рациональное хозяйствование невозможно без применения денег и денежного расчета [Мах Weber, Wirtschaft und Gesellschaft // Grundriss der Sozialokonomik, III Bd., S. 45--49]. Хейман соответственно пытается доказать, что расчеты возможны и в социалистической экономике. Тогда как Поланьи конструирует систему, родственную английскому гильдийскому социализму, построения Хеймана примыкают к немецким идеям плановой экономики. Характерно, что при этом его аргументы близки к аргументам Поланьи во всем, кроме одного существенного пункта: они огорчительно туманны как раз там, где нужна особенная ясность, -- в вопросе об отношении отдельных групп производителей, из которых состоит планово организованное общество, к обществу в целом. Поэтому он позволяет себе говорить о рыночном обороте [Heimann, Op. cit., S. 184 f.], не замечая того, что последовательно и до конца реализованное плановое хозяйство не знает торговли и то, что обозначается здесь как продажа и покупка, должно в соответствии с сущностью этой системы характеризоваться иначе. Хейман делает эту ошибку потому, что считает первейшей характерной чертой плановой экономики монополистическое слияние отдельных отраслей производства, а не зависимость производства от единой воли центрального органа. Эта ошибка тем более удивительна, что уже само наименование "плановая экономика" и все аргументы в ее пользу особенно подчеркивают единство экономического управления. Хейман вполне понимает пустопорожность пропаганды, обыгрывающей мотив "анархия производства" [Ibid., S. 174]. Но как раз это должно было бы напоминать ему, что именно здесь, как нигде больше, лежит резкое различие между капитализмом и социализмом. Подобно большинству тех, кто писал о плановой экономике, Хейман не замечает, что строго проводимое плановое хозяйство есть не что иное, как чистый социализм, и отличается оно от сугубо централизованного социалистического общества только второстепенными деталями. То, что руководство отдельными отраслями доверено кажущимся независимыми ведомствам, не изменяет того факта, что власть на самом деле принадлежит только центральному органу управления. Отношения между ведомствами устанавливаются не на рынке в ходе конкуренции продавцов и покупателей, а по приказам властей. Проблема в следующем: нет меры для оценки и расчета эффекта от этого вмешательства власти, поскольку центральная власть не может руководствоваться формируемыми на рынке пропорциями обмена. Власти могут, в общем-то, основывать свои расчеты на пропорциях замещения одних продуктов другими, которые они же и устанавливают. Но эти пропорции произвольны; они не основаны в отличие от рыночных цен на субъективных оценках индивидуумов; они не вменены производимым благам совместным действием факторов, участвующих в производстве и обращении. Они не могут составить основу экономических расчетов. Хейман приходит к кажущемуся решению проблемы, обращаясь к теории издержек. Экономические расчеты должны ориентироваться на издержки. Цены следует исчислять на основе средних "издержек производства", в том числе заработной платы, по тем работам, по которым ведется единый учет определенной бухгалтерией [Ibid., S. 185]. Этим решением можно было бы довольствоваться два или три поколения назад. Сегодня его недостаточно. Если мы считаем издержками ту потерю полезности, которой можно было бы избежать при другом использовании данных факторов производства, то сразу видно, что хеймановские рассуждения движутся по порочному кругу. В социалистическом обществе только приказ центральной власти может разрешить промышленности изменить место применения факторов производства, и проблема как раз в том и состоит, могут ли власти провести расчеты, обосновывающие такой приказ. Конкуренция предпринимателей, которые при капитализме стараются использовать блага и услуги самым выгодным образом, в плановой экономике, да и в любой другой мыслимой форме социалистического общества, замещается планомерными действиями центральной власти. Только в силу конкуренции предпринимателей, старающихся отбить друг у друга материальные средства производства и рабочую силу, формируются цены на факторы производства. Там же, где хозяйство должно вестись "планомерно", т. е. в соответствии с волей центральной власти, которой все подчинено, исчезает основа для исчисления рентабельности и остается только натуральный учет. Хейман утверждает: "Пока на рынке потребительских товаров существует действенная конкуренция, формируемые здесь ценовые отношения распространяются на все стадии производства, если, конечно, правила ценообразования используются разумно; и это происходит независимо от состава участников на рынках производственных благ" [Ibid., S. 188 f.]. Это верно, но только в случае подлинной конкуренции. Хейман рассматривает общество как ассоциацию ряда "монополистов", т. е. государственных ведомств, каждому из которых доверена деятельность в определенной сфере производства. Если они выступают как покупатели производительных благ на "рынке", то здесь нет никакой конкуренции, потому что центральные власти заранее предписали им определенную сферу деятельности, которую они не могут оставить. Конкуренция существует, когда каждый производит то, что обещает принести наивысшую прибыль. Я пытался показать, что этому соответствуют только условия частной собственности на средства производства. Рисуемая Хейманом картина социалистического общества учитывает только текущую переработку сырых материалов в потребительские блага; таким образом создается впечатление, что отдельные ведомства могут работать независимо друг от друга. Гораздо важнее этой части производственного процесса обновление основного и инвестирование новообразованного капитала. Именно в этом, а не в том, как использовать оборотный капитал, что уже в значительной степени предопределено, существо хозяйствования. Решения такого рода, рассчитанные на годы и десятилетия, нельзя ставить в зависимость от существующего на данный момент спроса на потребительские блага. Следует ориентироваться на будущее, т. е. быть "спекулятивным". Схема Хеймана, которая предполагает механическое расширение или свертывание производства в соответствии с текущим спросом на потребительские блага, совершенно несостоятельна. Решать проблему ценности путем сведения ее к издержкам можно только применительно к состоянию равновесия, представимому теоретически, но практически недостижимому. Только в таком воображаемом состоянии равновесия цены и издержки совпадают. В вечно изменчивой экономической жизни этого не бывает. По этой причине безуспешна попытка Хеймана разрешить проблему, которая, как я показал, в принципе неразрешима. |
| Московский Либертариум, 1994-2020 |